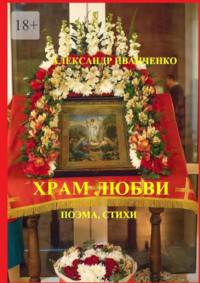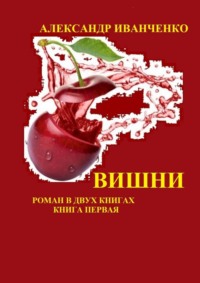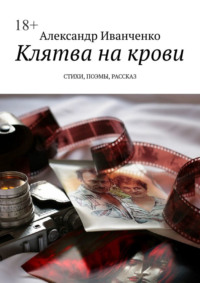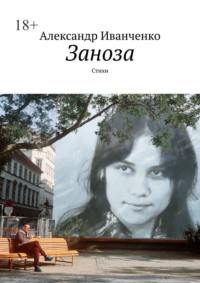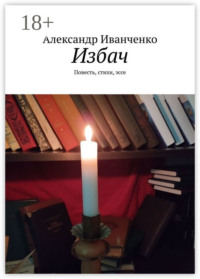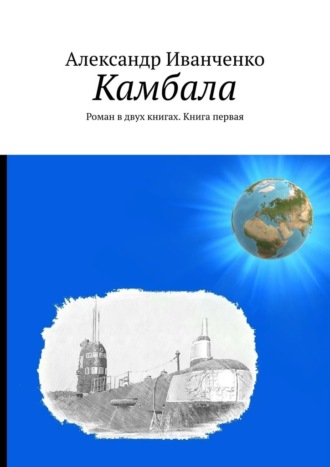
Полная версия
Камбала. Роман в двух книгах. Книга первая
На этот раз к уроку литературы, на который «Жирафа», наш учитель, так нас настращала и угрожала, что эта оценка может сказаться даже на четвертной, что к четвертому уроку класс не уходил даже по обыкновению на перерывы, все эмоционально обсуждали, какие «контрмеры» мы могли предпринять. После недолгих диспутов, даже путем голосования было решено всем до одного бойкотировать урок. Если кто останется на урок, тому будет всеобщее презрение.
Отношение к учителю и к той мере протеста, против её, как нам казалось «беспредела» было практически единогласным, с единственной разницей, что кто-то решил в школу сегодня уже не возвращаться, а таких были единицы и те, которых было большинство и я в том числе, планировали прогулять всего час, с учётом перерыва и явиться на последний урок. У нас не было в планах срывать урок того учителя, отношение к которому было у нас больше, чем здоровое.
План строили на ходу. Выйдя из школы, прошли через парк, где частично потоки распределились по группам, а основной, изъявив желание спуститься к речке Миус в районе моста, чтобы полюбоваться осенними красотами. Никаких «переборов» или «перегибов», типа «по пивку» или «по пять капель» не было. А о таких вещах, как «косячка забить», тем более «ширнуться», то мы таких понятий не знали. Слова «оттопыриться» или «поймать кайф» были не из нашего комсомольского лексикона.
Мы гоготали, радуясь «свободе», которую приобрели, хоть и ненадолго, возможности пообщаться вне школьных стен, порадоваться прекрасному дню уходящей осени. Было солнечно, но уже свежо и Наташа, живущая совсем недалеко от речки, пригласила всех на 20 минут послушать живую музыку. Она играла на пианино, я об этом не знал. Скажу больше, что то исполнение, которое я услышал в этот день, было моим первым знакомством с живым звуком клавишных инструментов.
Конечно, я знал и много раз слышал звук баяна на свадьбах, струнных инструментов, гитары, балалайки и мандолины (учительница музыки совсем неплохо владела ими), но игру на пианино вот так запросто, даже не в концертном зале, а в тесной, как говорится, дружеской обстановке, впервые. И это, я сейчас больше, чем уверен, несовершенное исполнение молодой 16-летней девушки оставило в моей душе такой глубокий след и просто отчетливое понятие, что собой представляет именно «живая музыка». Я был в восторге и радовался, как дитя. Я был счастлив, что мне предоставилась такая возможность и пусть после этого что угодно будет, но этот день я запомню на всю жизнь, даже, если я через три-пять-десять лет стану известным музыкантом.
Я не стал музыкантом и это замечательно, что ещё раньше мне «на ухо медведь наступил». Если бы не это, то и Наташины вариации для меня не были бы, возможно, тем счастливым чувством, которое я испытывал.
Мы возвращались, стараясь не опоздать на последний урок и все были в настроении, и никому в голову не могло прийти то, что нас ожидало. Еще войду в школу, мы почувствовали какое-то странное предчувствие. Поднялись на второй этаж и направились налево, в восточное крыло здания, где крайним был кабинет НВП и наш учебный класс одновременно. В классе у доски стояла классный руководитель, Надежда Ивановна, за столом сидела зауч.
Две пары глаз, бурлившие нас насквозь, без малейшего намека на «розыгрыш», что прослушивалось в «железе голоса», приказали всем остановиться у доски. Нотации были непродолжительные и в заключении прозвучало:
– Всем идти за родителями! И сегодня же, чтобы они явились сюда в школу, для того чтобы узнали, что творят их дети, на которых они, наверняка возлагают надежды.
Кто-то дернулся за портфелем, но его движение резко оборвали окриком со словами:
– Портфели вы заберёте только тогда, когда придут родители. Без родителей вам и завтра в школе делать нечего.
Возможно, что те, кто, забрав портфели и не явились вообще на последний урок, были самые несерьезные ученики, от которых педагогический коллектив школы не возлагал надежд и могли ждать всего, чего угодно, были самые, как бы сейчас сказали «прошаренные». Но, уверен, они тоже этого не могли предусмотреть, так как могли и без общей акции «неповиновения» уйти с последнего урока, как не раз это делали.
Но, а мы, костяк, даже так можно сказать класса, а ни у кого не нашлось прозорливости предвидеть «подводные камни». Нет, не были мы Алёшиными, Корчными или Спасскими и не могу просчитывать ситуацию больше, чем на два хода. Как говорят, «каждый опыт и неудачный – есть опыт, который чему-то учит».
Мы хотели преподать урок учителю и преподали. Какими были оргвыводы на педсовете или общем собрании учителей школы, мы не знаем, но то, что наш, тихий, без шума и крика протест в форме игнорирования учителя, путём срыва урока, рассматривался там однозначно.
В тоже время мы получили свой «внеклассный» урок и тоже сделали выводы, каждый свой и в меру своего склада ума, характера, темперамента и эмоциональности, в зависимости от пытливости юношеского мышления и умения анализировать факты и делать правильные выводы. Это вам не «матанализ», господа. Это больше. Это первая попытка протеста против того, что, по нашему мнению, могло сломать нас, как личность и умение делать правильные выводы и стараться впредь не совершать необдуманных ошибок.
И сейчас мне приходят на ум только слова великого А. С. Пушкина:
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Как мне стыдно было говорить бабушке, что её приглашают в школу по поводу моего неадекватного поведения. И не говорить не мог, так как в этом случае мне пришлось бы ждать еще три дня до выходного, ехать домой, объяснять родителям что и как, а они в свою очередь решить вопрос с подменой на работе. Короче, мне целую неделю были бы обеспечены каникулы.
А ещё могли бы, как самого неисполнительного ученика «пропесочить» в стенгазете, тогда хоть еще неделю в школу не ходи. Целые каникулы и не осенние, а зимние вышли бы.
Долго я готовил бабушку, но она, не раздумывая, с причитаниями, но всё же пошла, причитая по дороге и спеша за мной, как она сказала:
– Веди, разгильдяй! Глаза бы мои тебя не видели. Дожилась на старости-то лет…
И хорошо и плохо было то, что беседовала с бабушкой, её давняя знакомая, ещё будучи девушкой и подружкой её старшей дочки, моей тёти Лиды.
Лет шесть, после случая с «тройкой» по русскому, я не испытывал никогда такого стыда, унижения и одновременно непонятного чувства, которое толкало меня взять «последнее слово» для оправдания, перед вынесением вердикта «суда», но зная, какая может быть реакции бабушки, не стал испытывать судьбу. Стойко перенес и принял, как доброе все порицания и когда у меня спросили, если что сказать, не стал оправдываться и обвинять кого-то, а ответил кратко:
– Постараюсь совершать поступки, за которые, бабушка, вам краснеть не придётся, как мне подскажет совесть.
За комсомольскую честь и совесть, о которой мне напоминали, речи не шло. Я говорил о своей гражданской совести, гражданина Великого Советского Союза, будущего строителя коммунизма, до построения основ которого, если можно было верить девизам Н. С. Хрущева, оставалось 10 лет.
Во, заживем, – думал я ещё, когда в учебниках появились красивые, обещающие картинке, где говорилось о бесплатном обучении, здравоохранении, проезде на транспорте, продуктах питания, все должны быть обеспечены жильём и пр. Вот только о совести, чести и достоинстве ничего не было сказано ни слова. Ну, да ладно.
Справедливости ради нужно сказать, что наш протест всё же пошел на пользу, учительница старалась соответствовать в своих требованиям к нам в плане требований к компетенциям, предъявляемым к выпускникам школы, к тому, что мы должны знать и уметь и критериям оценок. Проще говоря, двухсторонние отношения улучшились.
С одной стороны, я понимаю учителя, если смотреть на эти вещи, применяя поговорку «За одного битого двух небитых дают». И в этом есть здравое зерно. А с другой стороны «нездоровые отношение» где бы они не возникали, никогда ни к чему хорошему не приведут, кроме негатива и взаимной неприязни.
Глава IV. «Испытания на прочность»
После того, как старший брат пришел из рядов вооруженных сил, а случилось это тогда, когда я перешел в десятый класс и рассказал об интересной службе, причём упор делал на том, какая бесподобная служба у офицеров. Он настойчиво уговаривал меня:
– Ну, что ты теряешь? Будешь одет, накормлен, служба те то, что у строевиков на плацу, подумай. Будешь сидеть где-то и командовать взводом или ротой РЛС (радиолокационные станции) и на пенсию в 45 уже выйдешь. Что ты теряешь, брат? Я бы тоже пошел, но не поступлю. А ты учишься неплохо. Не пойдешь – пожалеешь!
И уже с осени этого года, после очередной медицинской комиссии в военкомате, я, завив о своем желании, начал готовиться к поступлению. Заполнял многочисленные формуляры в военкомате, писал автобиографии и прочее. До 1 апреля нужно было уже подавать документы через военкомат. Интерес выбора именно этого военного училища был продиктован ещё тем, кроме того, что меня привлекала сама по себе радиосвязь, будь то радио или телевидение, оно размещалось в г. Новочеркасске, всего в 120 км от дома и ещё славными традициями столицы донского казачества.
Из класса у нас после окончания школы собирались поступить в различные военные училища человек 6—7, в авиационные, Рязанское десантное и другие, достоверно знаю о трёх поступивших. Но обо всём по порядку.
Сдача выпускных экзаменов и, собственно говоря, их результаты на итоговые оценки в аттестате не влияли. К сожалению, я это узнал только тогда, когда получил документ на руки. Наивный я всё же был, когда, как в спорте, думал, что сделаю финишный рывок, успешно сдав экзамены и повышу средний балл, которые стали также учитывать при поступлении в ВУЗы и военные училища в том числе.
О том, как я учился, я рассказывал. Скажу больше, порой считал лишним «выкладывать все козыри на кон», а вдруг они понадобятся позже, как бы хотел сберечь силы. Вы смеетесь. И правильно делаете, я потом над собой тоже от души смеялся.
Сдал я все экзамены школьные, кроме химии и иностранного языка на «отлично», а итоговые были всё те же «четвёрки» и даже «тройки». Средний балл чуть не дотягивал до «четверки». Но это не смертельно. Никто тогда, при поступлении знать не мог какой будет набор, конкурс на место и какой балл станет «проходным». Теперь важно было вступительные экзамены сдать не хуже школьных.
Ехали мы поступать в Новочеркасское высшее военное командное краснознаменное училище связи (НВВККУС) втроём, кроме меня, парень с параллельного класса, Петя, спортивного телосложения, что я отдыхал и паренёк из сельской школы, Лёха, этот отдыхал по форме физической подготовки и от меня, уж сильно хил казался, но комиссию прошёл, значит – «годен».
Я впервые был в Новочеркасске. До этого всего дважды был в Ростове, в 10 лет на цирк мама возила и второй раз в 14 лет, мама взяла меня в поездку к старшему брату, который служил в г. Урюпинске в войсках связи. Теперь я подумал, видимо это и есть судьба. Городом нам не пришлось долго любоваться. Всех абитуриентов собирали в с. Казачьи лагери, в 20 км от г. Новочеркасска. Туда можно было доехать и электричкой, и автобусом.
Что представляла в то время территория, на которой мы находились. Довольно просторная территория, на которой были капитальные строения: администрация или вернее, наверное, сказать, командование; здание столовой; учебный корпус; санчасть, ну и все важные объекты я перечислил. Территория была обнесена колючей проволокой, на въезде оборудована КПП.
Примерно посередине был сооружен палаточный городок, в который нас и расселили по военному расписанию: роты, взводы, отделения. В каждой палатке размещалось отделение, которому присваивался, естественно номер: «первое», «второе» и т. п. Командиры взводов были курсанты, отучившиеся в училище 2—3 года, имели уже сержантские звания и находились здесь на стажировке. Ротами командовали, офицеры, видимо преподаватели или специалисты по специальной подготовке.
Сначала всё было безумно интересно, пока не пошли дожди. А с дождями, кто находился в брезентовых палатках, тот знает, как в ней переносить дождь, жару или комаров. И не знаешь, что из всего лучше всего. Наверное, самое противное – это нашествие комаров.
За нами, если стоять лицом к КПП, располагалась река Грушевка, а слева село, откуда особенно вечерами, слышались голоса, шум, гам, лай собак и грохот техники. За КПП, чуть левее, располагался остановочный пункт электропоездов. А в ночное время можно было наблюдать за освещенными окнами скорых и пассажирских поездов в сторону г. Москва и в обратном направлении на г. Ростов и на юг.
За железной дорогой располагалась лесополоса, отделяющая её от автодороги в направление г. Шахты и г. Новошахтинска на север. Между нашим палаточным городком и ограждением из колючей проволоки был пустырь с растущими беспорядочно деревьями и в конце, напротив остановочного пункта размещался довольно густой кустарник, преобладал в котором терновник.
В свободное для подготовки время, нам разрешалось гулять по территории и были указаны ограничения куда нельзя заходить, кроме колючей проволоки. Лето, как и полагается, для южных широт, где находилась колыбель донского казачества, было знойное. Лично я различаю три пункта неразрывно связанных с рождением и развитием казачества на Дону – это в первую очередь станица Старочеркасская – основанная в начале 16 века, г. Новочеркасск, куда впоследствии перешла столица и Казачьи лагери – летние стойбища казаков, где проводили сборы казаков и военнообязанных, а также велась переподготовка личного состава.
Кроме подготовки, конечно же мы знакомились друг с другом, узнавали больше об их малой родине. Вечером, придерживаясь распорядка, собирались в кругу, где кто-то из нашего отделения прихватил из дому гитару. Вот это было истинное наслаждение. Говорили, конечно, о Высоцком, о группе Битлз, о политике, обо всем.
Засиживался с нами и взводный. И в один вечер, не сдержался и рассказал нам одну страшную историю, от которой немел разум, не желая принимать сказанное за действительное. Он начал свой рассказ с того, а что вы знаете о столице казачества. Ну, мы наперебой рассказали то, что мы знали на уровне программы предмета «Край родной», кто-то чуть больше.
– А кто знает, какие события происходили ровно 10 лет назад? Не знаете? – может и мне не стоило говорить, но, если будете язык за зубами держать, то расскажу.
Мы оцепенели. Что могло произойти, чтобы это было какой-то военной или другой тайной.
Сержант начал нам рассказывать то, что ему рассказали старшие курсанты и так по цепочке пришла и его очередь раскрыть какую-то тайну.
– В 1962 году, во время правления Никиты Сергеевича Хрущева, Совет министров предложил, Политбюро одобрило и так «по цепочке» Указ о повышении цен на продукты питания, кроме того, были приняты постановления о снижении уровня заработной плата рабочих.
Рабочие НЭВЗа, в свою очередь, недовольные этим пошли мирной демонстрацией с протестом сначала к зданию заводоуправления, а получив отказ в своих требованиях, решили обратиться в горсовет…
Мы, открыв рты слушали ту правду, которую, если кто и знал, то молчали из-за «подписки о неразглашении». Получается, что «кровавое воскресенье» было не только 9 января 1905 г., но и то, что произошло в Новочеркасске 1—3 июня 1962 г. Точных цифр убитых и пострадавших сержант не сказал, но поведал истории, рассказанные свидетелями тех страшных событий. Особенно меня покоробило даже, когда прозвучало, что в расстреле мирных граждан принимали участие сотрудники КГБ, милиции и армия.
Последнее мне врезалось глубже всего в разум – солдаты стреляли в мирных людей, те, которые стоят на защите рубежей и мирного труда народа стреляли?…
Мы понимали, что это делалось по приказу командования, но жертв трагедии никогда не вернуть и доверие к правоохранительным (как звучит хорошо) органам и военным, как вернуть?
Какая «капля дёгтя» упала в «бочку мёда», которую я ещё не открыл, а взялся открывать, думая, как это сделать лучше. После этого рассказа, какое-то время веселые модные песни не пелись, душа их не могла воспринять, была заполнена тяжелым грузом и нужно было время для его разгрузки. Постепенно рассказ про страшный события забывался и этого еще требовала подготовка к экзаменам.
Каждый готовился по-разному, я применил очень действенный вид шпаргалок, которые я готовил на точные науки, математику и физику, где важным было и для доказательств, а еще больше, при решении задач формулы. Я писал только формулы и всё. Кто-то писал шпаргалки по старинке на небольших листиках-записках, кто-то делал из лент «гармошки», они были более компактны. И я вспомнил, как наши девчата в школе писали «шпоры» ручкой прямо на бедрах, если они полненькие аппетитные, то там много чего помещалось. Оставалось только поднимать полу платья выше и им хорошо, и нам, пацанам приятно было наблюдать это «эротическое шоу» прямо на экзамене.
Я писал «шпоры» на гранях простых шариковых ручек иглой. Вы не ослышались, царапал иглой формулы. Иначе говоря, Левша, после этого просто посапывал обижено в сторонке. Сейчас не помню откуда я взял эту технологию, но она меня устраивала потому, что у меня знания были свежи хорошей подготовкой к экзаменам в школе, а это больше для уверенности и, не дай Бог, если растеряешься в такой новой обстановке.
Вот сейчас сижу и думаю, как можно было писать на гранях, шириной не более пяти миллиметров иглой, которая, наверняка дрожала в руках и вонзалась в левую руку, которой я её держал, «двухъярусные формулы», но получалось же. Жаль, что такой шедевр не сохранился для потомков.
Распорядок у нас был, конечно, военный: подъем, время на туалет, физзарядку, строем на завтрак и обратно, … Не помню через сколько дней был первый экзамен, но весь процесс сдачи продлился 3—4 недели.
Первым и самым волнительным, потому что в таких условиях и для достижения заветной цели были впервые. Здесь много значил настрой. Честно скажу, что волнения были, но я был в себе уверен. Когда брал какой-то устный вопрос, к примеру, мысленно отвечал на него, а потом открывал учебник и сверял или для контроля просил кого-то уделить мне пару минут и был доволен результатом. Это меня и успокаивало.
На экзамен шел уверенным. Но на первый всё-таки волнение было естественно, сравнительно небольшое. Математику письменно написал блестяще. После того, как сдал работу, только подмена её могла испортить мне оценку. Когда объявили результат: у меня «отлично», у Лёхи «удовлетворительно», у Пети «неуд». Петя с нами распрощался, пожелал удачи и уехал в родной Матвеев Курган. Мы вдвоём продолжили «забег».
Второй экзамен подкосил Лёху, после «шарабана» по устному экзамену по математике, я проводил и его домой. В наших палатках появились свободные места и по лицам некоторых из них читалось такое же беспокойство, как у участника розыгрыша лотереи – выпадет или не выпадет счастливый шар. Но в экзамене присутствует лотерея только в том случае, если успел, скажем вызубрить половину билетов и мечтаешь, чтобы именно те вопросы попались. Но, теорию вероятности никто не отменял, счастливчики были, но все больше тех, как и в настоящей лотерее, выпадал лишь «бублик». Моя уверенность укрепилась, после второй «пятерки».
Немного отступлюсь от экзаменов и расскажу какие нас еще ждали испытания, кроме них. Кто помнит, в СССР в 1970 году свирепствовала эпидемия холеры. Много случаев было в южных городах страны, в Одессе, Херсоне, Астрахани. Не помню, где заразился, но умер в г. Таганроге летом этого года на 45 году жизни Герой Советского Союза, уроженец моего село Парамонов Павел Денисович. Почему я об этом пишу подробно. Есть два «потому что». Первое, когда я буду через несколько дней писать сочинение я выберу тему о Героях земляках.
А о второй причине расскажу еще подробней.
Мне предстояло пройти ещё одно испытание, и оно совершенно не связанно напрямую с экзаменационными испытаниями, но так или иначе повлияло итоговый результат, однозначно.
Хоть и прошло со времени тех страшных событий, холеры в южных городах страны. А то, что эпидемия не разнеслась, как в настоящий, насущный и тревожный момент с пандемией коронавируса, в этом огромная заслуга советской медицины и оперативность принятия организационно-административных мер на всех этапах и инстанциях.
Вот действительно, могли же оперативно принимать меры в те, «застойные», как привыкли говорить времена. Мне кажется (креститься не буду), что случись эта пандемия в те годы, с ней бы покончили так же быстро, как и в Китае.
Не беру Китай. Южная Корея в этом году может быть примером, как нужно бороться с эпидемией. В первую очередь ответственное поведение граждан – часть культурной традиции, когда каждый помнит о личном пространстве другого и старается поступать так, чтобы не нарушать общественную гармонию. Такой образ мысли очень помогает во времена кризисов, потому что диктует поведение во имя общего блага. Во-вторых, их высочайшая компьютеризации не только процессов, но и всех жизненных аспектов граждан.
Упаси Бог, если что-то у них, как и в Китае, ослушается и нарушит рекомендации Минздрава или, как у нас Роспотребнадзора. Их ждёт неминуемое и незамедлительное наказание. Неважно, денежным штрафом или сроком заключения. Важна великая сознательность граждан. Как у нас сейчас, вы сами все видите и знаете.
Возвращаюсь в лето 1972 года. Казачьи лагери. Возможно, опасаясь возобновления эпидемии холеры или дизентерии, на всей территории лагеря, кроме информационных бюллетеней развешенных везде и всюду, нам постоянно проводили инструктажи и напоминания, что «льзя», а что «ни-зя».
В чём заключались «ни-зя»? Нельзя было принимать передаваемые каким-то образом на территорию лагерей передач со свежими овощами и фруктами. Мыть руки необходимо было только в общих рукомойниках, установленных на улице и имеющих общую емкость, приподнятую для создания самотёка и множество точек для умывания с пимпочками, замыкающими конусной частью истечение воды, а ниже располагалось под уклоном корыто-желоб для стока воды. Всё вспомнили, если были в те далёкие времена в пионерском лагере, там тоже такие устанавливали.
Но важно то, что умывальник пополняли водой и при этом не забывали обильно добавлять туда хлорку. Хлоркой пахло, если можно так назвать запах и действие на глаза, выедая их буквально. Но это цветочки. А ягодки в том, что нам запрещалось пить какую-либо воду вне питейных бачков. Многие помнят оцинкованные 40 литровые емкости, с установленным в нижней части краном. Туда заливалась вода для питья и тоже бросали изрядное количество хлорки, и никто не задумывался над дозировкой, насыпали по принципу «кашу маслом не испортишь».
Я вспомнил тот отвратительный вкус и запах, меня передернуло от этого и стошнило. Жара невыносимая, пить хочется и пили, конечно. Не буду судить, чего в этом больше; вреда или пользы, но выжили же.
К нам уже предъявлялись требования, как и к военнослужащим, с той лишь разницей, что они приняли присягу, а мы нет. Но это правильно, нужно было постепенно приучать к воинской дисциплине, азы которой мы уже прошли на занятиях в школе по начальной военной подготовке (НВП). И, если к тем знаниям, добавить те, что мы получили за месяц пребывания в лагерях, то слаживалось уже, хоть смутное, но преставление о будущей службе в рядах ВС СССР, хотя бы рядовым.
А время неумолимо двигалось вперёд. Мы здесь начали себя представлять, как в соревнованиях «на выживание», подобно популярным на телевидение играх «В порт Бояре» или «на необитаемом острове». И это добавляло в кровь адреналина, бесспорно.
Физика была моим любимым предметом и я шёл на экзамен, поднимая дух моим товарищам, подбадривая их тем, что «половина пути позади, нужно собраться, без волнения, так как волнение – плохой помощник на экзамене» и мы строем, кто, как на праздник, а кто, как на эшафот шли в учебный корпус, где нам, хоть и привычно по устному экзамену по математике, нужно было вновь в режиме, как сейчас говорят «онлайн» доказать экзаменатору свою пригодность к освоению новейших образцов военной техники.
Я не был излишне самоуверен. На первых двух экзаменах, если и присутствовало волнение, то из-за неизвестности процесса, новой обстановки, требовательности экзаменаторов и критериев к оценкам, а вдруг они завышенные намного, чем для школьников-выпускников в школе.
Оказалось, что здесь тоже люди сидят на стульях экзаменаторов, только в военной форме и погонах с различным офицерским званием, чаще старших офицеров. Экзаменатор, которому мне выпало объяснять устные вопросы и ход решения задачи, а затем без запинки ответить на 3—4 дополнительных вопроса, улыбаясь, без раздумий поставил в ведомость оценку «5», спросив, как-бы не по уставу: