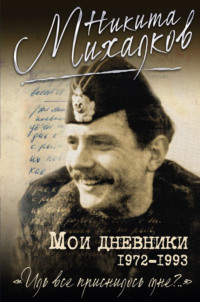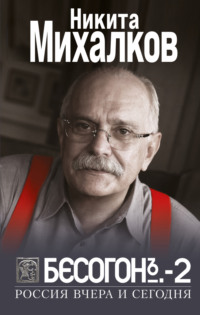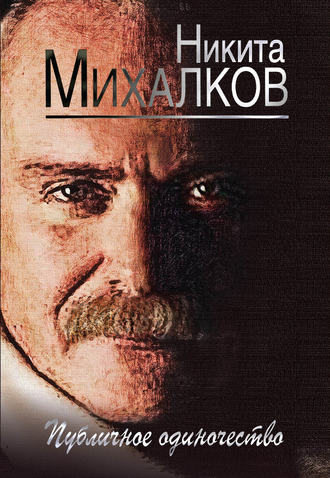
Полная версия
Публичное одиночество
(2003)
Мне дали видеокассеты с «Бригадой». Это – профессионально.
Ну и пусть, что сериал снят о бандитах. Другое дело, какой вывод люди сделают. Но его-то надо делать не из фильма, а из того, как, например, работает Госдума, как депутаты между собой разговаривают, кто становится «народным избранником».
Давайте представим себе, что мы запретили «Бригаду» и больше не снимаем такое кино. Это поможет только тем, кто вуалирует свою непорядочность и работает «уличными» методами. Я предпочитаю, чтобы «Бригада» была только в кино, а не на улице. Наивно полагать, что если бы «Бригаду» не сняли, то ситуация сразу исправилась бы. А если начнут делать плохие фильмы про хороших, добрых людей, то будет только хуже. (I, 99)
«БУЛГАРИЯ» (2011)
Гибнут люди, тонет корабль… Человек выходит в плаванье с людьми на корабле, который не готов, который не имеет лицензии. Возникают вопросы: виноват капитан, который это делает? Наверное, да. Но он за это расплачивается своей жизнью. Виноваты ли те, кто ради наживы выпускает такой корабль в рейс и рискует людьми? Да, конечно.
Ну а люди, которые видят с другого корабля тонущих и проходят мимо? Почему?! Почему так происходит? Почему то, что называлось состраданием, то, что было одним из главнейших качеств русского человека, вообще русского общества – оно исчезло.
Отчего? Отчего мы так любим смотреть мерзости по телевидению про других людей? Почему мы с удовольствием читаем откровения криминально-интимные, питаясь этим?
Конечно, разговор не о том, чтобы лакировать действительность, как при советской власти, и рассказывать о наших трудовых подвигах и победах… Я про другое – почему мы не хотим этих побед, почему нам не интересно побеждать, почему мы разъединены в добром и объединены в дурном?
Понимаю, кто-то скорее всего скажет: «Это Медведев, Путин, олигархи…» Все, что угодно, можно сказать. Но ведь мы же понимаем, что довольно унизительно про себя самих считать, что нами настолько руководят правительство, государство и олигархи, что уже нет силы внутри себя, чтобы противостоять этому безбожью и отсутствию сострадания?
У меня нет готового ответа… Хотя, может быть, и есть, но он не окончательный.
Почему так получилось – это понятно. Но я хотел бы сегодня этот вопрос всем нам задать и подумать о том, каким образом нам всем из этого выходить, причем, по возможности, без крови… (XV, 61)
БУНИН ИВАН (2001)
Бунин сегодня писал «Антоновские яблоки», а завтра писал одиннадцать страниц «Cолнечного удара». Да?!
Из ничего? Из ничего! Вот я советую вам: когда-нибудь возьмите и перепишите (я попробовал это сделать – взять и переписать), просто от руки перепишите «Солнечный удар».
Почему там слова так расставлены, тут запятая, что это такое, из чего все произошло, что происходит? Мужчина встретил даму на пароходе. Они понравились друг другу. Сошлись. Провели любовную ночь. Утром она уехала. Потом он ходил бессмысленно по городу, ждал вечернего парохода. Ел холодную ботвинью, выпил водку. Жара. Мухи. Вернулся в этот номер (он уже убран). Нашел шпильку… «Поручик сидел… чувствуя себя постаревшим на десять лет».
Все. Больше ничего! Но это сделал Бунин. И это волнует так, что ты не знаешь почему… Там нет ничего: ни убийств, ни острого сюжета, ни измен – ничего; просто выхваченный образ, да?
Но это образ художника. Это Бунин. Это гений. (V, 6)
(2004)
Вопрос: Вы хотели снять фильм по рассказам Бунина. Есть еще эти планы?
Да, я хотел поставить фильм по рассказу «Солнечный удар». На одиннадцати страницах изложена такая глубина духа, трагедии, счастья, одновременности и бесконечности…
Честно вам скажу: если бы я был уверен, что я хотя бы на шестьдесят процентов смогу передать это на экране с последней фразой: «Поручик сидел… чувствуя себя постаревшим на десять лет», то уже снял бы.
Даст Господь, дозрею. (I, 104)
(2010)
Чем больше я читаю Бунина, тем яснее вижу его как человека. Невозможно описать некоторые вещи, если сам их не испытал. Это относится и к «Солнечному удару», и к «Окаянным дням». Когда я улавливаю живого Бунина, это вызывает у меня просто дрожь. Не знаю почему.
Сейчас у меня практически готов сценарий «Солнечного удара», но я шел к нему тридцать пять лет. Переписывал рассказ от руки, хотел понять, как это сделано, как именно эти слова складывались в таком порядке…
Я считаю Бунина величайшим писателем и не перестаю удивляться, что же это было за время, когда он в череде других не был первым. (XV, 46a)
БУРБУЛИС (1993)
Пожалуйста, послушайте этот текст: «Важные проблемы, встающие в ходе уяснения места и роли сознания в коммунистическом воспитании человека, могут быть осознаны только с позиций марксистско-ленинского обществоведения. В частности, задача формирования научного материалистического мировоззрения в условиях современной идеологической борьбы, обеспечивая единство знаний и убеждений в словах и делах, о которых говорилось на XXV и XXVI съездах КПСС, не может быть рационально и конструктивно осмыслена без обращения к методологическому арсеналу материалистической философии…»
Я не буду продолжать цитировать, потому что я ничего не понимаю, что здесь написано… Здесь важно другое…
Как вы думаете, кто автор этих строк?! Думаю, что можно было бы назвать много народу, начиная от Генерального секретаря ЦК КПСС, секретаря обкома и так далее, и тому подобное. Но эти слова принадлежат философу-марксисту, и зовут его Геннадий Эдуардович Бурбулис. А написаны эти слова, этот реферат в 1981 году.
Причем написан он не под пистолетом, не в пыточной, не в тюрьме, не в одиночке, не в кандалах, не на галерах, не под страхом быть разжалованным или изгнанным. Совершенно осознанно написаны эти слова человеком, который строил свою жизнь и свое будущее именно на марксистско-ленинской философии. И практически тот кабинет, который он занимает сегодня, это было бы будущим, могло бы стать будущим господина Бурбулиса, если бы не случилось перестройки. Но парадокс заключается в том, что и сегодня он занимает этот кабинет, тот, который мог занять, продолжая развивать мысль марксистско-ленинской философии. Но он занимает его с другой стороны, видимо, потому, что Земля все-таки круглая…
И сегодня он говорит: «Нас… конечно же, объединяет не чувство безысходности, а чувство победителей над этим, достаточно унизительным руслом – советским, коммунистическим. Богатейшая страна, талантливейший народ оказались в тупике мировой истории, понеся при этом конечно же плату за все человечество».
Ну и как вам это?! (V, 1)
В
ВЕРА (1991)
Интервьюер: А Вы сами верующий человек?
Да. Я православный христианин. Плохой, к сожалению…
Не соблюдаете обряды?
Нет, я стараюсь соблюдать пост, но все равно я неграмотен в этом смысле, как и огромное количество людей.
Меня интересует, не приходится ли Вам преодолевать какое-то внутреннее препятствие для того, чтобы, скажем, перекреститься в церкви?
Абсолютно нет. Меня это смущало, когда обо мне говорили как о сыне Героя Соцтруда поэта Михалкова. Или как о начинающем артисте. Дескать, он в церковь ходит…
Но вот, скажем, сейчас я почти полгода жил в Париже и чуть ли не каждое воскресенье ходил в православную церковь. Самое печальное, кстати говоря, это когда люди теряют ощущение того, где они находятся. Когда у тебя просят в церкви автограф – это просто немыслимо, это означает какую-то полную потерю духовного слуха, это катастрофа. (I, 37)
(1992)
Интервьюер: Вы всегда были верующим человеком?
Да, хотя я очень боялся за отца, когда ходил в храм. Но это воспитание матери, духовный мир которой был связан с православием. Мои дети пели в церковном хоре. Младшая пятилетняя дочь на вопрос, что самое важное в жизни, отвечает: «Терпение», а что самое трудное: «Богу молиться».
Это действительно труд – большой, требующий огромных усилий.
У Вас есть любимый храм в Петербурге?
Да, Никола Морской.
Почему?
Не знаю. Может, еще из Достоевского, когда Раскольников выбежал из подворотни, и эти купола ослепили его. Когда я снимал «Обломова», из окна Захара был виден Никольский, и я часто ходил туда во время съемок.
А в Москве?
На Неждановой, Питиримовский. Это была любимая церковь моей матери. (I, 43)
(1994)
Я верующий человек.
Хожу в церковь в Брюсовом переулке и в маленькую церковь в деревне
Аксиньино. Ее разрушили много лет назад, сейчас вернули людям, и уже через три дня там шла служба, хотя в куполе зияла огромная дыра… (I, 57)
(1994)
Когда у человека есть корень, есть Вера, есть Надежда, Любовь и мать их София, то бишь мудрость, то он ищет ответы на экстремальные вопросы именно в этом.
Когда у него этот стержень вынут, ситуация обычно развязывается кровью и насилием. (I, 57)
(1997)
Основой культуры в России всегда был не этикет – умение правильно держать вилку и эстетично одеваться, – а вера.
Православная вера…
И это было принципиально важно. Это держало, цементировало общество… (I, 68)
(2000)
Интервьюер: А что такое детская вера, точнее, домашняя вера, идущая из детства?
Это мама.
Мы ежедневно читали утренние и вечерние молитвы и 90-й псалом
«Живущий под кровом Всевышнего…», а каждый Великий пост, как и положено, перечитывали все четыре Евангелия.
Отец никогда этому не мешал. Но и не фарисействовал: мол, дома – православие, а на партсобрании – персональные дела за религиозные пережитки. Все было поставлено таким образом, что мама оберегала отца от всего того в нашей жизни, что было связано с церковью. Когда приходил духовник, который исповедовал нас и причащал, отца, как правило, не было дома. И он никогда не вступал в спор по поводу веры, хотя по всем остальным вопросам (коммунизм, Брежнев) в семье были кровавые битвы…
Мама (она была беспартийной) тоже никогда ничего не навязывала и не делала из религии культа. Все шло само собой. У мамы был прекрасный вкус и замечательное чувство меры, которые гарантировали от пошлости.
Дома вера была в безопасности, но я знал, что для внешнего мира – это подполье. И когда я уходил в армию, а мой духовник подарил мне замечательный образ священномученика Никиты, я прятал его, зашивал в вещи. Всегда было ощущение двойственности и огромного страха. Я с ужасом думал о том, что папу выгонят из партии, а меня – из комсомола.
Ощущение постыдное, но оно было.
Я помню себя восемнадцатилетним на Пасху в храме Воскресения Словущего на улице Неждановой, помню ужас от того, что мне даже в храме перекреститься было очень непросто.
А для моих детей это уже совершенно естественно. Когда мы как-то в Питере зашли на службу в храм Николы Морского, наш шестилетний Тёма исчез. Я нашел его среди нищих, он сидел у одного из них на коленях. Такой абсолютный выплеск чувств, и никакого страха, что за это что-то будет.
Меня это поразило. Мое чувство страха усугублялось еще и тем, что профессия моя публичная, многое на виду, многие узнают. Мне это всегда мешало, особенно на службе, где и так довольно трудно бывает объяснить себе, зачем это делаешь.
Зачем стоишь на службе, молишься, читаешь Евангелие?
Конечно, со временем этот вопрос отпадает сам собой. Потому что каждый раз открываются совершенно невероятные вещи. И это всеобъемлюще: Господь дает тебе именно в эту минуту услышать то, что является ответом на твой вопрос, и ты как будто впервые слышишь слова, которые, казалось бы, давно знакомы.
Вот! Вот он, ответ!
Скажем, после выхода новой картины искушения просто наваливаются. Вдруг в Евангелии от Матфея читаешь притчу о зависти: помните, работники в винограднике, нанятые хозяином, пришли получать плату за свою работу. И первые говорят: мол, как так? Мы работали с раннего утра, а эти последние работали один час, а получают столько же, сколько и мы.
И хозяин им отвечает: вы не о том беспокоитесь, что я вам мало плачу, а о том, сколько я им плачу.
Прочитаешь такое, и все так ясно про себя становится! (II, 34)
(2000)
Интервьюер: Вы ощущаете себя молодым христианином?
Нет. Ни молодым, ни старым. Это действительно как воздух. Наверное, поэтому для меня сейчас уже мучительно провести месяц без исповеди. Такое ощущение, что не мылся.
При этом я никак не могу считать себя ни праведником, ни исполняющим заповеди в том виде, в каком это необходимо…
А тяжело жить по вере, с верой?
С верой нет, а по вере тяжело. Тяжело от осознания, а легко тоже от осознания.
Наверное, любой из нас, особенно в молодые годы, ищет разного рода оправдания. Но я думаю, что самое опасное – это оправдание гордыни.
Одно дело – быть лучше других, другое – просто лучше. Быть лучше других совсем не трудно, ведь всегда найдется кто-то хуже тебя: ты причащаешься раз в неделю, а он раз в месяц, ты постишься в среду и пятницу, а он только в Великий Пост…
Но вот стать лучше – трудно, так как неизмеримо труден путь осознания греха в самом себе, а не в сравнении себя с другими. (II, 34)
(2000)
Интервьюер: Как взаимосвязаны ваша вера и ваш кинематограф?
Я думаю, что сегодня не должен в своих фильмах впрямую говорить о Боге. Так же уверен, что нельзя играть Христа.
Ну как это? Артиста гримируют, и он в гриме Спасителя сидит на стуле и пьет кофе.
А вот если Он действительно в тебе, то, что бы ты ни делал, Его присутствие во всем сделанном тобой будет очевидно. При этом (хотя я не беру на себя смелость это утверждать, так как не богослов и не проповедник) я считаю, что в искусстве отражение всегда сильнее воспринимается, чем прямая авторская декларация.
Например, в «Казаках» Толстого ощущаешь его живую веру намного сильнее, чем во всех его философско-дидактических произведениях позднего периода, в которых он пытается объяснить читателю, что такое Бог.
Невидимость и неосязаемость Его присутствия во всем и вся – вещи всеобъемлющие и всепроникающие. И если Господь сподобил тебя видеть Божий мир открытыми глазами и передавать другим свои (пусть самые малые) откровения, то ты должен понимать, что Он тебя именно на это подвигнул, а вовсе не на проповедь.
Например, в «Детстве Обломова», где нет ни одного прямого разговора о Боге, Обломов вспомнил давно умершую и горячо любимую мать, и на его ресницы «выкатилась слеза и стала там».
И все.
Для меня это и есть молитва.
А что может быть в искусстве больше этого? (II, 34)
(2000)
Розановская фраза: «Человек без веры мне неинтересен» когда-то поразила меня своей резкостью, а потом я понял, что в ней есть такая правда!
Потому что человек так или иначе пытается восполнить отсутствие веры знанием. А знание без веры только умножает скорбь внутри человека.
Как только вы задаете себе вопрос: «А есть ли Бог?» – все. У верующего человека таких вопросов не должно быть.
Как же без Бога? Зачем тогда жить?
Я помню, в Вологде, на пресс-конференции, встает молодой человек, бледный, издерганный, в таком шарнирном, нервическом состоянии, и говорит: «Может ли быть такой человек: хороший, честный, образованный, благородный, который помогает другим, который умеет слушать, умеет любить, но не верит в Бога?» – «Может! – говорю. – Но он мне неинтересен».
У меня просто вырвалась эта розановская фраза.
И она его убила, потому что он говорил про себя. Это он верный семьянин, он образован, он помогает родителям, а вот веры нет.
Я, наверное, потряс его своими словами…
Когда в одиннадцать лет я по частям печнику Давыду продавал свой велосипед, доставшийся мне от старшего брата, то никак не мог понять, почему весь велосипед он покупал у меня за семь рублей, а если по отдельности (втулки, цепь, руль), то чуть ли не за шестьдесят.
Тот молодой человек из Вологды разложил свою жизнь на добродетели, которыми был полон. И в его сознании не укладывалось: раз он не крадет, не прелюбодействует, зарабатывает деньги своим трудом, то разве такая малость, как отсутствие веры, может сделать его человеком неинтересным?
Я не пытался, но вряд ли, даже если бы попробовал, сумел бы объяснить ему, что никакая из его добродетелей не интересна мне сама по себе. (II, 34)
(2003)
Человек без веры неинтересен – это мысль русского философа Василия Васильевича Розанова… она бытует во всей русской культуре, будучи связанной не только с православием, но со всеми религиями.
Я думаю, что в России любое метафизическое вероисповедное начало (независимо от религии) имеет огромное значение… Произведения Достоевского, Толстого или Чехова, даже если в них не говорится напрямую, так или иначе основаны на этом. (I, 97)
(2005)
Как только вы начинаете пытаться понять веру, то тут же перестаете верить.
Почему, как мне кажется, Всевышний перестал являть чудеса, как это было в IX–XI веках? Потому что ему стали говорить: «Ты покажи, тогда я поверю». (I, 118)
(2008)
Интервьюер: Вы всегда открыто говорите о своей вере. Даже имя свое трактуете не только как «победитель», что понятно – корень греческий, но еще и «бесогон». Почему «бесогон»?
Есть икона «Святой Никита, изгоняющий бесов». В святцах несколько Никит, мои именины как раз выпадают на бесогона. На меня подали в суд и требовали моего медицинского освидетельствования, когда я на прошлом съезде Союза кинематографистов сказал с трибуны: «Ребята, я же слышу, как вы там копытцами по углам щелкаете и хвостами о ножки стульев бьёте…»
Не боитесь, что Вас назовут не бесогоном, а мракобесом? Корень один, но смысл разный…
Да пусть называют. Чем больше клевещут, тем чище душа. Это не мои слова, это мне священник однажды сказал.
Кстати, как результаты освидетельствования?
Здоров. Даже слишком. (I, 129)
(2009)
Интервьюер: Вы глубоко верующий, православный христианин…
Да, хотя Библию так до конца и не дочитал.
Вера – это же как душа: или она есть, или нет… Недавно я был на фестивале военно-патриотического фильма имени Сергея Бондарчука в Волоколамске, и меня там спросили: «Вы не хотите снять православное кино?» – «Это какое? – я удивился. – Чтобы в кадре были церкви, монахи?»
Я не знаю, как помогает мне вера, – знаю только, что без нее нельзя… (I, 137)
(2009)
Православная вера давала русскому человеку ощущение нравственности и закона, а мы, славяне, законов не любим, терпеть их не можем.
Знаете почему? Очень скучно по ним жить, тоска! Ну день, два, ну месяц, а дальше: «Ой, не могу уже так!»
Об этом, кстати, мы говорим и в картине «12». (I, 137)
(2012)
Вопрос: Что Вас питает, каков внутренний подток?
«Блажен, кто верует, тепло ему на свете…» Чудо веры в том, что ты никогда не чувствуешь себя одиноким. (I, 160)
Вера, Надежда, Любовь
(2002)
Вне зависимости от того, как изменился мир за эти годы, рано или поздно, хочет того человек или нет, Бог ставит перед ним вопросы самые простые, одинаковые для всех, вне зависимости от образования, социальной принадлежности или вероисповедания, и человек на эти вопросы должен отвечать. В конечном итоге от того, как он ответит, зависит, каким этому человеку быть и что он оставит после себя.
Для России эти вопросы умещались в три понятия, в три женских имени – Вера, Надежда, Любовь: во что и в кого ты веришь, на что и на кого надеешься, что и кого любишь.
И как бы ни изощрен был мир сегодня, эти три силы являются основой в защите бытия перед небытием. (II, 41)
ВЕРОТЕРПИМОСТЬ
(1993)
В России, когда принималась присяга в Александровском училище или в любом военном Пажеском корпусе, при принятии присяги был и священник православный, и мулла, и ксендз, то есть это было едино – все принимали присягу на верность Царю и Отечеству. Каждый представитель своей конфессии.
Русский офицер всегда был русским офицером, вне зависимости от своего вероисповедания и национальности. Но самое главное, существовали некие законы, которые были выше законов человеческих. И это было самое главное. И это была идеология. И это был сдерживающий центр.
Как только это разрушилось – все стало возможно…
И тогда возникло то, о чем говорил Александр Сергеевич Грибоедов: «Колебание умов ни в чем не твердых». (V, 1)
ВЕРЕВОЧКИ
(2001)
Веревочки… Как сейчас помню. В Столешниковом переулке, в самом знаменитом магазине пирожных, стоит тетка за прилавком, которая пирожными торгует и кладет тебе в коробку «корзиночку», «картошку», а ты стоишь и предвкушаешь удовольствие… Наконец она закрывает все это крышкой, завязывает, а потом начинает с кем-то разговаривать и навязывает, и навязывает узлы.
Вяжет она и вяжет, а я думаю, мама родная, что же ты делаешь…
Ведь привезу я эту коробку, которую ты завязала, наверное, узлов на сорок, домой. И что?
Казалось бы, возьми ножницы или нож, разрежь веревку, и все. Ан нет. Нам с сестрой и братом дома категорически запрещалось резать бечевки и ленты, которыми были завязаны покупки и подарки. (Я помню, на кухне в буфете открывался ящик, и в нем лежали пробки, на которые были намотаны эти самые ленточки и веревки.) И вот ломались ногти, доставались иголки, чтобы все это поддевать и разворачивать.
Для чего? Почему?!
А потому, что, как говорил Серафим Саровский: «Паче поста и молитвы есть послушание». Это была для нас настоящая школа, урок – всегда доводить начатое дело до конца.
Вот и раскручивали мы эти веревочки. За это время много чего передумаешь. Даже и пирожное есть порой расхочется, пока эту коробку развяжешь… (V, 6)
ВЕРТИНСКАЯ АНАСТАСИЯ
(1993)
Я влюбился в нее, посмотрев «Человека-амфибию»…
Она была очень красивая. Когда я поступил в Щукинское училище, уже выходил ее «Гамлет» со Смоктуновским. Там была невероятная история… хотя ничего невероятного в ней нету. Я не знаю, любила ли она меня когда-нибудь так, как я в нее был влюблен. В тот момент у нее был такой выбор! Такой пасьянс лежал перед ней… Она могла снять с полки любого. Именитость ей была не нужна, она сама была дочкой Вертинского. Фамилия Михалков не могла произвести на нее впечатление.
Я мучительно был влюблен, мучительно. И мучил ее, наверное, всякими звонками, ревностью. И наступил момент разлада, мы расстались.
Я уехал из Москвы на пробы. У нас была близкая подруга, Лена Матвеева, замечательный человек, балерина. Мы с ней, когда я вернулся, пришли на день рождения Вани Дыховичного, а компания там была веселая: Вика Федорова, Полянский, Дыховичный. И туда пришла Настя с Андреем Мироновым. Я сидел наискосок от нее за столом… И дальше очнулся на лестничной клетке – в поцелуе с ней. Она меня увела оттуда – дело не в том, кто кого увел, но было ясно, если бы она этого не захотела, никогда бы в жизни ничего не было. Во мне не имелось той силы, обаяния и тех возможностей, которые могли ее сломить. Она ко мне приспустилась, снизошла. Я помню как сейчас ощущение того электричества, которое возникло. Должен сказать, не вдаваясь в подробности, что у Насти мужской ум и мужской характер…
Мы прожили вместе три года, но вместе-вместе – полтора. Известие, что она беременна, меня так обрадовало: теперь «не соскочит», не уйдет. Это подтверждает, как я безумно был влюблен. У нас родился сын. Потом его воспитывала бабушка, ее мама, и мне было мало знакомо ощущение отцовства. Я думал, что, может быть, это наследственное…
Настя ни разу в жизни не дала мне понять и почувствовать, что она мною восхищена или что ей нравится то, что я делаю… В общем, я так и не научился быть тем, кем она хотела меня видеть.
Сначала я пытался, потом бросил… (III, 2)
(2000)
Интервьюер: Пожалуй, единственная неудача в вашей жизни – это ваш первый брак с Анастасией Вертинской, с которой Вы вместе учились на одном курсе в «Щуке»…