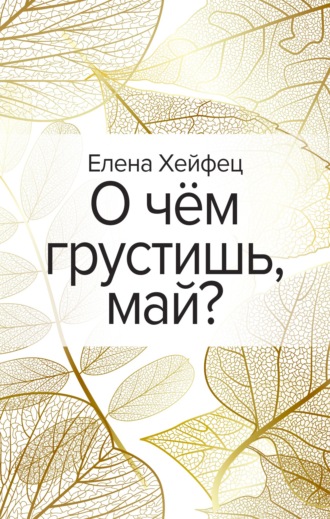
Полная версия
О чём грустишь, май?
Когда Римма приходила, соседка подробно расспрашивала её про Костю и радовалась, что у неё появился интерес к жизни.
Вдруг письма от Константина стали приходить реже, а потом совсем исчезли на целую неделю.
Римма не думала, что ей будет так тяжело.
Вечером, вновь не найдя в ящике конверта со знакомым почерком, она пошла к соседке время скоротать, огорчением поделиться. Оказалось, что старушка прихворнула и на улицу не выходит, уже неделю в постели лежит. Сели чай пить, а потом Римма встала и к окну подошла. В Дусином окне был другой пейзаж, её окна выходили на соседнюю улицу, где двигался транспорт и шагали люди. Римма стояла и смотрела, как совсем рядом бьёт ключом чужая жизнь.
Вдруг её взгляд упал на лежащее на подоконнике нераспечатанное письмо. Знакомым почерком на нём был выведен адрес Риммы, её имя и фамилия. Взяла в руки. Да, это было письмо от Кости.
Она оцепенела от своей догадки.
– Что это, тётя Дуся? Что это значит? – шёпотом спросила Римма.
– Прости старую дуру! Неожиданно так получилось, но скоро ты бы сама всё узнала. Ты должна была это письмо неделю назад получить, но я вот заболела.
– Я… я, кажется, всё поняла… Нет никакого Кости… Вы всё придумали. Вы дурачили меня… Обманывали… Писали за Костю… Какая вы… злая… Как можно?..
Римма повернулась, чтобы уйти. Она была на грани обморока.
– Риммочка, стой! Костя существует! Этот обман мой – он не совсем обман, – Дуся схватила её за рукав.
– Как это – «не совсем»?
– Погоди. Выслушай меня, детка, и прости, если я что неправильно сделала.
– Не надо никаких объяснений. Мне очень тяжело. Всё кончено для меня! – ответила Римма.
– Я прошу только меня выслушать. Сядь, не уходи, ради бога!
Я человек одинокий. Сама знаешь, как тяжело одной жить. Всё время я искала, чем бы себя занять. Искала и нашла. Стала ходить в клуб инвалидов-афганцев и вести там литературную студию. Тяжело им очень. Такие ребята хорошие, но особенные. Несчастные, увечий своих стесняются, а многие из них такие талантливые! Кто-то спортом начал заниматься, ну своим… для инвалидов. Кто рисует, кто-то руками мастерит. Они находят себя в творчестве, стараются себя реализовать. Многие стихи пишут. Костя – парень замечательный. Он ничего не может делать сам, потому что он слепой. С ним всё время мать ходит, он улицы боится. Не научился ещё со своей бедой жить.
Римма сидела с мокрым от слёз лицом.
– Сдружилась я с Костей и его мамой. А тут твоя умерла. Лида меня просила тебя поддержать, чтобы её уход смягчить. Да что я, сама разве не понимаю? Ты же мне как дочь! Не сердись на меня, Риммочка.
Прости, Христа ради! Обман мой небольшой. Костя существует, я ему твои письма читаю и с его слов тебе пишу. Он счастлив, что ты у него есть. Я ему уже призналась, что у тебя ноги больные. Ты знаешь, он даже обрадовался, что у тебя есть какой-то изъян.
– А что же его мама вместо него не писала?
– Я сама предложила. Его мама простой человек. Я ведь покрасивей могла бы написать. Двоим хотела помочь – тебе и ему. Нет! Четверым. Ещё маме его и себе. Знаешь, как приятно кому-то радость дарить? Понимаешь? Всем было от ваших писем хорошо!
А твою фотографию ему мама подробно описала, и я все время про тебя говорю. Ты знаешь, что он сказал? Всё в письме прочтёшь. Он мне его сам по телефону надиктовал. Все слова там его – все до единого!
Римма не в состоянии была говорить – взяла письмо и вышла.
Дома долго не решалась прочесть. Наконец, сделав над собой усилие, открыла:
«…Римма, жемчужина моя, сегодня я решил сказать тебе правду, потому что чем дальше, тем больше терзает меня моя тайна. Я слепой и писать не могу. Война сделала из меня инвалида. За меня пишет чудесный человек Евдокия Ивановна. Я очень боялся нарушить нашу переписку. Теперь ты всё знаешь, и будет так, как ты решишь. Нужен ли тебе я такой? Совсем недавно мне не хотелось жить, а теперь хочется. Я никогда никого не любил. Не успел до армии влюбиться. К тебе я стал испытывать очень тёплые чувства, и мне кажется, что они переросли в любовь. Прости меня за мой обман. За пять лет своей беды я уже научился двигаться в пространстве и почти всё умею делать по дому. На улице меня провожает мама, но я научусь и этому.
Я знаю про тебя очень много. Мне всё рассказывает Евдокия Ивановна. Ведь ты росла на её глазах. Я знаю, как ты выглядишь, как живёшь, что любишь и какой у тебя характер. Я очень благодарен ей за тебя. Теперь я решил предложить тебе встретиться и, если я не буду тебе противен, прими моё предложение руки и сердца. На фотографии, которую я тебе высылал, я перед армией. Говорят, что я остался таким же. Только теперь не вижу…»
Когда Римма родила девочку, её решили назвать Евдокией…
4. МамАся
Cтаруха лежала лицом к стенке совершенно без сил и ждала смерти. Смерть для неё – это лучшее, что может произойти. Никого не обременять, не тревожить и не тратить деньги детей на лекарства. Пришло время – надо умирать. Ничего в этом нет диковинного, всё идёт своим чередом.
На стене перед её глазами висел вытертый от времени ядовитого цвета бархатный ковёр. Синий фон – красные розы. Ничего особенного она не нажила. Прошла молодость, красота, утрачено здоровье, иссякли силы, позади прожитые годы, которые не были лёгкими, а скорее наоборот.
С первым своим дитём Ася стала называться МамАсей, да так ею и осталась для всех своих последующих ребятишек, для племянников, соседей и мужа. К старости МамАся растеряла всю свою большую семью, оставшиеся в живых дети поразъезжались и проживали в отдалении. При ней оставался младший Колька – последыш. Родила его нежданно-негаданно в сорок семь. Растить Кольку пришлось самой, потому как овдовела МамАся, когда сынишке и годика не было. Мальчонка изначально получился неугомонный, шаловливый до крайности, вечно в синяках да ссадинах, в драках да озорстве. Никого и ничего не любил, кроме матери. Но морока с ним была постоянная, пока в армию не услали. Письма домой слал часто, а как вернулся, отправился в областной центр, в ПТУ учиться на плиточника. В городе вместо того, чтобы красиво и ровно класть кафель да радовать мать успехами, дурака валял. Учиться заленился, от свободы и безделья совсем сдурел, связался с хулиганьём.
МамАся в неделю по курице резала, отправляла сыну вместе с овощами и картошкой. Всю снедь на снятую квартиру ему привозил шофер Венька, которому по служебным делам следовало в город приезжать. Как-то он МамАсю очень расстроил своим рассказом: «Снятая Колькой квартира вся в пустых водочных бутылках; ребята, которые у Кольки ошиваются, – так это сущие бандюки, а девки просто стыд и срам – вовсе непотребные». Бросать хозяйство, ехать и разбираться с пацаном у МамАси не было ни сил, ни времени. Когда всё же приехала, было поздно: кровинушка её, последыш Колька, находился под следствием за разбой. МамАся увидела его один раз на суде, совсем чужого, погрубевшего, напуганного и жалкого. Винился, говорил про обстоятельства, даже слезу выжал. Поняла мать, что надо было его при себе держать, пусть бы в деревне работал скотником, как все. Город до добра не доводит. Душа её рвалась и мучилась, но на людях плакать себе не позволяла. Стала сына ждать, как из армии ждала. Кольке дали пять лет строгого режима. Когда вышел, головой не просветлел и скоро ещё пять огрёб. МамАся состарилась в одночасье. Старость и немощь подкрались и накрыли мерзким колпаком. Время от времени приезжали дети – Танюшка, старшая дочь, старалась в огороде всё сделать, да разве можно за выходные со всем управиться? Уезжала, плакала, жалела мать. Ваня тоже заезжал, но редко – у самого семья. Вроде бы и не далеко, в соседней деревне, но такое же хозяйство было и на его плечах, да ещё троих малолетних ребятишек растил. Валюшка жила далеко, в Сумах, и приезжала редко.
В одно и то же время лежали на своих койках МамАся и Колька. МамАся дома, а Колька в тюрьме. Лежали, и каждый свою думу думал. Оставалось Кольке терпеть пару месяцев, когда пришла ему весть, что МамАся помирает.
Кольке казалось, что мать вечная. Скучал по ней очень, жалел себя и её, но больше себя.
«Что делать?» – думал Колька. С матерью надо попрощаться. Жизнь свою стал анализировать. Оглушил тогда его город, затянули чужие мысли, свобода и безделье. Колька вспоминал мать, её натруженные руки, седые пряди из-под платка. Отца он не знал, сёстры и братья к его появлению на свет уже жили самостоятельно, и близких отношений с ними не было, не приросли друг к другу. Кольке исполнилось тридцать, это значит матери сейчас семьдесят семь. Для деревни это глубокая старость. Он не мог себе представить, как это может быть, что матери не станет. Где бы он сам ни находился, мать должна быть обязательно. В деревне, в доме своём среди большого хозяйства. Должна жить и его ждать. Как же без неё? Кому он ещё нужен? Никому! Стыд и тоска, что прожила старуха без него целых десять лет, разъедали нутро. Так закралась мысль о побеге, разрослась и требовала действия.
– Надо успеть мать увидеть. Сбечь надо, и всё тут, другого пути нет! Отсижу потом. Чего уж… – решил Колька.
Два дня думал, как этот побег осуществить, и придумал. Когда в тюрьму привозили продукты, машина стояла возле кухни где-то с полчаса. Машина большая, с брезентовым верхом. Он часто помогал её разгружать и за это получал полбуханки хлеба. Кто от хлеба-то откажется? Охрана привыкла, что Колька вечно возле грузовика трётся. И так всё легко сложилось, что сумел Колька в машину просочиться и там замереть между ящиками. Это в кино все побеги просто осуществляются. У Кольки получилось, как в кино. Даже самому странно было. Дальше в городе было труднее: долго искал, кто бы довёз до его деревни задаром. Какой у зэка вид? Неважный у него вид! Пошёл пешком. Решил в крайнем случае заночевать в поле, в стогу. Однако опять удивительно, как всё хорошо сложилось у Кольки! Подобрал его порожний грузовик. За рулём был Венька. Удивились друг другу до крайности. Стало ясно, что раньше времени едет домой осуждённый Николай Семенюк. Подтвердил Венька, что МамАся совсем плоха, не встаёт и собирается на днях отойти.
Пока трясся Колька в машине, душили его слёзы, ни о чём не хотелось говорить. Ехал и мечтал успеть мать живой застать. Чтобы обнять, уткнуться в сухонькое плечо, услышать, как сеном пахнут её руки. Он понимал, что искать его будут у матери. Может, даже быстрее обернутся, чем он доберётся до дома.
МамАся лежала, а возле неё суетились дети – Танюшка старшенькая, Валя приехала из Сум со своим мужем, Ванька тоже был рядом. Матери было совсем плохо. Силы покидали её.
– МамАся, может, хоть киселя попьёшь? – спрашивала Танюшка.
Мать не ела несколько дней.
– Не буду я. Что от Кольки слышно, кто знает? Где он есть?
– Где ему быть? На месте он, МамАся! Куда определили, там он и есть! Жив и здоров, как конь.
– Когда же придёт-то? – терзалась мать вопросом. Похоже, что забыла о его месторасположении либо вовсе мыслями запуталась.
– Ты ж сама говорила, что летом будет. Вот и живи до лета. А то, ишь, что выдумала – помирать! Это всегда можно успеть. А ты потерпи маленько, вот и дождёшься Кольки-то…
Таньке было горько, что все они – дети нормальные, любящие, – здесь, а материнское сердце терзается по этому Кольке-отморозку. Как только такой уродился! Осуждали, что позорит семью, мать в могилу сводит. Паршивец, одним словом! Страдали материными страданиями, а что толку? Стыдобища…
Колька ехал к матери и боялся только одного – её не застать…
Вспомнил с чего-то, как, будучи подростком, обнёс соседский сад. Грех был большой. Дед Егор выращивал редкий для деревни фрукт – персик. Три дерева стояли рядком. Он их обихаживал годами, и было странно, что они за его заботу дают всего по несколько плодов. А дед всё продолжал их холить, питал и поливал, в морозы укутывал газетами и разными тряпками. И вот наконец одно дерево дало урожай. Персиков было много. Егор ходил, любовался, ждал, когда поспеют южные плоды. Колька всё это прекрасно видел и знал особое отношение к этим деревьям дядьки Егора. Однако залез и снял все до единого персика. Снял недозревшими, плоды были твёрдыми, абсолютно неинтересными. Попробовав один, Колька всё выбросил. А дед Егор, обнаружив разбой, занемог. Слёг, да и помер через неделю. Колька такое дело к своему подлому поступку не относил. Помер, да и помер, время пришло. Старый ведь дед был. Так никто и не дознался, чьих рук было то чёрное дело. И только отбывая срок, вспоминал Колька деда Егора не раз. Скребло на душе.
МамАся лежала на боку и смотрела в стену. Была она в прошлом году ею белёная. Ядовитый ковёр закрывал её лишь частично.
«Надо бы перебелить, зачадилась маленько», – думала мать. Мысли в её голове ютились коротенькие, мешались в кашу. Глаза закроет, и видится ей золотистое бескрайнее поле. В нём васильки голубеют. Солнце вовсю печёт. А она с Коляшкой маленьким на руках. Или зиму вспоминает, как бегает её чадо, весёлое, да румяное с санками…
– Колечка, детка, как же ты в беду-то попал? Самый маленький, самый беззащитный! – страдала мать.
Когда подъехали к дому, увидел Колька, что возле двора стоит милицейский «бобик» с участковым Сидоровым. Колька не удивился, понимал, почему он тут стоит.
Куда ещё беглецу-дураку деваться, как не домой?
Колька открыл дверь ментовской машины и сел рядом с Сидоровым.
– Дядя Паша, будь человеком, не забирай меня сегодня! Мать помирает, я ушёл, чтобы успеть с ней попрощаться.
– Не имею права, Николай Иванович! Я должен твои правонарушения пресечь.
– У тебя у самого, что ли, матери нет?
– Раньше бы о ней так пёкся!
– Ошибки молодости, дядя Паша. Исправлюсь, дай только с матерью попрощаться. Пусть порадуется, что вернулся.
– Молодость, Коля, не оправдание! По-разному можно свою молодость проводить, а не так, как ты. Ты, подлец, материнской жизни-то и убавил.
– Дай мне сегодняшний вечер. Пусть мать меня увидит, а там что-нибудь для неё придумаю. Я завтра с утра сам приду, сдамся. Обещаю.
– Мне тебя положено обезвредить. А твоим обещаниям верить, это скорого увольнения ждать.
– Завтра обезвредишь! Ну не видал ты меня, и всё! Кто проверит? Доложи, что не обнаружил меня. Завтра сам приду. Матерью клянусь!
Во дворе залаяла собака. Чёрный злющий пёс Барсик. Мал, но сторож замечательный. Эх, как же мечтал Колька пса увидеть, стены родные, ощутить под ладонями сутулую материну спину.
Паша начал колебаться. Что-то в этой ситуации было ему не совсем понятно. Не настоящий какой-то беглец получался. Не скрывается ни от кого. Вот он – бери его голыми руками, вези в участок и послезавтра грамоту получай за бдительность, или премию. Вроде бы для Кольки и смысла сбегать никакого не было. Через два месяца должен был он явиться пред ясны очи мента дяди Паши. До свободы – рукой подать! Зачем же всё рушить?
– Ладно, Колька, не видел я тебя и не слышал! Упади здесь на дно, и чтобы никто из соседей тебя не наблюдал. Завтра утром сдашься. Сам приди. От этого тебе будет послабление.
– Спасибо за понимание, дядя Паша.
Тронул калитку. Барсик не сразу узнал. Зашёлся лаем. Неужели он так изменился?
В дверях возникла Татьяна.
– Вот это сюрприз! Никто и не ждал!
Не было в её голосе радости, досада одна.
– Ну, проходи, поспел в аккурат к смертному одру! Мать совсем не подымается, всё тебя зовёт, любимого сына.
Колька отодвинул сестру, вошёл в дом, не раздеваясь, прошёл на материну половину. Увидел её и затрясся в рыданиях. Крохотная такая лежит, глаза закрыты, руки, как веточки сухие поверх одеяла.
– МамАся!!!
Ринулся к кровати, обхватил её всю. Сколько мечтал об этом мгновении?
– Коля, сынок! Вернулся? – Голос тихий, бесцветные глаза слезятся. Руку его ловит, чтобы поцеловать. Мать впадала в сон, просыпалась и вновь радовалась, как в первый раз.
– Дал Бог свидеться! Колечка, сынок, радость-то какая!
Сёстры с братьями стояли в дверях, смотрели, как проходит свидание, Татьяна собрала ужин, выставила бутыль самогона, солений разных, картошки нажарила. Разговоры вели про хозяйство и как подрастают дети. Колька не признался, что сбежал из мест заключения. Решил завтра сказать.
К ночи все угомонились, разбрелись по койкам. Знакомо пахло домом, лаяла собака, в углу скреблась мышь… На душе праздник – там за стенкой, как всегда, спит его МамАся. Вину свою хочется исправить, сгладить, всё заново начать. Работы вон полно: калитка плохо закрывается, бурьян вдоль забора повылез, собачья будка развалилась совсем…
Кольку накрыл тяжёлый, больной и тревожный сон.
На рассвете Татьяна подхватилась от того, что в кухне что-то упало.
Коты, что ли, расшалились? Встала сонная и остолбенела в дверях. Глазам своим не поверила. В кухне стояла МамАся и замешивала тесто.
– Танюшка, я тут решила блины пожарить. Колька их очень любит. Как проснётся, а его-то блины мои ждут. Обрадуется…
5. Как-нибудь сами
Миле-ягодке сорок пять. Подругам она говорила: «Я как малосольный огурец – уже не свежий, но ещё не солёный». У неё поздний ребёнок, Лёшке всего тринадцать лет. Нужно ещё столько сказать мальчику, держать его за руку долго-долго. Может, всю жизнь? Всегда будет тревога, она живёт где-то посреди организма – боевая готовность номер один. Правильно ли дорогу переходит, как развивается, в кого влюбится и прочие страхи, которые обступают, как враги, любую нормальную мать. А Мила – мать ненормальная. У неё всё в усиленном варианте. Она уверена, что дорогу сын переходит на красный свет, его развитие зависит только от её личного вклада, а девушку он выберет наверняка неподходящую. Страшно!
Ей всё время страшно. Лёшка задерживается в школе, она отпрашивается с работы, летит в пыльных потных троллейбусах, чтобы убедиться – жив-здоров, сидит себе на кухне и уплетает холодную котлету, запивая молоком из холодильника.
– Что ты делаешь, сын? Получишь ангину и расстройство желудка.
Ну как же это? Пропадёт без матери!
Она обожает Лёшку. Он центр вселенной, а вокруг всё вертится – и она, и планеты, и всё это остановится, если вдруг что не так.
Все жили в её турбулентном потоке.
Лёшка должен вырасти настоящим мужиком, поэтому Мила отдала его в секцию бокса (чтобы умел за себя постоять), на музыку (чтобы духовно развился) и на плавание (чтобы со временем Лёша имел косую сажень в плечах). Пока он рос, косую сажень развила в себе Мила, таская сумки с провиантом. Металась, как подорванная, между работой, кружками и секциями. Себя извела, и сын не очень-то рад. Свободы никакой. Лёшка хочет во дворе в футбол погонять, а его за руку и вперёд! Гаммы учи! Обнесла крепостной стеной всю семью. И отстреливается, если вдруг помеха какая.
Граница на замке и никаких нарушителей! Лёшке дружить не с кем и некогда. Пока терпит, а что дальше? Страшно!
Собой заниматься некогда – работа и Лёшка, всё остальное второстепенное и второсортное.
Мужа, Всеволода – туда же, за крепостную стену… Но он то внутри стены, то снаружи. Такое непонимание огорчало. Несимметричный человек. Вот она примерная жена. Сыном занимается, на кухне как в операционной, правда в спальне уныло, как в склепе…
– Не перегни, – учат подруги. – Меньше жертвенности, больше женственности. Тебе не двадцать лет!
Мила и без них знает, что не двадцать. Эти слова производили отравляющее действие, поэтому советы отторгала, откладывала «на потом». А ничего не следует откладывать «на потом», жизнь идёт сейчас, сию минуту и секунду, без каких-либо возвратов в прошлое. Даже если очень напряжёшься, вчерашняя пятница не вернётся.
Печально, когда женщина между «удобно» и «красиво» выбирает первое и когда в дождь, несмотря на наличие зонта, намокают все выпуклые места. Пора собой заняться, но когда? Время бежало с подлой скоростью, не оставляя надежд, что где-то притормозит.
Мила жила в своём измерении, где всё рассматривалось с точки зрения пользы для сына. Нет пользы – нет разговора…
Бунт на корабле разразился, когда Алексей категорически отказался ходить в музыкальную школу. Это была катастрофа! Мила звонила учителям, подругам – советовалась. Все в один голос убеждали оставить ребёнка в покое.
– Кончай подсказывать, дай мальчику жить без твоих шпаргалок.
Легко говорить. Мила отступила с сердечными каплями и давлением.
Когда ребёнок пришёл с занятий по боксу с носом цвета недозрелой сливы, Мила в ужасе прекратила тренировки. Опять отступление…
– Что же делать? Высвобождается время. Куда сын его употребит? Двор, придурки разные, курение, вино, наркотики…
Нарисовав себе картину, рядом с которой вселенский потоп был бы просто мелким эпизодом, Мила сдала ребёнка в элитный интернат с усиленным изучением языков.
– Языки – это будущее, это всегда пригодится, – утешала она себя, не находя теперь сына в его родной кровати.
Она страдала и с трудом старалась привыкнуть к этому. Получалось плохо. От его отсутствия вся как-то захлопнулась. Интернат выдавал воспитанников только на выходные. Теперь её жизнь состояла из выходных. К ним она готовилась с тщательностью генералиссимуса, готовящего парад на Красной площади. Холодильник забивался фруктами и всем, что полезно Лёшке.
Милочке её жизнь напоминала дорожку для легкоатлетов – знай себе беги, чтоб у ленточки – первая. Но она не за себя волновалась. Первым должен быть сын – самый способный и умный. Он сам дорогу не выберет, надо подсказывать, чтобы не сбился с курса.
Изучать три языка оказалось делом не простым, и были наняты репетиторы, ради которых Мила брала дополнительную работу на дом.
Муж всё где-то рядом на околоМилочкоЛёшиной орбите, но не с ней. Он даже мешал своими рассуждениями о свободе личности и прочей ерунде. Ему что? Он не просыпается в шесть утра, чтобы побежать на базар и купить что-то нужное для развивающегося организма ребёнка, который весь вымотался и обезвитаминился с этими языками. Лежит себе супруг студнем перед телевизором, за футбол переживает…
Лёшка в своём интернате стал какой-то другой, возмужал и оторвался от той жизни, которую Мила выстилала стерильной ватой. Начал дерзить и сопротивляться.
– Ничего, пройдёт, это подростковый период, – успокаивала себя Мила. – Это у всех бывает. Гормоны.
А Лёшка у неё положительный. Всю жизнь вкладывала в него только хорошее. Эта прививка должна сработать, если вдруг какая дрянь на пути встретится.
Всё у Милы было налажено, всё продумано, и вдруг – обвал, и она полетела в пропасть со всей своей заботой и любовью, и конца пропасти не видно. Оказалось, всё шло хорошо, только мимо.
Как-то вечером случился звонок. На той стороне провода женский голос ласково так проворковал, что у Всеволода любовница, у которой он сейчас, вот сию секунду и прохлаждается. Трубку после этого сообщения положили, и Мила села в кресло и попыталась организоваться.
У мужа любовница? Как это? Она скорее поверила бы в секс по домофону! Он лыс, обветшал маленько, пузо приобрёл. Совсем не Голливуд. Кому он нужен, кроме неё?
Правда, последнее время стал за собой следить, рубашку ему каждый день свежую подавай, одеколон дорогой купил…Что ещё? А… бывало, задерживался после работы, объясняя завалом с заказчиками.
Раньше не было дополнительной работы и вдруг теперь почти каждый день. Это при прежней-то зарплате? Какая любовница? А она, Мила, теперь кто? Сожительница? Домработница?
Совладать с водопадом чувств было невозможно. У мужиков верность вещь рудиментарная.
– Дракулы! Синие Бороды! И мой секс-символ туда же! Иуда.
Так долго ждала ребёнка – сын родился, всю себя отдала ему, но ведь и про Всеволода не забывала. Ещё умудрялась к свекрови в село ездить, огород обрабатывала, выращивая овощи – стирала грань между городом и деревней.
А что делал муж? Вес наращивал, стирал грань между грудью и животом. Его бескрылость пугала. Смотрел, как Мила прыгает, будто заяц на верёвке.
Ей вдруг вспомнился на базаре нищий побирушка с зайцем на привязи. На картонке было написано, что заяц из цирка и пропадает теперь от голода. Интересное решение! Зайчишка всё время пытался упрыгать на свободу, но верёвка мешала, и предприимчивый владелец зайца вновь и вновь подтягивал ограничитель заячьей свободы к себе, устраивал зайца на прежнее место. Свободолюбивое, как оказалось, животное, посидев смиренно минуту и грустно опустив длинные уши, вновь предпринимало попытку сбежать от этого кошмара, от людей, от верёвки в свой заячий мир. Было нестерпимо жаль его. Вот и Мила всю жизнь свою была таким зайцем…
Факт, что все мужики изменщики и лгуны. Но то ВСЕ, а это – её Всеволод! А Лёшка для него теперь тоже ничто?
Мила подошла к зеркалу и огорчилась. Постричься не мешало бы ещё три месяца назад. И седину закрасить. Лицо осунулось и опустилось. Время вспять не повернуть, но сидеть сложа руки – себе яму копать. Вот и докопалась. Подружки по салонам бегают – массажи, косметички, парикмахеры и визажисты. А она с работы и за Лёшкой, в выходной по базарам, аптекам и магазинам, у плиты и в секциях! Карьеры не сделала, убила в себе нестандартность мышления…



