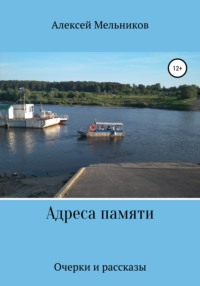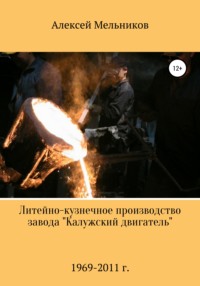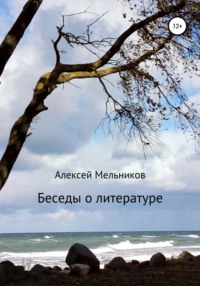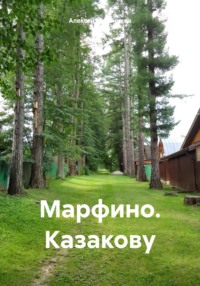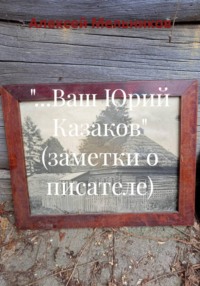полная версия
полная версияЗаписки репортера
– И все-таки от вопроса "как писать?" давайте вернемся к вопросу "что именно?"
– Умение думать журналисту необходимо. Мы ведь очень сильны по части мучений, но лучше было бы, если бы по части рассуждений и размышлений. Тютчев говорил, что Россию погубит бессознательность. И это похоже на правду. Мы, не приходя в сознание, любим, не приходя в сознание, ненавидим, не приходя в сознание, работаем. У нас очень мало журналистов, которые умеют думать. Умение думать и умение видеть в общественности партнера, серьезное отношение к читателю, к самым разным людям – все это, мне кажется, очень важно. И этого нам сегодня очень не хватает. Кто-то правильно сказал, что разумное есть гражданственное.
– Итак, настоящий журналист – это хорошо пишущий человек, глубоко думающий, это – личность. Что еще должно быть присуще человеку, занимающемуся этим, как вы говорите, ремеслом?
– Чувство формы. На меня очень сильное впечатление произвел один случай. После событий в Беслане по телевизору показывали жену священника. У них с батюшкой было семь детей, шестеро из них погибли в этой школе. И вот эта женщина говорила о том, что молится за всех, которые потеряли там своих детей и даже за тех, кто никого не потерял, а дети их были только ранены. "Они не верят в Бога,– говорила женщина, – и поэтому не могут ни в чем найти опору. Я все время молюсь о них, чтобы Бог дал им силы выжить". То есть матушка говорила не о шестерых своих потерянных детях – и это было искренне, непоказушно, – а о тех, в ком нет опоры. И, я думаю, дело тут не в религиозном чувстве, а в чувстве формы. Эта женщина – человек формы. Она знает, что в собранном состоянии человек лучше, чем в распущенном. Она включена в жизнь других людей, несмотря на свое горе.
Это для меня пример того, что есть-таки у нас люди, которые могут почувствовать что-то такое, что происходит с другим человеком. Но есть и другие, которые могут носиться только с несравненной своей правотой, со своей партией, со своей фракцией и т.п. И ничего не чувствовать. И не видеть вокруг себя. У Бердяева есть слова: когда я голоден – это проблема физическая, когда же голоден мой сосед – это уже проблема нравственная.
– А как насчет тщеславия? Кажется, сама природа уготовила ему место в столь публичном занятии, как написание статей или съемка телесюжетов? Если есть такое место, то какова, по-вашему, максимальная цена, которую стоить платить за удовлетворение этой страсти?
– Конечно, наша профессия заставляет нас выделяться. Но не стоит слишком этому поддаваться, потому что карабканье на место под солнцем обязательно происходит за счет других. Говорят, что знаменитых и богатых в наши дни целые толпы. И там наверху, наверное, и без нас тесно. Может быть, стоит мечтать стать и богатым, и знаменитым, или тем и другим одновременно, но не следует отдаваться этому целиком. И всегда важно ставить себе вопрос: что для журналиста важнее – я, любимый, или другие люди? Мы мним себя комментаторами жизни, но, увы, предпочитаем своему предмету свое положение.
Вот мне кажется, что все-таки жизнь других людей для нас должна быть важнее всего. Потому что журналист – это все-таки посредник не между собой и людьми, а между людьми и людьми. И в этом точка взаимодействия журналиста и гражданского общества. В этом его долг и ответственность. Стремление к признанию делает нас беспокойными, реваншистки настроенными. И это печально. Этакая "графиня с искаженным лицом бежала к пруду".
– Журналист должен быть терпелив? Снисходителен?
– Ремесло журналиста учит смирению. Это, наверное, лучшее, чему наше ремесло может научить. Чем серьезнее мы относимся к своему ремеслу, тем меньше у нас остается иллюзий на свой собственный счет. Мы больше узнаем о собственной величине, и тем смиреннее становимся сами. Вот каждый раз, когда я бьюсь над словом (а у меня это происходит постоянно) я говорю себе: ну, первый день замужем. И сразу же пропадают все иллюзии на собственный счет. И я, не кокетничая ни капли, говорю себе, что любой стажер уже давно бы и лучше бы написал. И что клянусь: больше никогда ни об одном своем коллеге не скажу плохо, не буду говорить, что это плохие, скучные и неталантливые заметки, потому что я-то знаю, что такое "не получилось", что такое "провал".
Вот такое смирение приходит в минуты отчаяния. А потом оно куда-то улетучивается, особенно если выясняется, что что-то получилось. И ты думаешь, что погорячился насчет клятв по поводу коллег. Но, может быть, вот эти минуты смирения и есть минуты истины, потому что мы все про себя узнаем в такие минуты. Скромность – это не украшение, это понимание, осознание своих размеров. И призывы к смирению всегда своевременны. Потому что нельзя, чтобы и жизнь помыкала нами, но и комплекс исключительности, завышенные требования к окружающему миру по поводу признания наших заслуг жирной чертой перечеркивают в журналисте личность. И тогда уже ни о каких контактах с действительностью, ни о каких контактах с обществом, просто с людьми не может быть и речи. Мы знаем журналистов, которые по разным – государственным, политическим, партийным – соображениям включались в какую-то борьбу. И что бы они сегодня не доказывали, чтобы ни говорили – их слова куда-то улетучиваются. Мы их не слышим, а видим только их жалкие, поруганные лица.
– Понятие "лояльность". По отношению к той же власти. Насколько оно, по-вашему мнению, уместно в определении такого рода занятия, как журналистика?
– Я вот часто думаю, а что же это такое – лояльность. Как-то к одному западному дипломату пристал один из наших чиновников: "Вот скажите, что вы, как оптимист, думаете о том, что происходит в России". И он так прям наседал, так настаивал: оптимист, да оптимист… Дипломат не выдержал и совсем не по-дипломатически резко ответил: "Вы знаете, я хотел бы быть оптимистом, но я боюсь при этом выглядеть дураком".
Я вот думаю: как быть журналистам по отношению к той же власти? Лояльными? Но до какой степени? Когда это уже смешно или когда ты в своей лояльности переступаешь черту и ради убеждений, ради аргументов в защиту, ты уже просто перечеркиваешь сам себе. Недавно в одном глянцевом журнале, в котором появляются периодически хорошие тексты, я прочитала статью Дмитрия Губина под названием "О, настоящая мужская трусость". Он пишет о том, как все сейчас притихли, и как страх поселился в людях. Как все начинают строиться и валом валить в "Единую Россию". И падают на колени перед гарантом. И у него там были замечательные слова, я их выписала. Он говорит: настоящим страхом мужчины должен быть страх войти в историю Моникой Левински в отсутствие Билла Клинтона.
Это вот, кстати, к тому, что журналисты вовсе необязательно изображать из себя, героя, профессионального разрушителя, революционера, а можно вот так творчески любую несправедливость сделать нелепой. Может быть, от таких текстов серых мышек у нас и не станет меньше, но если таких текстов будет больше, мышки просто узнают свой уголок. Как в сказке Шварца: "Тень, знай свое место!" И коль уж мы вернулись на сцену, в актерство, я позволю себе вновь вспомнить великого Георгия Вицина. В последние годы он не снимался, жил уединенно, говорят, бедствовал, но никогда не жаловался. И когда он попал в больницу, и газеты об этом написали, начался сбор денег на операцию. Вицин всех поблагодарил, но от денег отказался и очень твердо. А когда ему позвонил Хазанов и стал приглашать в свой спектакль, великий комик вежливо выслушал, а потом мягко так, но твердо сказал: "Нет, знаешь, я же люблю, чтобы тихо было". Вот это самое: "чтобы тихо было"… А между тем актерство – профессия громкая. И журналистика – тоже громкая. Но шепот подчас бывает сильнее крика. И часто остается шепот, а не крик.
Алексей МЕЛЬНИКОВ, Калуга. Газета "Деловая провинция", № 2, 14 января 2005 г.
Сергей Петрович из Ромодановских двориков
Сначала я полюбил его нежные фотопейзажи, затем – добрейшие рассказы, после – сочные красные яблоки из его старого сада над Окой, сам сад, где в оные годы любил мечтать у костра учительствовавший в Калуге юный Окуджава, домик Сергея Петровича в Ромодановских двориках, на деревянном топчанчике которого принимали запросто дорого гостя из Тарусы – Константина Георгиевича Паустовского.
К Сергею Петровичу Денисову я привязался ещё и потому, что в своей седенькой бородке, небольшой росточком, с тихим бархатным голосом он сильно напоминал моего деда. Такого же яркого рассказчика, умельца и тихоню, пахаря и пилигрима. Правда, не по рыбацким, как Сергей Петрович, и ягодным делам ходатая, а по фронтовым, военным. Но всё равно в неутомимом путешественнике и добрейшем собеседнике Сергее Денисове я всегда угадывал своего скромного деда Мишу. И проникался участием ко всему, что делал он.
Первую свою книжку Сергей Петрович назвал просто: «На обочине Млечного Пути». И написал в ней, действительно, о том, что случается во Вселенной не обязательно со всеми, но со многими. А именно: о любви и нежности людей, зверей и птиц. Для убедительности снабдил написанное собственными фотографиями: людей, зверей и птиц. А также – закатов, восходов, лунных дорожек, золотых аллей, деревенских просек… Мол, в Млечном Пути, или где-то рядом с ним, наверняка присутствует то, ради чего все эти звёзды и галактики Творцом задуманы.
У Чехова в повести «Степь» есть такой замечательный герой Вася – возчик, нежнейшей души человек, мягкий, ранимый и до фанатизма влюблённый в природу, в окружающий его мир. «Голубушка моя, матушка-красавица… – восторженно умиляется чеховский Вася увиденной им в степи маленькой лисичке. – Лисичка-матушка… легла на спину и играет словно собачка…» С таким примерно настроением и такими же глазами смотрит вокруг себя и Сергей Петрович: «И вот уже бежим в горку – на груди фотоаппараты, за плечами рюкзаки. Хлеб, колбаска, котелок и чайные припасы – всё предусмотрено. Всё при нас. Горки и овраги, просеки в лесу, заячьи следы, солнце в заснеженных ветвях елей, лыжня сквозь кустарник, дорожка в поле… Фотографируем ослепительные пейзажи, ловим контражуры, но не прочь и прокатиться с крутой горы, покрутить слалом, прыгнуть с ребячьего трамплинчика. Свобода, простор, отдых!»
Рассказы его по-детски ясные и простые. И вместе с тем – точные и глубокие. О рыбацких походах, деревенских плясунах, городских шалунах, бедовых пастухах, великом чудаке – Циолковском, знаменитом купчине Ципулине. Короче – о родных и близких сердцу калужских околотках, засеках, затонах, рощах и оврагах. О людях, населяющих любимые с детства места. Об их житейских делах и маленьких проделках.
«Пекарня была на Набережной, аккурат за Нижним магазином… У них такой случай был. После весеннего наводнения стали отчёрпывать колодец во дворе, а на дне ктой-то ворочается. Оказалось сом на шесть пудов весом. Еле вытащили. Да у них приключения чуть не каждый день творились. Ящик дрожжей залежался, испортился. Хозяин велел выкинуть. Дед его возьми да и брось в уборную. Как попёр оттуда поток, да на улицу, через мостовую. Движение остановилось, вонь, крик, ругань…»
Дом у него по-над Окой зря, что насквозь крестьянский, зато сильно творческий. Двоюродный брат Владимир Кобликов – отличный прозаик. Коротко жил, да ярко писал. С Паустовским знался. Окуджава, как уже отмечалось, захаживал не один раз. Будучи уже знаменитым не раз возвращался сюда, на Ромодановский берег, отдохнуть душой и полюбоваться окским закатом.
Серёжа Денисов свой восторг окружающим миром сначала хотел увековечить в фотографии. Добился высочайшего профессионализма. И понял вскоре, что что-то всё-таки фотоаппаратом недоснял, недопроявил, недопечатал. И всё это «недоснятое» решил дописать чернилами на бумаге. И стал – писателем. Можно сказать – комментатором собственных фотоснимков. Постепенно набралась книга. Затем – вторая. Писатель в Денисове шёл «ноздря в ноздрю» с фотографом.
«Смотри, как мне удалось этих синичек снять!» – восторженно суёт мне в нос экран своего «Никона» Сергей Петрович. На кадре мама-синичка заботливо кладёт в клювик своему детёнышу маленькую мошку. Как страстно пернатый младенец ищет вожделенную «мамину грудь». Как самоотверженна в заботе и любимцах «кормящая мама». Как нависают где-то над гнездом капельки росы. Как переливаются в них лучи восходящего солнца. Как счастлив пойманным мгновением чуда природы калужский фотограф и писатель Сергей Петрович Денисов.
Уроки публицистики. Николай Михайловский
«Журналистика живет, когда живет общество, и замирает – когда подрезаны корни жизни в обществе», – этой пророческой формулой виднейший русский публицист Николай Михайловский поделился в конце XIX века. Закон сработал. Кто вспомнит сегодня имя этого талантливейшего литератора и журналиста? Немногие. Даже – в его родном Мещовске. Потому что, скорее всего, не вспомнят, что такое журналистика вообще. Не отгадают, для чего она нужна и отчего умирает. Как в России в целом, так и в глухих провинциях в частности. Настоящая журналистика, похоже, ни здесь, ни там больше не у дел. Потому что «подрезаны корни». Потому что её отменили. А с ней – и память о тех, кто творил историю великой русской публицистики. Точнее – историю вообще…
«Литературные критики, – писал о той великой эпохе Николай Бердяев, – были властителями дум социальных и политических». Делателями истории. Моторами её и приводными ремнями. Иногда – порохом. Иной раз – тормозами. Но всегда – в корнях процесса. «Политика, – продолжает Бердяев, – была перенесена в мысль и литературу». Мы вспомним Белинского, Герцена, Чернышевского… Та же мещовская земля в середине XIX вспыхнула целым букетом социальных вундеркиндов. Потащивших, впрочем, Россию в противоположные края. Леонтьев – в глухое самодержавие, Кропоткин – в непримиримый анархизм, Михайловский – в народничество. Этот своеобразный «мещовский триумвират» вполне адекватно отразил степень ярости в поисках социального рая в России. Он есть, верили творцы разнородных русских идей, и указывали в разные стороны.
Народники – куда никто в мире до них обратить взоры не догадался – в народ. Покаянное хождение туда представителей высшего сословия – черта сугубо русская. Исключительно – интеллигентская. Симптом больной совести у просвещённых людей. Характерные проявления – острая публицистика. Честная, но язвительная для самодержавных устоев. Как, впрочем – непримиримая и для чересчур революционных идей. Как устроить жизнь по справедливости? Мирно. Вариантов немного. Поднимающий голову марксизм с молохом производства, молотом наживы и «язвой пролетариата» народники не жалуют. Главенствует страх быть подмятыми «историческим прогрессом». Да не кровавым ли?.. Найдется ли в нём место для отдельного человека?
«Производство может расти в колоссальных размеpax, – подводит к изложению своей социологии (наверное – первой в России) идеолог либерального народничества Николай Михайловский, – и могут накопляться колоссальные богатства, между тем как входящие в систему личности не получат ни свободы, которая им обещается на словах, ни счастья, которое постоянно их поддразнивает и убегает». И Николай Константинович начинает проповедовать в своих статьях особый сорт социализма – русский индивидуалистический. В отличие от того, который получился много позже, социализм народников ставил во главу угла человека. История, впрочем, выбрала другой вариант: с человеком не в начале социальной цепочки, а в её конце – «сначала думай о родине, а потом о себе».
С опаской, даже презрительно взглянув на пролетария, теоретики народничества сочли, что лучше поладят с мужиком. Хотя ни того, ни другого, по сути, не знали. Оторванность от земли едва ли могла быть компенсирована пылкостью социальной публицистики и искренностью позывов души. Крестьянин в народниках себя не углядел. А народники не решились дать слово самому хлебопашцу. Всё сказали за него сами. Честно и искренне. Переоценили свой публицистический дар? Скорее – не сумели изменить своим идеям. Были ли они преждевременны? Опережали век? Может, напротив, волочились за ним со своими идеями тех же крестьянских общин в числе последних?
Позволим себе сделать предположение, что именно яркая, чистая и благородная публицистичность этих рыцарей справедливости способна искупить все теоретические недочёты и промахи их полит-экономических умозаключений. В главном, как показало время, они оказались верными. Опередили время, опередили «прогресс», который, якобы, их сбросил в кювет истории. Сегодня как раз-то этот кювет смотрится столбовой дорогой. «Хорошо, пусть общество прогрессирует, – пишет Николай Михайловский, – но поймите, что личность при этом регрессирует, что если иметь в виду только эту сторону дела, то общество есть первый, ближайший и злейший враг человека, против которого он должен быть постоянно настороже. Общество самым процессом своего развития стремится подчинить и раздробить личность, оставить ей какое-нибудь одно специальное отправление, а остальные раздать другим, превратить ее из индивида в орган. Личность, повинуясь тому же закону развития, борется или, по крайней мере, должна бороться за свою индивидуальность, за самостоятельность и разносторонность своего я. Эта борьба, этот антагонизм не представляет ничего противоестественного, потому что он царит во всей природе».
История держится «корнями жизни». Собственно, ими и живёт – тысячей, миллионом малюсеньких индивидуальных судеб-корешков. Людьми история живёт, убеждены были русские народники, судьбами. Нашей с вами – каждой в отдельности.
Пленники свободы
Давно подмечено: люди грезят контрастами. В смысле: маленьких всегда тянет к большим, толстенькие завидуют стройным, тощие – пышным и лоснящимся. По той же, очевидно, логике никогда не хотел из большой страны метнуться в аналогичную. Скажем, в Америку или Китай. Что толку? Те же тысячи верст на север, по стольку же – на юг, восток и запад. Порядком набившая оскомину гигантомания. Качество, увязшее в количестве.
Другое дело – «наногеография». Для широких по своей природе русских – настоящий драйв. Тысячи километров пути, чтобы ювелирно воткнуться в эту державную горошину. Восемь километров направо, семь – налево и – одна верста ввысь. На карте – песчинка, на земле – гранитный холм. Точнее – гора под не оставляющим никаких сомнений в серьезности увиденного названием «Титано».
На склонах – древнейшая страна. Свободолюбивейшая держава. Народу – не больше нашего Козельска – тысяч тридцать. Девять игрушечных деревень. Три вонзенные в небо крепости, заметные аж от самого Адриатического моря. Первая – нависшая над бездной Гуаита (похоже, местные толком и не понят время ее сооружения: то ли IV век, то ли VIII…). Вторая, практически парящая в небе – Честа (гораздо моложе – 1200 года рождения). И третья, выросшая лет эдак 1000 назад из поднебесного гранита – пятиугольная Монтале.
Жилые дома цепляются фундаментами за края умопомрачительных пропастей. Узкие улочки, лесенки, каскады черепичных крыш. Даже есть машины. Главным образом – дорогие. Среди них – семь штук с шашечками – местное такси. Раз машины, значит, должна быть и ГАИ. Так и есть – ровно один пост на всю страну. С бдительным регулировщиком в будке.
Войско в державе – человек сто, не более. Самая элитная часть – арбалетчики. На протяжении 15 веков как минимум натягивают тетиву в сторону всякого, кто вознамерится покуситься на независимость. И небезрезультатно. С XI века никто еще не смог посягнуть на сан-маринскую свободу.
Впрочем, отсчет своей истории страна Святого Марина начинает с сентября 301 года, когда каменотес Марин из Далмации (нынешняя Хорватия), укрывшись на горе Титано, что в Апеннинах, от преследователей христианской веры, основал тут коммуну. В объемах небольшой в принципе горы.
Нельзя сказать, что гора была ничейной. Как раз-то, наоборот, принадлежала влиятельно римской патриции Донне Феличиссиме. Так вот, по легенде у этой Донны был очень болезненный сын. И каменотес Марин предложил вылечить его свежим горным воздухом, поселив в своей христианской коммуне на самом пике Титано.
Случилось чудо: мальчик исцелился, счастливая мать оплатила лекарю лечение более чем щедро – горой Титано. Так что древнейшая из независимых стран на земле была рождена не в муках захватнических или освободительных войн, о чем мы уже привыкли читать в учебниках истории, а просто преподнесена в дар. Поучительный урок, не правда ли?..
В общем-то, всегда устраивало ощущать себя русским. Мало интересовался тем, как, скажем, американец ощущает себя американцем, бразилец – бразильцем, даже японец – японцем. Потому что, подозреваю, ощущения схожие: замешанные на больших масштабах. Но вот сделаться на недельку-другую санмаринцем, признаюсь, не отказался бы. Верю: это совсем другой драйв. Для широкоформатного русского – практически марсианский.
Страна, которую можно обойти пешком за час с небольшим. Где на центральной площади державы едва развернется пара легковушек. Где президенту (точнее, капитану-регенту, как именуют здесь высшее должностное лицо, а если еще точнее – двум капитанам-регентам, поскольку президентов в Сан-Марино всегда двое) каждый гражданин может написать письмо с изложением своих чаяний. Мало того – с гарантированным на него ответом. Где совсем иной масштаб жизни, очевидно, рождает и качественно новое ее ощущение. Проблема – попытаться его подотошней распознать.
Санмаринцы буквально помешаны на свободе. «Свободными вас оставляю от других людей», – якобы прошептал слабеющими устами перед смертью основатель республики Святой Марин.
Завещание духовного покровителя цитируется на каждом шагу. Без слова «Libertas» не обходится ни один мало-мальски значительный символ. «Libertas» – в названии центральной площади, в имени главной женской скульптуры напротив правительственного дворца, на государственном гербе и даже выбито на каменном свитке, что держит в своих руках монументальный каменотес с Далмации, величественно возвышающийся внутри базилики Дель Санто-Пьеве – крупнейшей в этой непокорной «нанодержаве». А также – в значках, наклейках, марках, флажках, кокардах сан-маринских воинов. Наконец, в мемориальном псалме, встречающем всякий день входящих в дом сан-маринского правительства: «Спаси свою Республику-Марино, основоположник свободы».
«Либертомания» в сан-маринской транскрипции гипертрофирована порой до уникальности: в самой миролюбивой и неагрессивной стране мира – груды орудий борьбы за этот мир, а именно оружия – как старинного, попрятанного в каменных крепостях, так и современного, до потолков забившего махонькие магазинчики этой миролюбивой державы. Местные утверждают, что купить его может каждый, даже русский. На кой черт, правда, не совсем ясно.
Кому мало оружия – пожалуйте в музей пыток. Есть и такой в этой добродушнейшей из республик. Описывать не буду. На негодующий вопрос, к чему этот ужас, отвечают просто: «Дабы осознать всю преступность государства и власти, в какой бы форме она ни проявлялась».
Санмаринцы были, есть и остаются нейтралами. От фашистских бомбежек защищались не зенитками и пулеметами, а… белыми простынями, расстелив, как гласит история, их по границам державы, обозначив таким образом свирепым летчикам те места, где люди не воюют. Благо материала, дабы накрыть им с головой всю кукольную республику, требовалось немного. Не помогло. Несколько бомб упало-таки на Сан-Марино. Одна, правда, не взорвалась. Видел ее прикрепленной к одной из стен замка в качестве раритета. Примерно в том же качестве, в каком высится у нас в Калуге на Московской площади славная «тридцатьчетверка».
Тычу перед самым носом Луиджи пальцем в сувенирный магнитик, что прихватил с собой из России: «Россия, Калуга, космос, Циолковский». Луиджи – водитель автобуса, забросившего нас на самую независимую горную вершину в мире.
Мне показалось, я увидел абсолютно счастливого человека. Магнитик бережно прилаживается этим добрейшим малым на лобовое стекло его могучей «Сетры». Иконой, не иначе. «Спа-сьи-бо!» – смягчая нежным итальянским наше самое ходовое слово, лучится симпатией к моей далекой родине новообретенный друг. Отмечаю про себя, что итальянский очень хорошо смешивается с русским. Не коробит его, скажем, как английский или немецкий, а напротив, где-то даже улучшает, как нежные сливки горький кофе.
«Что за чудеса у вас тут с налогами творятся? – отзываюсь на хороший русский продавщицы одного из затерянных в каменных улицах-щелях магазинчиков, – все чего-то покупают, суетятся. Говорят, дешевле…» «Мы без политика, – вполне удовлетворенная своим незнанием, улыбается в ответ хозяйка «Табаччи». – Работа, бизнес, хорошо! Салют, Россия!» «Грациа!» – пускаю в ход практически весь свой арсенал разговорного итальянского.