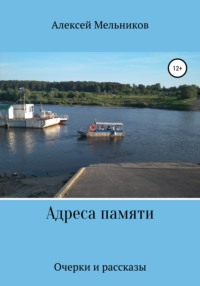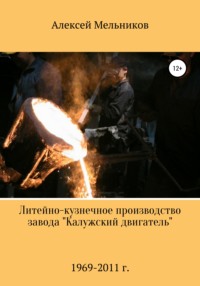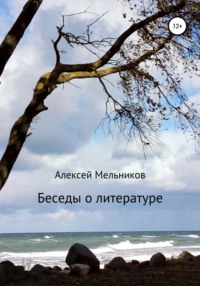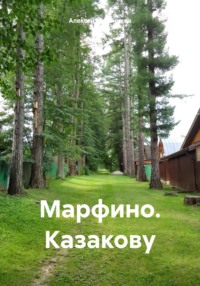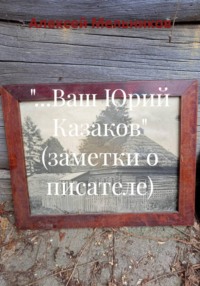полная версия
полная версияЗаписки репортера
– Я ведь нигде рисованию не учился, – показывая свои байкальские пейзажи, продолжает Виталий Васильевич. – Как чувствую природу, так её и пишу. Как Утёсов, помните, говорил: петь надо не голосом, а сердцем. Не могу не писать. А потом раздариваю. В гости собираюсь: картину под мышку – и вперёд. Больше наверное это мне самому нужно. Профессионалы ухмыльнутся – у тебя, мол, мазок не тот, тона, полутона… так мне же не в Лувре выставляться…
Самое красивое, что мне приходилось видеть – это, конечно же, Сахара. Сахара – это ведь не обязательно пески. Но и эрги – кряжи такие песчаные на 100-200 метров в высоту. Природа удивительна. Вся гамма цветов. Краски яркие, сочные. Как в той песне: оранжевое море, оранжевый верблюд… И небо оранжевое. А ночь – чёрная. Смоль. И тишина – оглохнешь. А как дюны плачут – знаете? За час-полтора до бури, смотришь, песочек так чуть-чуть шевельнулся. И звук такой тонкий, протяжный: и-и-и-э-э… Это сигнал: буря идёт. Сирокко, по-местному. Прячься, зарывайся куда хочешь – через час будет светопреставление: где-то в метре от земли с грохотом понесётся стена песка и гравия. Ровно два часа будет грохотать. Хоть часы сверяй. Потом – опять безмолвие. А закаты? Никаких полутонов – только чёрное и красное…
Как в Африку, спрашиваешь, попал. Откуда? А прямиком из Якутии попал. Предложили – согласился. В 68-ом дело было. Правда, я уже забыл о предложении – год прошёл. Работаю себе в экспедиции: от Алдана – тысяча вёрст. Начальник партии. Сотня человек народу. Вдруг приказ: 19 августа летишь в Алжир. Секретарь райком за тобой свой личный вертолёт высылает. Представляете? Алдан – пол-Европы. И секретарь райкома шлёт свою личную машину за каким-то геологом. Ну, ждём. Утро – нет. День – нет. Вечер – уже перестали ждать, а он над тайгой грохочет. Объявился, значит. Вылезают: «Ну, кто тут Фирсов? Весь день по тайге тебя ищем. Садись быстрей!» «Что прям сейчас?» – спрашиваю с опаской. – Ведь ночью-то не летают». Короче, взлетели. Смотрю, первый пилот хоть с виду и трезвый, но летит на скалу. Ну, всё думаю: крышка! А ведь молодой ещё, не жил совсем. Пока мысли эти в голове крутились, вертолёт – бо-бо-бо – кое-как перевалил через гору. Тут первый пилот – второму: «Я вздремну чуток, ты возьми руль». И как сидел – мигом отключился. Второй пилот – ко мне: «Водил когда-нибудь такую машину?» «А что?» – спрашиваю с ужасом. «Да что-то меня в сон тоже заклонило». Я давай на весь салон орать, чтоб не заснул. Тот голову – в форточку. Там мрак, хоть глаз коли. Спрашивает: «Ты не знаешь, куда мы летим?». И карту на коленку кладёт – миллионник. Это плюс-минус тысяча километров. «Нет, – отвечаю, – не знаю». Он – опять в окно и высматривает там что-то во мраке, мол туда летим или не туда. Сели в Чагде – классные всё-таки были эти вертолётчики. Потом – Алдан. Потом – Якутск. Москва. Короче, на свой самолёт в Алжир мы тогда опоздали…
У меня вообще-то специализация была по урановым рудам. Но уран и золота в древних месторождениях, как правило, рядом. Сопутствуют. Туарегский щит. Алжир. Французы имели там серьёзные разработки. Вот президентский кортеж нас через всю Сахару и сопровождал. Одиннадцать геологов – одиннадцать «Лендроверов». Плюс – джипы с пулемётами. Автоматчики на мотоциклах. Ин Салах (в переводе – «спасите наши души») – в самом центре Сахары. Тут у французов была геофизическая станция. В бункере пряталась. Глубина – 5-6 метров. Пропасть вентиляторов. Октябрь. А на термометре под землёй – плюс 46. Между вагончиками 10-15 метров. А пробежать их – проблема. Что есть под рукой – на голову. В Долине Смерти Танез Руфт мы неделю проработали. Это ниже уровня моря. Все фигуры раздваиваются – миражи там такие особенные. Звуки все громкие, прям оглушают. На 30 метров от машины отойдёшь – заблудишься. Так мы фалами пристёгивались. И тишина страшная – аж треск в перепонках. Наклоняться опасно – сознание потеряешь. Зато лепёшки легко жарятся: слепил, зарыл в песок, 5 минут – и готово…
Геологу ещё нужна удача. Как без неё? Я, например, будучи студентом случайно, можно сказать, открыл Забайкальское тантал-ниобиевое месторождение. Под Сосновоозёрском. Мы там проводили металлометрические съёмки. Пробы земли брали, горных пород. Я уранометрией занимался. Как-то возвращаюсь в палатку, уже меньше километра осталось, гляжу – глыбы с зеленоватыми прожилками. Красивые – я и набил рюкзак. Прихожу, высыпаю. Начальник партии: «Где взял?». Оказалось – амазонит, тантал-ниобиевая руда. Тут же седлаем лошадей. Подъезжаем, а там – коренные выходы. Очень крупное месторождение оказалось. Мне даже за это премию выписали – 144 рубля…
Были у Фирсова и походы по Калужскому краю. Техник, старший техник, начальник партии, парторг. Был замдиректора НИИ и даже депутатом Законодательного собрания. Правда, никаких следов последние походы во власть на холстах геолога не оставили – только горы, только сосны, реки, пустыни и закаты. Над ними Фирсов бьется особенно тщательно.
– Вот, видишь, горы над Байкалом. Как бы на заходе солнца хочу показать. В дымке. В глубине. Чтоб еле-еле угадывались…
Грузинские песни калужских гончаров
Над камином в калужской мастерской Шалвы Гошуа – старинное фото: седой статный старик в рясе и большим крестом на груди внимательно глядит из дореволюционного Зугдиди на теперешнюю нашу жизнь. “Это мой прадед Петр, – поясняет Шалва Фомич. – В Зугдиди священником был. Сейчас я неподалеку – в селе Кирцхи – церковь небольшую строю. Почти наполовину поднял…” Калужский гончар, а прежде учитель, замдиректора дома отдыха, предприниматель, наконец, сухумский беженец Шалва Гошуа знает свою родословную до седьмого колена. Чуть ли не со времен Александра I. “Седьмое – это, если считать моего сына в Тбилиси, – продолжает гончар. – А вот если они мне подарят внука – будет восьмое”. Впрочем, внучка у Шалвы Фомича уже есть – Ани. Ей дед звонит в Грузию из Калуги практически ежедневно. Скучает. Дети – особая тема для мастера.
– Думаю перевести свою мастерскую из города куда-нибудь в живописную деревушку. Здесь же в Калужской области, – делится своими планами Шалва Фомич. – Чтоб природа была, речка, лес – простор. Но главное – чтоб школа находилась по близости. Детишек хочу к гончарному искусству приобщать… Ну, вот, скажи мне: живем мы живем и что после нас останется? Через много лет – что? Деньги накопленные останутся? Вещи? Машины? Ерунда все это. Добрая память – вот что. Сохранится здесь, в Калуге гончарное дело. Вспомнят, что дед Шалва его основал – и мне больше не надо…
Приютился грузинский гончарный круг на Калужском радиоламповом заводе. Переоборудовали заводское овощехранилище. Сначала взяли в аренду. Потом выкупили. Спасибо, помогли партнеры – заплатили за корпус сразу. За что гончары в течение двух лет расплачивались со своими спонсорами изумительной по красоте посудой. “У нас практически любое изделие – эксклюзив, – поясняет Шалва Гошуа. – Исключительно ручная работа. Вот как мастер-художник видит кувшин так он его и ваяет. Даже студенты, что приходят к нам на практику – уже творцы. Спрашивают: Фомич, а если мы такой узор побробуем? Или другой? Пробуй, дорогой! Ты – художник. Я только посоветую и подскажу, как это лучше исполнить”.
Мастер встает из-за глиняного в виде старого пня столика (этакое лукоморье собственного изготовления, правда, не с ученым котом на ветвях, а глиняным крокодилом – в прихожей) и ведет мимо расставленных на полу амфор, кувшинов и ваз к гончарному кругу. На всем – рыжий налет. Глубоко въевшийся глиняный колер – на полу, на стеллажах, вокруг печи, на гончарном круге, на штанах гончара, рубашке и жилистых его руках.
Вот эти руки берут бесформенную рыжую массу. Шмякают, что есть силы на гончарный круг. Загудел мотор. Мастер специальным ножным рычагом подводит шкиф к вертящемуся столику. Тот постепенно раскручивается. Гончар опускает ладони на кружащийся ком, и глина оживает. Кувшин растет, точно дерево из семечка. Только в миллион раз быстрей: то расширяясь снизу, то вновь зауживаясь, то лотосом раскрываясь у вершины, чтобы потом опять сомкнуться в глиняный бутон.
Затем “бутоны” сажают в печь и отжигают. Температура 900-950. Шалва Гошуа определяет ее без термопар и термометров. Но особому гончарному наитию. Если и ошибается, то градуса на 4-5. Проверка на качество предельна проста: настоящий кувшин звенит, как маленький колокол. Мастер извлекает из печи один из них, ставит на ладонь и легонько ударяет ручкой. Кувшин откликается чистым и долго-долго затихающим эхом. Если звук с хрипотцой – что-то, значит у тебя, мастер, не так.
Учить петь глиняные кувшины Шалва Гошуа начинал еще в Грузии. Где, как сам уверяет, каждый второй гончар. А певцы – так, почитай, все без исключения. Так вот, когда в своей калужской гончарной да еще с грузинскими песнями – второе Зугдиди получается. И неважно, что в заводском районе Калуги. Впрочем, этой зимой кувшинный перезвон в мастерской Фомича несколько поутих. Электроэнергия резко вздорожала, а печи – электрические, от того и гончарный бизнес изрядные лишения терпит. Хотя слова “бизнес” Шалва Гошуа на дух не переносит. Оскорбляет оно слух маэстро. Бизнес – не главное. Сделать его, как утверждает маэстро, легко. Хотя легкость обманчива. Тут художника может настигнуть самая страшная беда – уйти творчество. А без него Шалва Гошуа никогда бы к глине не подошел.
“Электрический” фактор – еще один, заставляющий мастера перенести свою мастерскую из центра города в деревню. Там хоть солнца летнего будет вдоволь – хватит для просушки глины без электричества. Переходить на газ – дорого. Одна печка тысяч 6-7 долларов потянет. Где их взять? Впрочем, Фомич ни на что не жалуется. И на дорогое электричество, кстати – тоже. Ни на власть не жалуется, ни на чиновников, ни на визовый режим, не только разрывающий два дружественных народа, но и мешающий привозить ему со своей родины искусных гончаров.
“Иной раз говорят: как трудно работать, как все мешают. Да, ерунда все это! – горячится Фомич. – Я вообще в Россию в одной рубашке приехал. С нуля начинал. Сам работал. Добрые люди помогали. Они ведь везде есть – добрые-то люди. Да и всякие разрешения собирать – ну, что за проблема? Если сказано, например, что нужно пожарный гидрант установить – значит, его надо установить. Такой закон. И его надо исполнять”.
По-прежнему считает себя патриотом Союза. А грузин и русских – братьями. Впрочем, за годы, прожитые в Калуге российского гражданства так и не получил. Хотя и мог бы. “А зачем? – пожимает плечами Шалва Фомич. – Чтобы получать более высокую российскую пенсию? Поменять, значит, родину на деньги? Никогда! Ведь все равно похоронят меня там, а не здесь. Я ведь Грузин”.
Сколько раз, признается мастер, предлагали ему: продай бизнес (ну, вроде как само искусство вместе с оборудованием) целиком – не соглашается. Здание (стены, там, печи, стеллажи) – это, пожалуйста. Это продается. А вот искусство, умение и опыт – нет. “Передать, подарить – могу, – признается Шалва Фомич. – Говорю: берите так. Все расскажу, все покажу. Хотите месяц, хотите два буду показывать. Научу. И взрослых научу, и детей. Лишь бы не пропало древнее ремесло. Лишь бы сохранилось…”
p.s. Этот материал был написан до “грузинских событий”. Когда “войну” еще только начинали раздувать, позвонил Шалве Фомичу в гончарную мастерскую. Хотел узнать, что он думает об этой «войне». На том конце провода удивленно охнули: “Так все же грузины отсюда съехали. Куда? Да, в Грузию к себе, наверное…” От Фомича остались самые добрые воспоминания. Как он был счастлив, когда к нему приводили экскурсии с калужских школ – чтобы показать искусство грузинских гончаров. Как он одаривал каждого школяра куском волшебной глины. И настрого приказывал принести к нему в печь для обжига получившиеся детские игрушки. Как пихал в сумки забавных глиняных ежиков – сувениры на память. Как вручил в дар изумительный по красоте грузинский кувшин для вина – чури. Он и сейчас стоит передо мной на столе. Может быть мы с Фомичем нальем из него когда-нибудь грузинского вина и выпьем. За Грузию. И за Россию – тоже. За Россию и Грузию. Если, конечно, Шалва Фомич вернется…
Барбизон на Оке
Ока здесь неширокая. Шагов полтораста будет. Зато берега крутые. Тот, что нависает со стороны Тарусы – особенно. Кто на нем только не стоял. Сейчас, скажем, бронзовая Марина Цветаева возвышается. Плюс ходит мимо на работу настоящий Максим Осипов. На берегу с удочкой частенько пропадал Паустовский. Юрий Казаков нередко всматривался в речную даль – не идёт ли катер. Вдоль берегов сушил вёсла на ялике Борис Слуцкий – сочинял своих «Физиков и лириков». Бродский, по–моему, тут ничего не сочинил. Но, говорят, был и от кого-то прятался. А Заболоцкий здесь и вовсе до самой смерти работал. Надежда Мандельштам, наверное, тоже какие-то неблагоприятные дни пережидала и писала очерки о местных колхозниках. Хорошие очерки, душевные. А по другую сторону Оки царствовали художники. Там – Поленово. Мне – туда.
– На ту сторону не перебросишь? – бужу вялого на подъем лодочника на тарусском берегу.
Тот мнется. Говорит, что часика через полтора. А может – и через три. Другой дороги в Поленово из Тарусы в конце октября, кроме как вплавь, уже не найти. Нужна лодка. А в этой сонной дыре («петухи одни да гуси, Господи Иисусе!») недырявые только у ОСВОДа. Но тот спит. Толкаю: поехали, 100 рублей дам. Дело сдвинулось. Но не скоро. Прошёл час. Загремели весла. Ширкнул по прибрежному песку ялик: лодочник зябко поежился и кивнул головой в сторону кормы: «Сигай!» Прыгаю. Судно отчаливает. Слышно, как ластится о его гнутые борта быстрая окская волна. Лодочник уныло, точно раб на галере, нарезает монотонными ломтями водные сажени. Сосредоточенно молчим. Я – о своём. Мой перевозчик – не знаю.
– До Поленова в какую сторону идти? – спрашиваю, выпрыгивая из ткнувшейся в противоположный берег лодки.
– Держись левой стороны, – машет рукой неопределенно вдаль речной извозчик, – и как раз выйдешь. Тут недалеко.
– Ну, будь здоров.
Пру диким берегом. За левым плечом, через Оку остается Таруса. Ориентиров впереди никаких – только следы чьих-то лап и копыт. Надеюсь, что не волчьих и не кабаньих. Короче – «Русский Барбизон». Не помню, кто Тарусе с Поленовым это имя придумал. Пора бы уже и прийти. И точно – впереди строения. А перед ними – речка. Возчик, зараза, об этом меня не предупреждал. Уже после я спрошу название. Скнижка. Интересное, правда? От слова «книжка» – так что ли? А буква «с» тогда зачем? И где, кстати, через неё мост? Моста не оказалось. Конец октября. Пришлось идти вброд. В рубашке и трусах. Брюки, куртка и т.д. – в руках над головой. Благо, что снег обещали только через неделю. Искусство требует жертв… Тоже не помню, кто сказал. Но главное, думаю, в этом выражении все-таки первое слово – искусство.
Мы договорились о встрече где-то в парке. Наталья Николаевна Грамолина многолетний смотритель этой обители муз. Хранитель, так сказать, поленовского пейзажа.
– Мне завещали беречь этот пейзаж, – исповедуется часовой русской живописи, – Мне лично от этого ничего не надо. Кроме того, чтобы был пейзаж. Чтобы вы приехали через много лет сюда со своими внуками, и внук сказал: дедушка, красота-то какая!
– Сколько лет Вы в Поленово?
– Почти 40. Я вышла замуж за Федора Дмитриевича Поленова – внука художника. Приехала сюда и сначала работала научным сотрудником. Когда Федор Дмитриевич попал в Верховный Совет – это был 1990 год – я стала директором музея. Поэтому проблемы провинциальных музеев не то что глубоко знаю – они мои личные проблемы. В каком бы городе я ни была и с каким бы музеем ни знакомилась.
Поленово стало моей судьбой, потому что это очень хорошо сделанное место – от начала до конца. Когда мне совсем плохо, я вспоминаю, как Поленов делал этот дом. Ему было около пятидесяти. Ему было плохо. Его мучили головные боли. Он собирался ехать лечиться в Крым. Но увидел однажды очень красивые места на Оке. И решил тут поселиться. И когда спускался на лодке с Константином Коровиным от Алексина к Серпухову, то нашел вот этот голый песчаный косогор. Так вот – человеку под пятьдесят. Когда нам кажется, что жизнь фактически кончена. А он приходит на голый косогор и начинает строить усадьбу. Причем в состоянии восторга. Какого-то упоения и творческого экстаза, если хотите.
Он строит совершенно новое – для себя, для земли. Он строит новый мир, новую страну. И вот получилось Поленово. Первоначально эта усадьба называлась Борок, то есть маленький бор. Все строил сам, по своим чертежам, по своим проектам. И деревья посадил сам. Мы вот сейчас ходим по парку, весь парк – его произведение. Теперь вы представляете, что может сделать человек в 50 лет? Он прекрасно знал, что не увидит деревья большими. Но он знал, что будут дети, внуки, правнуки. И они увидят их большими. И вот этот урок, когда все можно начать с нуля, в любом возрасте, не отнимая ни у кого чужие углы, сделав свой уголок, который будет гораздо интересней, и люди будут говорить о тебе, как о создателе – это очень полезный урок…
Об этом уроке я думал весь обратный путь. Так сосредоточенно думал, что даже перепутал поезда и сел в Алексине не на калужский, а на тульский. И поехал в обратную сторону от дома. Но это так кажется, что в обратную. Я возвращался домой…
Невероятный Сергей Капица
Скорее всего он ошибся эпохой. Или утилитарная наша эпоха излишне расточительно обошлась с такими, как он. Сергей Капица – типичный персонаж Возрождения. Натурфилософ, энциклопедист, естествоиспытатель, мудрец, пророк, романтик…
На равных он бы мог подискутировать с Декартом и Эйнштейном о бесконечно большом, с Ньютоном и Лейбницем – о бесконечно малом, с Кантом и Толстым – о мире наземном, с Кусто и Мигдалом – о пучинах подводных.
Его находили мудрым и авторитетным собеседником Майя Плисецкая и Папа Римский Иоанн Павел II, дельневосточные подводники и башкирские крестьяне, австралийские спелеологи и физтеховские студенты. Его таковым находили 240 миллионов жителей Союза, к которым этот мудрец приходил еженедельно в гости с экрана своего просветительского детища – "Очевидного и невероятного".
Сергей Капица и был этим самым "очевидным и невероятным". А может – и не таким уж очевидным. Но всё-таки – вероятным. Впрочем, как и вся его великая семья: и батюшка – Петр Леонидович, и дед Алексей Николаевич – блестящие учёные, академики, тоже, впрочем, больше из эпохи Возрождения, нежели из приютившего их жестокого века двадцатого.
С уходом Сергея Капицы что-то очень важное в России прервалось. Мудрость? Глубина? Энциклопедичность? Или та самая эпоха Возрождения, что в мучительно возрождающейся стране никак не находит себе места.
В одном из последних интервью журналист так и назвал Сергея Петровича – "последним мудрецом". Как величественно и как грустно. "Последний…" – с этим никак нельзя смириться. Сергей Петрович, Вас очень не хватает сейчас…
Шепот, а не крик
Или негромкий разговор о настоящей журналистике)
Беседа эта состоялась в далёком уже от нас 2005 году. Но, кажется, не потеряла актуальность и сегодня. О том, что такое журналистика, размышляла обозреватель "Новой газеты" Зоя Ерошок.
– Вообще-то мое занятие – брать интервью, а не давать. Во избежание пафоса я стараюсь от этого уклоняться. Но есть такие особые моменты, когда самоотстранение – это уже не просто кокетство, а минус, я бы сказала, гражданственность. Уж, простите меня за громкие слова.
– Понятия "журналист" и "гражданское общество", по-вашему, близки?
– Начну с того, а что, собственно, такое журналист? Профессия? Я не уверена. Потому что если профессия, то очень условная. Любая профессия подразумевает какое-то фундаментальное знание, например: врач или учитель. А журналист никаким особым фундаментальным знанием не обременен. Так что мне больше нравиться другое определение – "ремесло". У нормальных журналистов не принято говорить: "мое творчество", "мое кредо", "я написал шедевр" или "я написал замечательную статью, замечательный очерк". Когда я работала в "Комсомолке", так там еще задолго до меня было принято любой жанр – даже если это полоса или даже разворот – называть заметкой. "Я написал(а) заметку". Это как бы чуть иронично, снижает пафос – и мне это нравится. А вообще, то, чем занимается журналист, я называю просто – складыванием буковок в слова. И это опять же не кокетство…
– То есть литературная сторона тут тоже не последнюю роль играет?
– Я считаю работу с языком, качество языка главным в профессии.
– Теперь попробуем соотнести все это дело с гражданственностью репортера…
– Мне кажется, эта тема правомерна и правомочна, если под журналистом подразумевать личность. Не просто любого журналиста, а личность. И тогда точки взаимодействия с гражданским обществом будут серьезны и ответственны. Вот личность – это такая сильная индивидуальность, персональность, отдельность, такой очень-очень яркий талант, не только профессиональный, но и человеческий. По Мамардашвили, которого я всегда цитирую, личность – это человек с четко очерченным личностным хребтом. Такая туго натянутая струна духа и характера. Человек, в котором есть порода, крупная порода. Мне всегда кажется, что наша профессия в каких-то моментах переплетается и с писательством, и с актерством. Иногда через сходство очень разного становится понятным то, чем ты занимаешься сам. Так вот: есть много замечательных актеров, очень высокопрофессиональных. Но есть Фаина Раневская, есть Георгий Вицин…
– Согласитесь, что перечень этот – я имею ввиду актеров-личностей – не так уже длинен. Очевидно, как и журналистов-личностей. Не высока ли планка?
– Настаивая на журналисте-личности, хотела бы сказать, что мы все-таки очень сильно польстим человечеству, если скажем, что оно сплошь и рядом состоит из личностей. Это, наверное, и не входит в задачу человечества. Есть более важная задача-минимум: чтобы все люди были хотя бы людьми. Но и это, к сожалению, далеко не так. Потому что, когда я думаю о Беслане (а я не перестаю о нем думать), то прихожу к выводу, что люди, организовавшие его – не люди. Так что не все люди – люди. Есть и нелюди.
Древние греки говорили: нужно мечтать о невозможном для того, чтобы вышло хотя бы что-то более-менее порядочное. Во всяком случае, держать уровень – это важно и в журналистике, и в политике, и в бизнесе, и в жизни. И тогда мы не будем обольщаться и не будем очередных демагогов принимать за новых полубогов. Что с нами, как мне кажется, происходит постоянно.
У Довлатова есть слова, что главный конфликт эпохи – это конфликт между личностью и пятном. То, что он называл пятном, я называю сегодня бунтом серых мышек. Такие неталантливые, безрадостные, закомплексованные существа, которые очень рвутся вперед, рвутся занять первые места и которые мстят за свою закомплексованность, за свое неосуществление. И поэтому очень важно журналисту в самом себе воспитать личность, а потом высмотреть луч личного в безличной толпе. И от этого гражданское общество становится более реальным. Потому что оно держится на том, чтобы высветить, а не затемнить индивидуальность. В задачу журналиста входит находить таких людей, делать неподдельность этих людей публичной.
– Что может быть точкой взаимодействия журналиста и гражданского общества? Как это может обнаружиться? Или так: через что журналисту можно сделать серьезный личный вклад в гражданское общество?
– Мне кажется, не только и не столько через баррикады, через какие-то скрипы, всхлипы, через хлопанье форточек, через пафос, через публицистику (самое ненавидимое мною слово), а, прежде всего, наверное, через язык. Есть ты и язык, и больше никого и ничего. И хотя нам часто говорят о хороших каких-то текстах: ну, мол, это все литература – как бы большой недостаток в журналистике, однако нужно сказать, что мы пишем на том же самом русском языке, на котором существуют великие тексты. Мне кажется, что через язык, через его качество, мы только и можем быть убедительными, ответственными, принципиальными, гражданственными.
Опять же у Довлатова есть фраза: да не пиши ты идеями, пиши буквами. Идеи потом вырастут. В журналистике очень важно "что", но важно еще и "как". И повторяю, что убедительность, достоверность, гражданственность мы достигаем через качество языка. Вот показать человека так, чтобы мурашки по коже, чтобы захотелось перечитать, и прямо сейчас. Для меня гражданское общество – это включенность людей в друг друга. При этом нужно постараться обойтись без резкого запаха политического или социального заказа. К сожалению, сейчас у нас этого очень много.