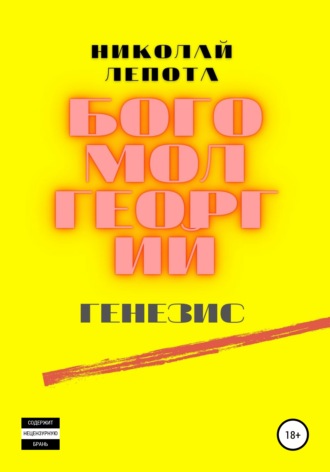
Полная версия
Богомол Георгий. Генезис

Николай Лепота
Богомол Георгий. Генезис
Старая серая ворона, всклоченная и угрюмая, сидела на ветке большого тополя и пристально смотрела вниз на скопление праздничных людей, ища своей выгоды и не находя ее. Она раздраженно и обеспокоенно крутила головой. Взгляд ее шнырял в толпе, брезгливо скользя по рукам, по ногам и по лицам.
Ворона негодовала. Выкрикивала сипло и ругательно:
– Одичали! Оскотинились! Куска в рот никто не сунет! – Покряхтев, бранилась еще непреклоннее, но без всякой надежды: – Выродки. Тошное племя.
Карканье ее относило к склону холма, пробитого туннелем.
Дело шло к вечеру. Рабочая окраина тихо принимала пыльные облака дня, опускавшиеся сверху. Слышались звуки города за холмистыми подъемами, охватившими район депо. Клонившееся к закату солнце освещало мастерские, ангары и тополя. От главного ангара к туннелю дугой пролегали железнодорожные рельсы.
Толпа чуть колыхалась, но звуков почти не издавала.
Лишь легкий шелест шелков. Лишь лепет листьев. На лицах людей застыло благостное предощущение.
Ворона смотрела на них с не проходящим раздражением:
– Ээх, вы! Тупорылые. Столпились на праздник, остолопы. А где тут праздник?! Хоть бы кто жилочку или хрящик выплюнул наземь. Обертку жирную бросил. Куда там! Остолбни. Сдохнешь вместе с вами.
Ей хотелось набрать слюней побольше и наплевать всем предликующим в их тусклые рожи. Но бог не дал вороне обильных слюней. Она лишь судорожно и натужно раскрывала рот, каркая и выставляя темный язык.
А были времена!..
Положим, зима. Яркое солнце. Под холмом ярмарка у замерзшей реки с обрывистыми сугробами на круче. Со снежными наносами, нависающими сверху бараньими лбами. С заметенными под самые макушки прибрежными ветлами.
Толпа веселится, хохочет, толкается. Лица у народа красные, буйные, задорные. А если у у кого угрюмое, то до свирепости.
Пестрота жизни. Мнения! Не то, что теперь: немочь белоглазая.
Были пироги. Блины. Калачи. Грибы сушеные и прочая разнообразная питательная снедь. Дети катались с горы на санках, резвясь и ликуя. Сосали красные и зеленые леденцы. А где они сейчас? И леденцы, и дети? Дети учат в спертом воздухе градации категорий и цехов, по которым разогнали их родителей, по которым растолкают и их в день совершеннолетия. А леденцы все кто-то съел. Все до одного…
А как дрались на ярмарке!
Ворона прищурилась, замерев на серебрившейся нежно-зелено тополиной ветке все с тем же темным, бесполезно торчащим из клюва языком, онемевшим от вкусных воспоминаний. И виделось ей иное. Вот они – раздолбаи! Схватились и принялись волтузить один другого! Дергая за ворот, за грудки, за пельки. Волосы трещат, клочьями растрепанной пеньки валятся на снег…
Один изловчился и швырнул второго. А тот, падая, пнул противника в бок. Из кармана у того вылетел недоеденный мясной пирог, шлепнулся, истекая соком.
Ворона тут как тут. Боком подскочила к дерущимся, блеснула на них быстрым глазом и первым делом стала склевывать ароматный сок со снега. Он был еще теплый. Пах говяжьими щечками, махоркой, штанами и крепким подштанным духом. Ах, и хорош был дух, хорош пирожок, сладок смаком своим!
Нищий, шикая и размахивая руками, устремился к вороне, нацелившись на добычу. Ему тоже хотелось отведать милости божьей: сочного рубленого мяса с луком и солью…
Ворона схватила пирог и запрыгала, горбатясь, подскочила и поднялась тяжелым камнем в воздух.
– Сука! – Заорал нищий с досадой и швырнул в нее палку, без которой не мог ходить ровно.
Ворона с презрением к палке, к потугам и подскокам божедурка опустилась на сук и там, прижимая когтями добычу, принялась её долбить, выхватывая начинку.
Она каркала азартно, поощрительно глядя на дерущихся.
Люди пошли стенка на стенку. Сгрудились. Сцепились. Крики, удары, залихватские песни и стоны. Крашеные ложки пучками… Красная кровь на утоптанном снегу. Красная паюсная икра! Ох, мама дорогая! Не жизнь, а песня.
Раздолье и счастье былого. Молодость полная сил. Молодость жизни вокруг. Все ей было нипочем. А вот теперь сиди, подыхая на тополе, и гляди на эти скученные истертые лики! Точно дохлых кукол сгрудил кто-то внизу, равнодушно наблюдая, как ветер колышет их платья и легкие (надерганные невесть из кого) перья на шляпах. Вялые и безжизненные. Будто в серой пыли. Ворона щелкнула пустым роговым клювом. Теплый мясной дух, проникший туда из памяти, вылетел навсегда. Загустел, алея, воздух. Солнце коснулось земли. Ненавистные вороне лица обрели закатные цвета, страшно ожили. Зловеще зардели мертвые перья. Засветились.
Внизу прошуршали гравием рабочие сапоги.
Ворона натужилась в отчаянии до тьмы в глазах и возопила:
– Эй! Черти полосатые!.. У, времена! У, нравы!
Рабочие не разбирали вороньих страдальческих криков, не в силах расчленить их на разумные слова, они услышали лишь надсадное до выворота кишок: «КаааР!». Будто кого-то вырвало.
Один из них вздрогнул от мнимого выворота желудка и огляделся по сторонам. Принялся осматривать одежду. Недовольно задрал худое костистое лицо кверху.
Увидев ворону, хриплым шепотом зло обругал:
– Тварь.
Ворона (она была не глупа) не осталась в долгу:
– Потатуй псоватый.
И вновь пожалела, что нет у нее наплыва слюней: плюнуть в эту острую собачью морду. Тоже ведь думает, что он человек! Человек? Что ж ты тогда такой худой да востроносый?..
Другой рабочий закашлял и тут же заткнул кашель рукой. Не положено. Положено молча исполнять свои обязанности.
…
Застыл воздух. Застыли люди. Робкие движения лишь подчеркивали немоту события. В укромном закоулке депо разлилось предощущение великого. Тихие перешептывания терялись в шелесте шелков и атласа праздничных полотнищ, платьев и накидок дам, в тяжелом и почти беззвучном колыхании бархатных знамен.
Где-то брякнуло. Протяжно скрипнуло.
Что-то назревало.
Со стуком изношенных роликов отъехали рыжие, выкрашенные свинцовым суриком ворота ангара.
В глубине ангара что-то задвигалось, заворочалось точно зверь. Заскребло и заскрипело. Ухнуло.
И вот всё вдруг содрогнулось вокруг.
Из ворот черной горой выдвинулся гигантский паровоз.
Просели рельсы под ним, под тяжкой ношей загудели, как телеграфные столбы к непогоде.
Казалось, огромный трехэтажный дом на красных новеньких литых колесах выкатил из черной дыры ворот. По верхней их балке, поднятой накануне до самой крыши, проскребла труба. Выворачивающий душу железный звук прогудел, протянул себя над землей и миром и, омерзительно взвизгнув, пропал.
Паровоз сверху вниз грозно смотрел на безмолвную толпу.
– Мама. Мамочка. – Прошептала дама с нелепым бантом, прячась лицом за своего круглолицего курносого спутника.
Тот тоже дрожал в возбуждении и с удовольствием, наслаждаясь словами и тем, что означали они, утешал:
– Ну, что ты! Мама угорела невзначай. Забыла?
Потрепал ее за ушко под кособокой шляпкой и с отрадой дополнил:
– Трупёрда старая. Всегда крутила вентиль не туда. И докрутилась.
Благость и радость гуляли по щекам его.
Давая чувствам волю, курносый с неявным состраданием воскликнул тихо, совсем не жалея угоревшую маму:
– Эх, жаль, не увидит, в гробу сотлевши, как хороши наши дела. Ах, хороши!
Солнце августа опустилось за почерневшие круглые горы тополей, обступавших высокие кирпичные стены цехов. На воротах депо, на сетке верхней перекладины, темнели, растворяясь в близкой ночи старые с потертой краснотой буквы: «Гордепо №1».
Паровоз был так огромен, что люди, вскидывая к нему головы, роняли шляпы. И соседи тут же наступали на них, пошатываясь и пятясь с запрокинутыми лицами.
Черным зверем, протиснувшись в ворота, паровоз вылез на тусклый свет закончившегося дня из недр ангара, где в специально оборудованной мастерской его сковали и склепали на радость людям, возвеличив верховную власть на века, укрепив ее мощь.
Народ млел и молчал.
По правую руку, за толстыми черными стволами и мощными ветвями деревьев стояло малиновой стеной упавшее на землю солнце. Оно не исчезало, разглядывая из укрытия тусклый блеск металлического монстра. Оглаживая его с хвоста.
В центре огромного в чешуйках синей окалины паровозного котла, на лбу его, горело еще одно солнце – рубиновое, с протуберанцами и золотым вензелем витиеватой буквы «Р» посередине. Сверху взирало выпуклое око главного прожектора. За прозрачной до голубизны толстой хрустальной линзой блестела стеклом и черной начинкой не воспламененная угольная лампа в пять тысячи свечей. Линза втягивала в себя зеркальный задник прожектора, выворачивала его наружу, увеличивая лампу, ее нити и висящие на них пластины накаливания, придавая лупатому паровозьему глазу что-то буйное и курьезное.
Курносый, вспомнив ушедшую дорогой теней тещу Аделаиду Буслаевну с ее сильными очками и непомерными сквозь них глазами, захихикал мелко. Одумавшись, тут же взял себя в руки и густо покрыл лицо налетом торжественности.
…
Наблюдатель Средней Руки мегагалактического центра «Локус» Крейцер Йозас сделал запись в Журнале Событий.
«Депо №1. Мегаполис «ZерGут». Материк типа «Евразия». Планета биосферного типа «Земля».
27 год новоюлианского календаря от первых дней правления суперканцлера Юлия.
Жители мегаполиса разделены на профессиональные цеха и категории. Идеология мегаполиса – «СС» – Смирение и Стабильность. Режим глобального контроля.
Коллапсирующие вследствие климатических, биологических и политических аномалий государства былого времени рассыпались в прах. Города-государства и Провинции разобщены и чужды. Испытывают страх и недоверие друг к другу.
В мегаполисе «ZерGут» 12 августа 27 года празднование Дня Чугунного Воина. Совершен технический рывок. Создан гигантский паровоз, заключивший в себе мощь десятков паровозов, воплотивший достижения и идеологию города.
На смену энергии атома пришла… – зачеркнул «пришла» и написал, – …вернулась энергия пара».
Прочел последнюю строку. Зачеркнул слово «вернулась». Вновь написал «пришла». Повисел мягким золотым пером над отливающими свежестью лиловых чернил буквами. Зачеркнул всю строку.
Йозас оставил помарки сознательно, усилив документальность записи. Лиловые строки уплыли в вечность.
…
Сумерки сгустились. Огни двух малых паровозных прожекторов разгорелись за плоскими рифлеными стеклами. Отсвет пошел по откосам, по столбам и постройкам, озаряя нарядную публику, выхватывая черно-красные стяги, рубиновые на них протуберанцы вечного добиблейского солнца.
Он ложился полосами и пятнами на торжественные бледные лица людей, отражался в их изумленных глазах. Блестели белки. Далекие искры вспыхивали в глубине зрачков.
Свет проникал в открытые рты. Во тьме ртов немые языки прятались темными лепешками за зубами жителей города.
Главные колеса паровоза поднимались до середины кабины, уходя назад до самого тендера. Они накатывали, отмахивая трехметровыми спицами, как мельничными крыльями.
Шепот восторга, сопровождал это величественное накатывание.
Курносый, победно оглядываясь по сторонам, пропел восхищенно:
– Колеооосики! Прищемят нос любому!
Его дама с бантом, бледная и растрепанная, воскликнула в самозабвении восторга:
– Нас будут все бояться и любить!
– Еще и гладить.
– Любить. Любить. Любить. – Звучало в полубреду заклинанием.
Курносый свои пожелания изъяснял куда предметнее:
– И щекотить нам пятки. Когда мы их подставим. Пууусть. Пусть щекотют.
Скосился на соблазнительную даму по соседству, которая, не замечая того, отдавшись порыву, в восхищении терлась о его полный бок своим пурпурным боком, сладострастным и упругим.
Глаза ее светились, казалось, не отраженным светом, а собственным, лазурным.
– О, паровоз! – Выдыхала она. – Аж, сердце замирает. Как будто дом!
– Как дом… – Курносый окинул ее взглядом. Остановился на груди. – Гораздо больше дома. Не паровоз, а вставший на ноги завод. Корабыль звездный… Просто – мамонт! Вы мамонтов видали? Таких больших, в шерсти?
– Нет. Я их боюсь! – Легко доверившись ему, сказала дама.
Спутница Курносого напряглась и двинула себя вперед:
– Я видала.
Где? Балаболка. Ревнивая дура. И было б что в самой, а то лишь лисий хвост. На шее. Меха былого. Редкость. Ну и что? Потеребенькать и забыть.
Курносый, не реагируя на надуманные позы жены Айседоры, вновь обратился к даме полной сладостей, прелестей и обещаний:
– Ну, вот. Глядите.
– А где же шерсть?
Разговор плыл многозначительный и пылкий.
Видя, куда он плывет, Айседора плюнула под ноги Курносому и дернула его за рукав:
– Вот уж склепали, так склепали! На радость людям. Умеют же клепать!
Полная якобы невинной неги, или действительно вполне сойдясь в себе – дебелой, крайне зрелой – с наивностью детей, как всякая завидная блудяшка, соблазнительная дама улыбнулась сквозь слезы:
– О, милый и могучий паровоз.
Курносый покосился на нее, покраснев всей шеей, и все же не рискнул продолжить флирт. Напористо и без обиняков обратился к окружающим:
– А?! – требую незамедлительного согласия.
В ответ торжественно закивали.
А как не закивать?
Из массы тел выдвинулся человек в атласной шляпе, желая разлить погуще собственный елей:
– Его придумал суперканцлер Юлий. Величие во всем.
Курносый насел взглядом:
– Считаете, могло быть по-другому?
Атласная Шляпа пришла в смятение от дерзости альтернативы. Забилась в пожатии плеч. В притопывании ног. В бульканьи смятых губ.
– Нет-нет! Конечно, нет! – Понеслось со всех сторон.
Оказывается, все были в памяти и живы. Не онемели навсегда. Всё слышали. И сразу же вонзились в жизнь своими голосами.
Ворону от этой гнусности тошнило:
– Бя-ууу… – Вывалила она язык набок.
Всмотрелась и вознегодовала:
– Ах, мордофили! Шалопуты. Сошлись как на подбор – разлямзя на разлямзе! Титёшницы да мухоблуды! Хотя б один хабал нашелся, разошелся и всех послал их на …
Мощный гудок сорвал последнее значимое слово с клюва вороны. Изорвал. Разметал несостоявшиеся звуки.
Горожане обмерли и присели.
Острая струя пара сбила ворону с ветки, размозжив ее, разметав перья, и отбросив безжизненный мокрый комок далеко в сторону, шмякнув о глинистый склон холма.
За холмом притих невидимый город. Лишь кое-где над склонами поднимались макушки самых высоких зданий. Разгорался скромный свет фонарей. Поднимался бледно в небо. Мешал звездам блистать.
На первых желтых листьях, слетевших с тополей, лежала встопорщенная неказистая и жалкая воронья тушка. Остекленевший круг мертвого плоского глаза над треснувшим от удара сизым клювом был угрюм.
Глаз безжизненно, но пристально смотрел на людей. Они отражались в нем тусклыми мелкими букашками. Проваливались внутрь. Переворачивались. И там, внутри, вырастали, суетились и бегали. Метались и падали. Возводили полные ужаса глаза к небу. На лицах виднелась кровь и сажа.
Полукаркающий хрипящий голос вороны с того света возвещал:
– КррраХхх!
Гудок паровоза, порывистый и поспешный, пристроился к последнему вороньему «…хх».
…
Чугунный Воин приближался по дуге поржавевших от времени рельсов к специально сооруженному по случаю праздника помосту. Центральную часть его укрывал шатер. Шатер был оцеплен охраной.
Публика, окружая серый в свинцовых переливах вздыбленный непробиваемый спецшелк, колыхалась в наползающих сумерках, расцвечивая своей пестротой пейзаж тусклой рабочей окраины. Привнося в него некую праздничную дичь и несуразность.
Тяжко пыхтя, похрустывая железом и гравием, паровоз накатывал, занимая пространство. Свистел сдержанно. Тоньше прежнего. Чтобы не напугать важных особ.
Излишки мощи вылетали через клапан.
Густой пар, поднялся до крыши, растворив великолепное чудовище.
На экране, установленном напротив помоста, было видно, как в обогатительной установке паровоза секретное топливо булькает и вскипает, меняя своё агрегатное состояние. Как машина огненным ртом пожирает раскаленный кокс, летящий серыми маслянистыми ошметьями в зев топки.
Лучшие горожане и делегаты от цехов ловили жадными взорами небывалое зрелище. Косились то на экран, то на паровоз. Глаза их разъезжались. Усилием воли, дабы не окосоглазиться навечно, они их стягивали обратно к носу.
– Смотрите! Как пылает! – Непрерывно восхищалась соблазнительная дама.
– Чертей в аду от зависти тошнит. – Поддержал ее Курносый. Сказал, не понимая сказанного, но чувствуя важность и сладость слов: – Шипят в смоле копытцы. На их бы месте, я бы просто сдох от загляденья.
Пар вырвался вдруг с такой мощью, что паровоз содрогнулся. Внутри его разнесся стон. Стон небывалый. Как будто буйволу давили на кишки большими кулаками.
В первых рядах «ахнули»:
– Ах!
Какая-то женщина – из числа лучших жителей, собранных здесь – упала на струганные доски помоста, измяв туалет. Ее тут же подхватили и унесли. Праздника это не испортило, а лишь усилило его, наполнив магией сакральной жути.
Курносый, пряча губы в ладошку, сообщил:
– Он скоро полетит.
– Кто полетит?
Курносый завращал глазами, зашептал горячо в пунцовеющее ухо все той же соблазнительницы:
– Да – он же! Я слышал, что уже на месте подлетает. Подскочит и опять. Подскочит и стоит. Сто-иии-Т! – Притиснулся незаметно к ее влекущему телу. – И подлетает вверх. Пока не высоко. Но и не низко. Стоит и – раз!
– Такой большой и…
– …и полетит! – Отрезала Айседора.
Голос ее был зол и въедлив.
Курносый, не желая бабьих склок, сообщил таинственно:
– О! Слышите?
– Что?
– Слышите ли вы? Ну?.. – И шепотом кишечным: – Юлий ходит по помосту.
– Ворон рыщет по погосту! – Тут же отозвалось, разлетаясь в воздухе не известно из чего сгустившееся воронье потустороннее карканье.
Курносый побелел и закашлялся, хлебнув дыма небывальщины. Черные крылья закрыли свет. И разошлись. Никто не видел этого. Казалось, курильщик, забулькал-захрипел альвеолами.
Открытое курение давно было запрещено. И потому в кашляющее лицо немедленно вперились глаза законоблюстителя-регистратора Евстафия Корытова. Но не увидели ничего кроме детской доверчивой улыбки Курносого. За улыбкой не было ни единого клочка дыма.
– Я что-то вся немею, – сообщила интимно сладкая по виду дама.
И растрепанная спутница Курносого зашлась в испуге:
– И у меня вот тут вот все щекотит. По пояснице вниз.
– Вниз? В самый низ? – Все еще давясь сипящим дыханием, поинтересовался Курносый.
– До середины. И живот трясется.
– Ну, надо же…
– Испариной взялась. Печенка екает, как селезенка.
Соблазнительная дама вновь потянула одеяло на себя от живота и тряски растрепы Айседоры:
– А где же паровоз? Совсем его не видно.
Клубы молочного пара оседали. Из облака, твердой губой приникнув к самым рельсам, выступила влажная, в капельках конденсата чугунная решетка отбойника.
Репортер Ефим Шелудящийся черкнул в блокнот: «Глубокие краски. Мокрое железо. Тени и блеск. Виват тебе!»
Протуберанцы герба-солнца разгорелись.
Паровоз ухал и трясся. Всё сдерживая мощь. Всё давая ужаснуться собою в полной мере и вдоволь насладиться этим ужасом.
Айседора взяла инициативу в свои руки:
– Щас полетит!
– А ну-ка, Дорка! – Курносый тут же принял ее сторону и, выпучив глаза, принялся помогать взлету шипением и хотением:
– Шшшшш-И! Шшшшш-И! Иииии-Ях!..
И паровоз ответил ему:
– Фууу-Х!
Но не полетел. Обдал всех паром и замер.
…
На экране возник суперканцлер Юлий в козловых сапожках. На том же самом помосте, где и все они. Но в шатре. А может и где-то далеко в секретном бункере. Чтобы ему не навредили. В зеленом канцлерском мундире. С золотыми эполетами и позументом. Невидимый толпе он громом обрушился на нее:
– Детище Дум! Дерзновенных Мечтаний!
Детище наших трудов и желаний!
Каждому показалось, что суперканцлер гавкает и гнусавит. И каждый понимал, что ему это только кажется. И потому молчал до боли в скулах, не выдавая заблужденья.
Юлий грохотал и дребезжал, обращаясь к паровозу как к брату. Гавканье разносилось далеко вокруг и вдруг оборвалось натужным, но въедливым сипением:
– Вздыблен! Незыблем! Несокрушим!
Мы победим, Побратим!
Накрученный голос из мощных усилителей ударил в холм яростно. Ручейки глины потекли по склону, осыпая коричневой пылью ошпаренное тело вороны, прикрывая его.
Ворону засыпало. Из кучки глины куском серой мозаики торчал лишь растрескавшийся досужий клюв, и тускло отблескивал фрагмент погасшего глаза.
…
Досталось не только вороне. Люди качнулись волной, присели от грохота слов.
Курносый делал вид, что ему все нипочем. Он крепок. Словно третий брат Юлия и паровоза. Незаметно привстав, он потянул свою спутницу за локоть кверху:
– Сплошало, Дора?
– Я бу-ба-ка, бка-ка боюся… – Послабевшим горлом, с клекотом усталого издыхающего орла призналась та, сама не зная, что сказала. И уже членораздельней: – Я к шепоткам привыкла. А тут… Наш Юлий точно с неба ахнул. Кишки застыли. Жилы ломит. И голова гудит.
Вплелась и соблазнительная дама:
– Я вся немею.
– Провались ты. Немеет всё она!.. – Хоть тихо, но всем слышно не одобрила хроническое онемение соседки Айседора с бантом. И плюнула под ноги уже и ей. Не только мужу.
Курносый не вникал в разлад. Он предавался сладострастью:
– Йуу-лий. – Губы трубочкой сложились сами. И важно палец – вверх!
Шелест рукоплесканий и всплеск букв на экране: «Юлий! Юлий! Супер-Юлий!»
И заученно. Поставленно. Доверенными и проверенными губами Баритон Госэкрана:
– ЮЮЮ-ЛИЙ!
И тишина. Суперканцлер против славословий. Любовь не в криках. Она в глазах. В глаза течет из сердца. А сердце любит тишину. Такое вот кольцо любви и упований.
Юлий веточкой липы махнул паровозу, открывая светлый путь. Паровоз благодарно свистнул. Нежно. Без запала. И погудел, играючи, рожком.
Тронулся и встал. Туннель впереди был слишком низок.
Но дайте срок!
– Он полетит! – Стал величественно пророчествовать Курносый. – Над этими холмами. За тополями. Во-он туда.
…
Кудлатый режиссер трансляции, фривольно и развинчено виляя задом, прошел по студии, приблизился к экрану. Впился. Хмыкнул.
– Дай-ка мне этот нос счастья на три четверти!
И тут же на экран был брошен из толпы сияющий круглый нос. Шарики ноздрей катились к паровозу.
Сзади Курносого незаметно толкали ассистенты режиссера.
Он наплывал, задыхался и хихикал от щекотки сердца.
Над «Гордепо №1» заметалось не столь громкое, как у Юлия, но раскатистое слово диктора:
– Чугунный Воин – Властелин пространств!
Праздничная толпа вздохнула опьяненно.
Курносый задыхался от восторга. Его все еще толкали и тащили. А он тащил за руку свою Айседору Иголкину (по мужу). Она ему была, как видно, дорога. Или тягучая судорога сцепила их влажные кисти.
Бант Доры повис ненужной тряпкой, покалеченный случайными плечами, локтями, кистями, хлопающими и по банту, и по лицу. Не до гламурностей, когда такое счастье.
Дора, так и не совладавши с горлом, пищала лилипуточкой:
– Воин! Воин!
И разгоралась лицом, ощущая в глубине скоромного тела чувственные позывы. Будто тащили ее не в толпе умильных горожан – к свету, а по лесу. На совокупление с огромным и могучим воином. Пусть не чугунным. Но с большим надменным носом.
Соблазнительная дама сама по себе вошла в негромкий экстаз:
– А-ааа! А-ааа! А-Ах-ик…
Икнуть – не пукнуть. Ей простили.
Люди растеряны. Счастливо улыбаются. Слившись в едином крике, немеют. Наиболее пылкие, близки к поллюциям. Им мил уют укромного житья. Их трогательная защищенность.
Не до гнилого балагурства этому народу. Он предан целиком.
А преданность рождается тогда, когда не предают. А Юлий не предаст. И не продаст. Им кажется сейчас – толпой. Они в едином вздохе с кружащейся большою головой, готовы в это верить. Верят.
Но знают и другое. Поодиночке. После. Иногда.
…
Из группы нарядных дам одна (не ниже категории «В») выделялась особенно. С рыжими волосами, в лиловом, наглухо закрывавшем тело, атласном с серой отделкой платье, гладко облегавшем прелестную фигуру. Платье подчеркивало изумительные изгибы. Выпускало на волю обнаженную высокую шею. От шеи кверху, под шляпу завивались медные волосы.
Великолепная женщина пребывала в полной силе прельщения. Держалась скромно, но умело, неуловимо выделяя позой то одну часть тела, то другую, губами выдувая сквозь улыбку невинные майские ароматы. Они текли, опровергая август.


