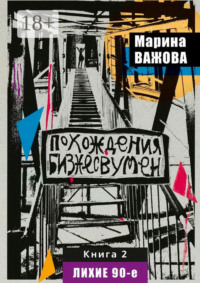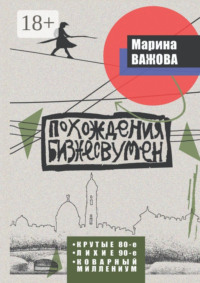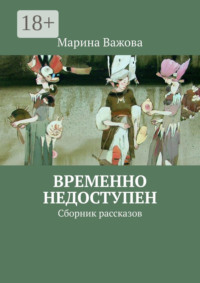Полная версия
Призраки летнего сада
Подобного в отчётах археологов не было. Он представлял, как Света будет гордиться, когда её коллеги сначала с недоверием, а потом молчаливо одобряя, станут рассматривать и сопоставлять предметы и чертежи. Если задание было срочным, задерживался допоздна, и Дарина не протестовала. Сын вырос, вносит вклад в семейный бюджет, а не бездельничает. Истинной подоплёки такого старания она и представить не могла, да и Лёсик ни на что не надеялся. Ведь у Светы есть Джордж, они скоро поженятся и уедут в Лос-Анжелес.
Но время шло, а Джордж застрял в Штатах. Он затеял новый проект в сфере общественного транспорта, закладывал камень их общего со Светой будущего. Проект имел международный статус, инвестировался из МВФ и был рассчитан на ближайшие пятнадцать лет. Джордж ни о чём другом не мог говорить, так что после дежурных вопросов о Ваниче, здоровье и погоде к телефону звали Лёсика, перед которым Джордж разворачивал свои планы. 2
Нельзя сказать, что Лёсику они были в тот момент так уж интересны, но его познаний в английском и умения слушать хватало для полноценного общения. К тому же с некоторых пор он чувствовал себя виноватым, ведь Света была невестой Джорджа, но именно он, Лёсик, проводил с ней массу времени. Считалось, что Света и Джордж любят друг друга, собираются пожениться, воспитывать вместе Ванича и вскоре уехать в Штаты. На деле они жили порознь, каждый в своём мире, со своими интересами. Ванич сильно вырос и не годился уже ни для какого воспитания, а переезд в Штаты всё откладывался.
О том, что билеты на самолёт куплены, а Джордж обставляет новенький уютный домик, готовит любовное гнёздышко для Pretty bride, Света умолчала, и даже Ванич долгое время ни о чём не подозревал. Они жили как раньше, как будто не было планов отъезда. И Лёсик перестал об этом думать. Работа в мастерской поглощала будни, выходные, благодаря стараниям Дарины и Светы, превращались в турпоездки «на четверых», так что ничто не напоминало о разлуке. 3
Пока не было точной даты отъезда, Лёсик почти не беспокоился. Он вообще не терял надежды, что эта тема как-то рассосётся, и жизнь потечёт по-прежнему. Представить, что Светы не будет рядом , он не мог. Она тоже не хотела покидать страну, свою мастерскую, общение на родном языке. Как бы создавая препятствия, поставила Джорджу почти невыполнимые условия: двойное гражданство для себя и Ванича, работа в реставрации, собственный дом. Джордж прилагал неимоверные усилия, кое-что получалось. Лёсик ревновал, прекрасно понимая, что у него самого нет никаких шансов. Духовно они со Светой были очень близки – но и только. Сумасшедшая разница в возрасте усугубляла проблему. никогда
Как-то раз – дело было зимой – они втроём поехали в Орехово кататься на лыжах. Ванич никак не мог наладить крепления, Света, помогая ему, не сразу заметила, что Лёсик совершенно беспомощен на лыжне. Она осознала это, когда было поздно что-либо исправить – на прямых ногах, с летящими волосами, Лёсик пулей мчался со склона. Ему кричали: присядь, наклонись вперёд! – но всё было напрасно. Его занесло на повороте, замелькали соскочившие лыжи, палки летели по сторонам. К нему подкатывали лыжники, Света тоже кинулась, с замирающим сердцем вглядываясь в распластанную фигурку. 4
От спортивной базы уже бежали двое мужчин с носилками. К счастью, ничего особо страшного не произошло: несколько ушибов, растяжение лодыжки и ссадина на лбу. Лёсика доставили в медпункт, туго забинтовали ногу, пластырем заклеили лоб, что-то вкололи, а потом все вместе пили чай с бутербродами. Всё же небольшое сотрясение он получил, и Света повезла парней к себе домой на такси.
Лёсик остался у них на целую неделю – матушка уехала в командировку – и откровенно радовался полученной травме. Света была в отпуске, и они целыми днями разговаривали и обсуждали всё подряд, кроме того, что по-настоящему волновало Лёсика. Ведь о чём они говорили? Про находки из раскопов, каталожные карточки, про метод датирования наскальных рисунков по катионному показателю. Они говорили о патине, о содержании в ней оксида титана, но ни слова о них самих! Лишь когда Света бинтовала ему ногу, он чувствовал слабые токи, идущие от её рук и видел, как дрожат её пальцы.
Лучше ни на что не надеяться, просто быть рядом с ней, пока это возможно. Засыпая, каждый раз представлял, как тихонько открывается дверь, и Света подходит к его дивану, садится рядом на корточки, её губы оказываются вровень с его губами. А он лежит с закрытыми глазами и делает вид, что спит, но чувствует её дыхание и ждёт… Иди к ней сам, говорит , будь смелее, будь мужчиной! И, вздохнув, презрительно отворачивается к стене. Леон
Из дневника Лёсика
22.02.199… г.
Вот уже третий день, как я по-настоящему счастлив! Просыпаюсь утром, вижу сиреневые шторы и понимаю, что я у Светы. И впереди – только я и ты, да только я и ты, да ты и я… только мы с тобой, да только мы с тобой, да мы с тобой… Эту песню Света постоянно мурлыкает. Но что поражает! Последнее время я слышал её многократно: в фильме, что шёл вчера по телеку, и в машине, когда Света возила меня на рентген. Как будто весь мир знает про нас!
24.02.199…
Вчера ночью произошло что-то невероятное. Меня разбудили голоса: на кухне явно ссорились. Мне показалось… нет, я точно услышал: «Да мне плевать на твой возраст, и на свой тоже!». Но что самое странное, это было произнесено знакомым голосом, только чьим – не вспомнить! Поначалу зарылся в подушки, чтобы не подслушивать, и даже вновь закемарил, но тут услышал сдавленный крик и соскочил с дивана. Добравшись до кухонной двери, долгую минуту стоял с колотящимся сердцем, потом всё же решился и заглянул в приоткрытую дверь.
Кухня была освещена множеством свечей, от которых исходила духота и марево. Любимое Светино кресло, выдвинутое на середину и заваленное какими-то тряпками – я разглядел халат Джорджа, его банное полотенце – стояло спинкой к двери, я видел только выставленное колено. Белёсо-голое. Женское. Светино. А на колене – голова с длинными растрёпанными волосами.
Я резко отпрянул, голова дёрнулась, развернулась ко мне лицом, и хотя спутанные волосы закрывали глаза, рот с ассиметричной улыбкой проступал чётко. Губы складывали слова, но я их не слышал – мне заложило уши, в висках стучало, на лбу выступил холодный пот, ручейками бежал по шее, груди. Кухня накренилась, и вдруг всё провалилось, погасло, будто выдернули из розетки.
Когда мир проявился знакомыми предметами, я обнаружил, что лежу на диване. Встал, обошёл все закоулки – никого нет. И никаких следов ночного события, только пустые подсвечники с потёками воска.
Я совсем уже вознамерился убраться из квартиры – не хотелось ни с кем встречаться – как замок входной двери щёлкнул, и на пороге возникла Света с букетом жёлтых хризантем. Света прошла к столу, стала пристраивать в вазу цветы. Я глядел, не отрываясь, и понимание чего-то свершившегося повергло меня в покорное бездействие. Как будто всё уже решено, и мне не о чем волноваться, не о чем жалеть. Да ведь меня больше нет, теперь кто-то другой распоряжается моим телом, поступками. Я должен, просто обязан ей всё рассказать. Иначе она будет думать, что я такой… Сбиваясь и путаясь, поведал Свете о своей двойственности, как до поры держал всё под контролем, а теперь побеждён и больше ни в чём не уверен.
Я не знаю, что это было, я не помню, выговаривал я непослушными губами, а Света гладила меня по голове как маленького и только повторяла: не волнуйся, всё утрясётся. Ты мне веришь? Ты не бросишь меня? – спрашивал я и тут же понимал, что не произнёс ни слова, лишь мычал, обливаясь сладкими, лёгкими слезами.
Двойная утрата
Отъезд Светы с Ваничем в Штаты стал для Лёсика той судьбоносной вехой, от которой отсчитывают года и события, добавляя: это было года за два до… или мы сделали ремонт сразу после… Особенно мучительным стал последний день. Накануне Лёсик, видимо, простыл, или накатила сезонная аллергия. Нахохленный, со слезящимися глазами сидел на большом диване, односложно отвечая Джорджу, но больше молчал.
Ванич вдруг впал в истерику, напился сухим вином, стал поливать Америку, отказывался собирать вещи. В общем, раскис и всех выбил из колеи. Уговаривая его, Джордж переходил с английского на слишком правильный русский, расписывал новую школу, обещал поездку в Канаду, собаку и миллион красивых девушек, живущих неподалёку, но Ванич плохел прямо на глазах. Лёсик в разговор не вступал, только хмуро поглядывал и, пока друг заливал внезапно подступившее горе кисловатым слабеньким Мерло, прихлёбывал зелёный чай из своей любимой китайской чашки с узорами на просвет.
Света смотрела в список того, что ещё необходимо взять, и злилась. На эти затянувшиеся сборы, на психоз Ванича, на Джорджа с его абсолютно мёртвым и неубедительным русским. Но больше всего её бесил именно Лёсик, который безучастно наблюдал за всеми, хотя мог бы так же, как они, готовиться к большим переменам. Мог бы! Он имел точно такую же возможность уехать в Штаты или в Англию – учиться в Кембридже. Дарина прилично зарабатывала и могла позволить ему (или себе?) такую роскошь.
Ванич валялся всё на том же диване, весь красный от вина и возбуждения, а Лёсик, отодвинув пустую чашку, кошачьим движением вынырнул из-за стола и с интересом стал разглядывать неслабую кучу вещей, образовавших в прихожей подобие пирамиды. Света как раз пристраивала очередную коробку, сокрушаясь, что маловато отправила с контейнером, и теперь придётся раскошелиться на оплату лишнего багажа.
Переступая с ноги на ногу, Лёсик задумчиво изрёк: «Мне бы не хотелось вас отпускать. Есть ощущение, что мы больше не увидимся». И так глубоко заглянул в глаза, проник на самое дно, что у Светы даже голова закружилась. Она что-то лепетала типа: «Не болтай чепуху, летом к нам приедешь, понравится, так останешься, с Ваничем вместе учиться будешь…», – а сама глядит неотрывно, потому что читает в его взгляде…
Я не могу без тебя, ты разве не видишь, что мне без тебя будет очень-очень плохо. Ты разве не чувствуешь то, что я чувствую? Я ничего не понимаю, но если ты сейчас уедешь, у меня остановится сердце…
Провожать Лёсик не поехал: в такси не было места, и по сути он уже расстался со всеми. Света, бледная, но спокойная, шепнула ему, садясь в машину: «Я не прощаюсь, слышишь, не прощаюсь», – и поцеловала куда-то в ухо…
С их отъездом ничего не изменилось. Лёсик пропадал целыми днями в бывшей Светиной мастерской, возвращаясь домой только поспать. Он с радостью оставался бы на ночь, перекантовался на том самом продавленном диванчике, на котором они со Светой обсуждали детали работы либо просто молчали. Но это, к сожалению, было запрещено, мастерскую на ночь опечатывали.
Зато в восемь утра, как только ночной сторож сдавал смену, Лёсик был уже на месте, так что у всех создалось впечатление, что он вовсе не уходил. Это было почти правдой и помогало пережить боль утраты. Света словно ненадолго вышла, но предметы, к которым она прикасалась, записи, инструменты продолжали окружать Лёсика, создавая эффект её присутствия. Порой, забывшись, он отвечал на телефонный звонок: «Её нет на месте», – потом спохватывался: «Сегодня уже не будет». Возможно, завтра, – добавлял он про себя и сам верил в это. Он с нетерпением ждал ночи, надеясь во сне увидеть Свету, почувствовать её дыхание на своей щеке, тепло руки. Но снилось что-то обыденное, незапоминающееся.
Так прошёл год. Постепенно финансирование мастерской стало сворачиваться, люди подолгу не получали зарплату, увольнялись, а в один из весенних, солнечных дней пришёл директор, Василий Семёнович, и удивился, застав Лёсика на рабочем месте. Видимо, от удивления он стал рассказывать ему, рядовому лаборанту, о грядущих переменах, но Лёсик мало что понял из его рассказа. В тот момент его очень заботила одна насущная проблема: довольно хорошо сохранившаяся каменная чаша из раскопок в долине Пазырык Южной Сибири не помещалась в сканер, и надо было что-то придумать. Поэтому он делал вид, что внимательно слушает директора, а сам прикидывал, не отнести ли чашу в Военную Академию, где, по его сведениям, воякам для каких-то непонятных дел куплен здоровый трёхмерник – томограф.
От этих мыслей его отвлекло упоминание имени Светы. Директор сказал, что Светлане Васильевне это бы не понравилось. Но что именно ей могло не понравиться, Лёсик прослушал. Василий Семёнович принял его заинтересованный взгляд как согласие и уже в дверях уверенно произнёс: «Так что поможешь всё погрузить и не забудь документацию убрать в сейф. Я на тебя рассчитываю». И в тот же момент Лёсик явственно услышал Светин голос: «Только моих вещей им не отдавай». Он даже вздрогнул и взглянул сначала в тот угол, где стоял её рабочий стол, а потом на директора, но поймал только его уходящую спину.
Через три дня пришла крытая брезентом машина, и Лёсик вдвоём с охранником осторожно погрузили туда имущество мастерской, включая все археологические артефакты, которые Лёсик заранее упаковал в пупырчатую воздушную плёнку, перетянул скотчем и промаркировал наклейками. От слишком осведомлённого, слегка подвыпившего охранника он узнал, что помещение мастерской куплено какой-то крупной фирмой, как, впрочем, и весь ближайший квартал, что имущество списано и по остаточной стоимости продано Васильку, то бишь директору, на дачу которого сейчас и отправится.
О чём же он мне тогда говорил, что должно не понравиться Светлане Васильевне? И тут же понял: всё. Ей всё это никак не могло бы понравиться. Хорошо, что он отнёс домой её инструменты, а заодно три глиняные дощечки, над которыми они со Светой работали перед отъездом. И сразу перестал мучиться угрызениями совести за припрятанного воробья – каменную фигурку из раскопок в хакасских степях. Этого воробья вместе с десятком костяных гребней год назад принесли для документирования, но так и не забрали. Так уже случалось: сегодня это ценим и охраняем, а завтра, глядишь, разрушено и на помойке лежит.
Когда машина отъехала, а охранник, гремя ключами, закрыл и опечатал дверь мастерской, Лёсику показалось, что его выгнали из дома. Только сейчас, стоя в одной рубашке под густым весенним ливнем, он с пронзительной, ошеломившей его болью понял, что Светы больше нет. Не важно, что она где-то ходит по земле, возможно, смеётся или готовит еду, но здесь, в его мире, она уже никогда не появится. Не пройдёт задумчиво под окнами мастерской, расстёгивая на ходу джинсовую куртку, не закурит украдкой у чёрного хода, пряча сигарету в кулак, не улыбнётся в потёмках проходного двора, показав на миг перевёрнутый полумесяц белых зубов.
И уже не радовался он заныканному воробью, возраст которого перевалил за две тысячи лет, и трём глиняным дощечкам, вовсе бесценным. Не чувствовал он себя уж таким предусмотрительным и ловким за то, что догадался – ещё перед отъездом Светы – копировать свою работу на домашний компьютер, сохранив около полусотни объёмных моделей, прошедших через его руки…
Лёсик двигался в сторону дома, но почти не осознавал, что делает. Настолько был переполнен чувством утраты, причём свежей, только произошедшей утраты, что не заметил, как на втором этаже, в окне кухни, загорелся свет, а из-за неплотно задёрнутой занавески за ним наблюдает мужчина, чёрная с сильной проседью шевелюра которого смахивает на шкуру полярного волка.
Из дневника Лёсика
17.05.199… г.
В Борках хорошо спится. В городе заснуть по-настоящему удаётся часа на три, а тут сон накрывает незаметно, стирая грань с явью. И тогда приходит Света. Она возникает откуда-то издалека, но её присутствие чувствуется сразу. Сначала появляется мягкий, как под водой, свет, колышутся зелёные тени. Потом я слышу её смех. Вернее, кажется, что слышу, потому что сны здесь наполнены звуками из сада. К птичьему теньканью порой присоединяются аккорды питерского, слегка расстроенного пианино. Потом набегает волна, и я вмиг узнаю Светин голос. Такая радость теснится в горле, что хочется плакать…
Я уже различаю под окнами её шаги. Она огибает дом и заходит через садовую дверь. Надо досчитать до двенадцати – и Света появится на пороге комнаты. Она приникает ко мне, я чувствую родной запах – лёгкая смесь выветрившегося табака и её постоянных духов, кажется, Кензо. Я смеюсь, целую Светины ладони, ловлю ускользающие руки, обнимаю за плечи и погружаюсь в жерло вращающейся воронки. Кричу так громко, что слышу свой крик издалека.
Вернее, его слышит Леон и не преминет утром бросить с ехидной ухмылочкой: «Нормальных женщин, что ли, нет?».
Авантюра
Закрытие реставрационной мастерской застало Лёсика врасплох. Он уже привык обращаться с предметами, возраст которых напрочь уничтожал привычные понятия о возрасте. Привык, бережно держа в руках, мысленно переноситься то в дикие Хакасские степи, то в городище Шаштепа, от которого в Ташкенте остался только холм, а когда-то, чуть не три тысячи лет назад, там жали ячмень бронзовыми серпами. Один из этих серпов провёл неделю в Светиной мастерской и остался в компьютере Лёсика в виде фотографий и трёхмерного чертежа.
Теперь его руки касались обыденных вещей, но и среди них попадались пусть не такие древние, но «старинные», хранящие запахи и образы ушедшей жизни. Бо́льшую часть «раритетов» он добывал на помойках. Для этих не находилось места в новых панельных квартирах, куда расселяли жителей домов, идущих на капремонт. У Лёсика уже вошло в привычку обходить окрестные свалки, и редко когда обходилось без находок. Прислонённые к столбу навеса или аккуратно развешенные на перилах ограждения, эти вещицы, некогда полезные и любимые, а ныне выдворенные из квартир, сиротливо ждали своей участи. памятных вещиц
Именно там Лёсик нашёл синий эмалированный чайник, будто специально выложенный на газетку под натюрморты Петрова-Водкина, и кожаную коробку с оторванной крышкой, из которой графитовыми рёбрами торчали шеллаковые грампластинки. Он забирал свои находки и по дороге домой разговаривал с ними. Ну, что, старик, протекаешь? Это ничего, исправим. И ржавчину выведем… А с тобой, моя кружевная, – сообщал он покрытой плесенью полочке, – придётся повозиться, видать, в ванной сто лет висела…
Любовь к разному безобидному старью подтолкнула Лёсика на его реставрацию, и он научился склеивать разбитый фарфор, обновлять красочный слой деревянной росписи, закреплять ветхую пряжу и волокна истлевшей ткани. Порой, когда прах рассыпался под руками, просто восстанавливал утраченные детали. Предметы для него были живыми. Лёсик верил в реинкарнацию вещей и предвидел за ней будущее (past in the future). Может быть, всё-таки для воссоздания декораций своего невозвратного детства? 5
Пребывая через эти материальные пережитки в прошедшем времени, он вывел рабочее правило, которое гласило, что достойная копия проявляет черты оригинала, получив повторное воплощение. Об этом он часто спорил со Светой, которая всегда чуяла подделку, и как бы та ни была мастерски исполнена, не признавала за копией большой ценности.
– Ну, это зависит от многих факторов, – холодно возражал Лёсик, забывая в этот момент о своих чувствах к Свете, – Если методика сохранена, и копирование не преследует цели наживы, то со временем…
– Да причём здесь нажива?! – горячилась Света, – копия без-ду-шна.
– Ну, так и я о том, – как бы соглашался Лёсик, понимая, что не умеет словами передать свою тонкую, как ему казалось, мысль.
После отъезда Светы Лёсик решил воспользоваться своим архивом и что-нибудь восстановить по трёхмерным чертежам. Благо муфельная печь в мастерской имелась, и пора было её опробовать. Выбрал две вещицы из раскопов Херсонеса: керамическую чашу с треугольным сколом на ободке и глиняную плакетку в форме птицы. Провозился с этим неделю. Формы получились безупречными, но сначала не мог найти подходящую глину, потом не удавалось подобрать температуру печки.
Когда же чаша и плоская большеглазая птица, наконец, получились ровно такими, какими их создавали для паломников античных храмов, Лёсику стало грустно. Да, Света права. Имея формы, можно отливать предметы сотнями. Хотя цели наживы нет, но копии мертвы, и со временем ничего измениться не может… Он унёс поделки домой и засунул на шкаф, удивляясь, как мог верить в жизненность того, что штампуется без усилий творца. Попутно забрал муфельную печку, которую за ненадобностью выбросили при ликвидации мастерской.
Появление в его жизни Стаса – Стани́слава Богуславского, ударение непременно на и! – всё изменило. Сколько лет они не виделись? Года три, наверно. А ведь когда-то Стас частенько приходил к Дарине, и Лёсику нравились его чёрные, с белыми мазками седины, волосы. И слегка пугали разноцветные глаза: один карий и как бы тусклый, отливающий синевой, практически без зрачка, другой – стального цвета, пегий от рыжих точек возле радужки.
Из его рассказов можно было составить приключенческий роман, и не один. Хотите посмеяться? – и тут же выдавал обойму анекдотов из стажировок в Свердловском меде. По душе приключения с элементами триллера? – пожалуйста: служба по контракту в Чечне, в войсках особого назначения. Или мог часами вспоминать о съёмках на Ленфильме, где после армии подвизался каскадёром.
Одно время Лёсик надеялся, что Стас насовсем к ним переедет, но этого не случилось. Правда, матушка его появлению обрадовалась, но держала на расстоянии. Лёсик завёл было разговор: пусть бы жил с нами, ведь были когда-то планы, – она давай про одну реку, в которую нельзя ступить дважды. Далась ей эта река!
Прошло чуть больше месяца, как объявился Стас, а Лёсик, можно сказать, возродился. Они быстро сошлись на интересе к истории и всему, что она смогла донести до сегодняшних дней в предметах материальной культуры. Лёсик рассказал о своей работе в Светиной мастерской и, сам не зная, зачем, достал со шкафа чашу и птицу. Стас вмиг стал серьёзным и отрывисто бросил: «Формы остались?».
Нет, формы он ещё тогда решил уничтожить. Чтобы не было соблазна. И, заметив на лице Стаса выражение досады, зачем-то брякнул: «Но есть точная трёхмерка». А потом добавил, чувствуя, что говорит уже вовсе лишнее: «Делал для археологических отчётов». Но Стас вдруг перевёл разговор на будущее Лёсика, необходимость освоить профессию и, как бы между прочим, заметил, что увлечение копиями может иметь спрос. А через несколько дней поинтересовался, есть ли в запасах Лёсика что-нибудь из Северного Причерноморья. Так вот же – чаша и планкетка – это оттуда, и ещё двенадцать предметов. Стас на миг задумался, потом широко улыбнулся и со словами: «Значит, я был прав», – попросил распечатать весь список.
Теперь Лёсик с нетерпением ждал прихода Стаса. Они обсуждали последние открытия археологов, пополнения музейных коллекций. Дарина поначалу лишь прислушивалась к их беседе, но, когда речь зашла о зарубежных выставках, подключилась со знанием дела. Музеи бедны, им раритеты не потянуть, да и страховка подлинников обходится дорого. А возить надо, только выставки за рубежом дают нормальные деньги.
– Вот тут-то и пригодятся дубли, – подхватил Стас, подмигнув Лёсику.
Оказалось, что он уже прощупывал почву, и Керченский музей готов сделать заказ для майской экспозиции в Гамбурге. Хотят получить кое-что из посуды и шесть керамических театральных масок, которыми музей не обладает. Стас назвал примерную цену, от которой Лёсик прямо обалдел. Если так платят за копии, сколько же должны стоить оригиналы? Он вспомнил о грузовике, отправленном на дачу к Васильку, о глиняных табличках и каменном воробье, лежащих на антресолях между старыми занавесками. Это же целое состояние! И тут же сказал себе: стоп! Это не продаётся, это бесценный кусок его жизни…
Лёсик немедленно взялся за работу и перестал замечать время. Отливки масок рыжеватыми раковинами лежали на столе и совсем не были похожи на древние приношения в Боспорские храмы из благодарности или по обету. Но только поначалу. Потом, когда он воспроизведёт весь микрорельеф, все трещинки, когда затонирует, состарит, они вспомнят свои корни. Самая трудоёмкая работа – старение. С этим Лёсик возился дольше всего, ведь посетители выставок должны увидеть подлинные предметы из раскопов.
Когда все заявленные вещицы были готовы и, переложенные полипропиленовыми шариками, упакованы в шестнадцать фанерных ящичков в ожидании отправки, Стас вдруг исчез. Прислал сообщение, впрочем, ничего не объясняющее: «Образовалась небольшая проблема, срочно пришлось уехать». Дарина стала звонить – телефон «выключен или вне зоны». Ни адреса, ни места работы они так и не удосужились узнать. Лёсик кинулся было к Михаилу Егоровичу, их бывшему участковому, но Дарина остановила словами: «Он ушёл, понимаешь, совсем ушёл…», – и закрылась в своей комнате.
Заказ вскоре забрали, за ним приехал немногословный водитель, велел Лёсику подписать бумаги, но никаких денег ни тогда, ни позже, он так и не получил.