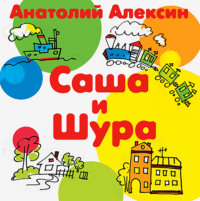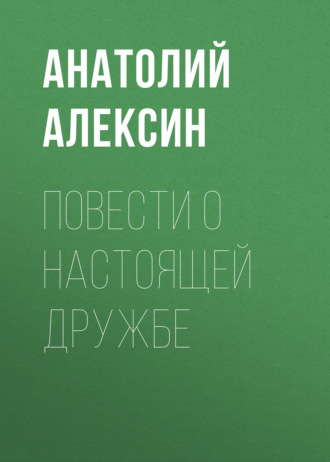
Полная версия
Повести о настоящей дружбе
Но вот наконец звонок! Не забыл нас, родименький! Иду на перемену…
Начался последний урок. Математичка терпеть не может, когда отвлекаются. Если заметит, тут же вызывает к доске. Но я должна немедленно записать все в свой дневник!.. Я должна рассказать о том, что произошло буквально минуту тому назад, на перемене. Я сделала смелый, решительный шаг! Ради Левы, ради его музыкального будущего! Оценит ли он это когда-нибудь?
На последней перемене старшеклассницы продолжали носиться по коридору, шушукаться и обниматься: они любят обниматься друг с другом.
Алина ни к кому не подбегала: все подбегали к ней, потому что она у нас прима, она вне конкурса.
Но ко мне Алина направилась сама, и я даже не шелохнулась, ни одного шага не сделала ей навстречу. Она улыбалась мне своим длинным и красивым глазом, который почему-то напоминал мне вытянутую голубую раковину. А второго ее глаза я никогда не видела: он всегда закрыт прямой золотистой прядью волос.
Она притянула меня к себе, чуть-чуть нагнулась и прижалась ко мне щекой. Представляете? Наши семиклассницы просто попадали от зависти. Мысленно, конечно, попадали. А я даже не шелохнулась.
– Какие у нас показатели? Дед Мороз будет доволен? – спросила Алина.
Я решила на этот раз ни за что не поддаваться ее гипнозу. Ни за что! Показатели, то есть отметки за вторую четверть, у меня очень неважные.
– Какое это имеет значение? – ответила я.
Она снова прижалась ко мне щекой. И наши девчонки снова попадали. Но я была холодна и спокойна.
Я знаю, что невесты обычно хотят подружиться с родителями своих женихов, заполучить их себе в союзники. Алина до мамы с папой еще не добралась, она начала с меня. Это мне было понятно. И я к ней прижиматься не стала.
– Поздравляю тебя с Новым годом, – сказала Алина. – И всех наших общих знакомых!
На общих знакомых она сделала такое ударение, что мне стало просто не по себе. Никаких общих знакомых у нас не было: она говорила о Леве.
– Увидимся в новом году, – продолжала она. – Место встречи и время все те же?
Тут я и сделала свой решительный шаг.
– Вы знаете, Лева очень просил извиниться… – сказала я ей тихо, чтобы не слышал никто другой. – Наша встреча не состоится.
– Не состоится? – Словно желая разглядеть меня получше, она отбросила золотистую прядь, и я первый раз увидела оба ее глаза одновременно. Но они в тот миг не были похожи на голубые вытянутые раковины. Они были круглыми от удивления. И мне ее стало даже немножко жаль. Но я подавила в себе эту слабость. Если Лева действительно нравится ей, то тем хуже: не хватало еще, чтоб у них началась любовь накануне конкурса музыкантов-исполнителей!
– У него есть невеста, – сказала я. – И ей было бы неприятно… Вы понимаете?
– Он обручен? – спросила она уже с насмешкой. Но эта насмешка была какая-то неспокойная, истеричная.
– Ну да… Можно сказать, обручен. Очень давно, прямо с детского возраста. Со своей аккомпаниаторшей.
– С этой…
– Ну да, – перебила я, – она некрасива. Но у них общие идеалы! Их сблизила музыка. Они любят друг друга…
Это была ложь во имя спасения брата. Оценит ли он это когда-нибудь?
3 января
Вчера был концерт студентов Консерватории… Он начался в семь тридцать вечера, но мы с Левой пришли на час раньше и мерзли на улице. Лева, видите ли, боялся, что Алина может перепутать и тоже прийти на час раньше, потому что некоторые концерты начинаются в шесть тридцать. Представляете?
Мы бы, наверно, совсем окоченели, если бы Леве не казалось, что каждая со вкусом одетая девчонка, которая появлялась вдали, это Алина. Мы бежали навстречу, девчонки испуганно останавливались или шарахались в сторону. А мы извинялись и возвращались на свой пост к подъезду. Так мы хоть немного согрелись.
– Интересно, как ты будешь держать кларнет замерзшими пальцами? – сказала я. – Хорошо еще, что ты играешь не на рояле. И не на скрипке. Иди!.. Я сама ее встречу.
Куда там! Лева и слышать об этом не хотел. Мама всегда говорит, что он очень цельный человек. Вообще-то это неплохо. И даже хорошо. Но когда цельный человек влюбляется, с ним ничего невозможно поделать. Ему ничего нельзя объяснить.
Великие люди имеют право на странности, и эти странности им надо прощать. Потому что великий человек, с одной стороны, «весь в себе», а с другой – немножечко не в себе. Это я понимаю. Но ведь Лева вчера был не в себе не как выдающийся человек, а так же, как все наши мальчишки-десятиклассники, которые тоже влюблены в Алину. Вот почему я не хотела прощать! У необычных людей должны быть необычные странности. Когда у Левы появятся такие странности, я их сразу буду прощать! Не задумываясь… Честное слово! А вчера я не прощала…
Лиля считает, что настоящий артист не должен появляться среди зрителей в день своего выступления. А Лева прямо-таки бежал навстречу зрителям, чуть не сшибая их с ног, если ему казалось, что вдали появилась Алина. Среди зрителей было много Левиных знакомых, и все они спрашивали:
– Кого ты тут ждешь?
И Лева начинал подробно объяснять, что ждет одну десятиклассницу, которая учится в моей школе. Знакомые ухмылялись и глупо подмигивали. Но Лева и в следующий раз отвечал подробно и точно. Он всегда говорит чистую правду, одну только правду. Как будто нельзя было сказать, что мы ждем тетю, дядю или каких-нибудь других родственников. Или, например, маму с папой.
Если Леве звонят по телефону, он всегда подходит, как бы ужасно ни был занят. Я ему говорю иногда: «Можно сказать, что тебя нет дома?» – «Но я ведь дома», – отвечает он. И подходит, хоть ему очень не хочется. Представляете?
Человек не может всю жизнь говорить одну только правду. Мало ли какие бывают случаи! Я уже твердо решила, что во всех этих случаях я буду врать за брата. Раз он сам не умеет! Что тут поделаешь? Пусть это будет еще одной жертвой!
– С ней что-то случилось, – сказал мне Лева. – С ней что-то случилось… А? Как ты думаешь?
– Ничего не случилось! – ответила я. – Она терпеть не может классическую музыку. И кларнет! Ведь я говорила тебе. Предупреждала! Я была уверена, что она не придет…
В этот момент появились мама и папа. Они были торжественные, нарядные и так гордо поглядывали по сторонам, будто все вокруг должны были знать, что их Лева выступает сегодня в Малом зале Консерватории. А этот Лева, которым они гордились, прыгал на одном месте, как воробей.
Папа, когда волнуется, всегда начинает шутить. Но волнение мешает ему быть остроумным.
– Боюсь, твой кларнет будет сегодня чихать и кашлять, – сказал он.
– В чем дело? – воскликнула мама.
Что бы стоило Леве сказать, что мы ждали на улице своих любимых родителей! Что мы продрогли, но ждали… Как бы им это было приятно! Но к несчастью, Лева всегда говорит одну только правду. И он снова стал объяснять, что мы ждем одну десятиклассницу, которая учится в моей школе. Мама ничего не поняла. Но она была в ужасе от того, что Лева еще на улице. Ему пришлось отправиться за кулисы. А я обещала подождать Алину.
– Она не придет! – сказала я Леве. – Ей противны классическая музыка, и твой кларнет, и Малый зал Консерватории… И даже Большой тоже противен! Но я подожду. Раз ты просишь, я подожду!
Я постояла на улице еще минут пять или десять. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь спросил: «У вас есть лишний билетик?» Мне очень хотелось, чтобы на концерт, в котором участвует Лева, стремилась попасть вся Москва. Но никто за билетами не охотился, и мне оставалось только мечтать.
Я мечтала о том дне, когда Лева будет выступать не в общем концерте, а один, в сопровождении большого оркестра. Мы подъедем с Левой к служебному подъезду, там будут его поклонники (не какие-нибудь девицы, которые охотятся за тенорами, а серьезные пожилые люди – ценители музыки!), и я услышу за спиной шепот: «Это его сестра! Она посвятила ему всю свою жизнь. Он без нее как без кларнета!» Представляете?! Но вчера «лишних билетов» никто не искал. Хотя когда я вошла в зал, он уже был абсолютно полон. Ни одного свободного места! Нет, одно свободное было… Рядом со мной, где должна была сидеть Алина.
Мама, конечно, стала тут же упрекать меня за то, что я заставила Леву ждать на улице какую-то свою подругу. Я заставила… С ума можно сойти!
И еще она возмущалась тем, что из-за меня в зале «зияет пустое место». Так она и сказала: «зияет»!
Я, конечно, ничего ей объяснять не стала. Ей вчера вообще ничего нельзя было объяснить. Она была очень напряжена. И все делала неестественно: неестественно долго и внимательно читала программу, в которой было указано, что Лева выступает предпоследним в первом отделении, неестественно улыбалась родителям других участников концерта, которые все сидели в нашем ряду. Весь ряд состоял из одних только родственников. И это было как-то противно. Не могли уж рассадить нас по разным углам!
Мама все время, словно какой-нибудь гид в музее, сообщала мне: «Вон там сидит лауреат! А там сидит трижды лауреат! А там профессор Консерватории…» Мамочка очень волновалась. И мне хотелось успокоить ее. Но я не могла ее успокоить, потому что она ничего не слышала и не воспринимала.
И вдруг она схватила меня за руку:
– Что это? Что это значит?!
Я увидела, что из-за кулис выглядывает наш Лева. Он искал нас глазами. Потом нашел, увидел рядом со мной пустое место… Помрачнел, то есть буквально изменился в лице. И скрылся. Мама взглянула на меня. Но что я могла ей объяснить?
Наконец начался концерт. На сцену вышел мужчина с утомленным лицом.
– Он всегда ведет симфонические концерты, – шепнула мне мама. – Ты видела, наверно, по телевизору?
Вид у мужчины был такой, будто он являлся главным участником концерта. И фамилии знаменитых композиторов он выговаривал так, что я не сразу их узнавала.
Скрипки, рояли и виолончели казались мне в тот вечер просто невыносимыми. Я впервые заметила, что великие композиторы ужасно затягивали свои музыкальные произведения. Их вполне можно было бы сократить! Когда раздавались аплодисменты, я злилась и думала: «Не хватает, чтобы упросили играть еще!» И стоило только мне так подумать, как обязательно играли еще.
Мне казалось, что никогда не дойдет очередь до нашего Левы. Но она наконец дошла. Седой, усталый мужчина произнес и нашу фамилию так, будто это была чужая фамилия. Вышел Лева, а через несколько секунд после него появилась Лиля. Она держалась как настоящая аккомпаниаторша: не спеша разложила ноты, поправила под собой стул и устремила глаза на Леву, ожидая его команды.
А наш Лева выглядел, как и на школьной сцене, слишком домашним. В нем не было никакой недоступности и загадочности. И костюм его опять казался не новым, а мятым, хотя я вчера полдня чистила и отглаживала его.
Я не слышала, как он играл, потому что все время тайком разглядывала зрителей. Но трудно было что-нибудь угадать: смотрели внимательно на Леву – и все… А некоторые закатывали глаза. Потом раздались аплодисменты. Хлопали не очень сильно, как всегда бывает после первого номера. Все и так знали, что Лева продолжит свое выступление. Но когда аплодисменты затихли, я услышала сзади старческий мужской голос:
– Он сегодня не в форме…
И другой голос, тоже глуховатый, подтвердил:
– Да, как говорят шахматисты, играет не лучшим образом.
Мама еще до концерта успела мне сообщить, что сзади сидели Левины профессора. Я боялась взглянуть на маму. Но увидела, как она схватилась за ручки кресла.
Мне хотелось обернуться к Левиным профессорам и сказать: «Поверьте, это я во всем виновата. Я!..»
Ночью я слышала, как Лева ворочался и даже что-то шептал. Вроде бы рассуждал сам с собой. Потом встал и пошел на кухню. Когда он вернулся, я спросила:
– Что? Ты плохо себя чувствуешь?
– Нет… Просто хочется пить. Жажда какая-то… А почему она не пришла? Как ты думаешь, Женька?
Тут я не выдержала.
– Все это по моей вине, Лева… – сказала я.
– По твоей?..
Мне показалось, что в его голосе возникла радость. Или вернее, надежда.
– По моей… По моей! – подтвердила я. И все рассказала.
В комнате было темно. Я не видела Левиного лица – и так было легче рассказывать.
– В принципе ты поступила подло, – сказал Лева.
Когда резкие слова произносят громко, это значит, что их говорят сгоряча. И может быть, вовсе не думают то, что говорят. А Лева сказал совсем тихо, спокойно… Значит, он был уверен, что я совершила подлость. Он был уверен… Мне стало холодно под одеялом.
– Но ведь я хочу посвятить тебе всю свою жизнь, – прошептала я. – Я готова пожертвовать…
– Это манера деспотов, – перебил меня Лева.
– Какая манера? – не поняла я. – При чем же тут деспоты?
– Они превращают в свои жертвы тех, ради которых хотят всем на свете пожертвовать.
– Значит, я не имела права вмешаться?!
– А может быть разве такое право? – спросил Лева как бы себя самого. – Хоть у кого-нибудь… Может быть разве такое право?
Лева снова лег и поплотней укрылся одеялом. Я села к нему на постель.
– Все-таки хорошо, что она не пришла из-за меня… А не сама по себе. Все-таки хорошо?..
Лева пожал плечами. Это было под одеялом, но я почувствовала, что он ими пожал… Потом он вдруг улыбнулся. Было темно, но я увидела, что он улыбнулся. И пошла к себе…
Я больше не буду вести дневник. А то, пожалуй, в книге о брате могут не поместить мой портрет с подписью «Сестра музыканта».
Коля пишет Оле, Оля пишет Коле
Оля и Коля
«Справедливо» – это было любимое Олино слово. Правда, частенько она прибавляла к нему короткое отрицание «не». «Это несправедливо!» – спокойно заявляла она своим глубоким, певучим голосом. И тут же вступала в борьбу за торжество справедливости.
Девочки были влюблены в Олю Воронец. Прошлым летом Оля носила косы – и в волосах у ее подруг тоже замелькали разноцветные ленточки. Этой весной перед лагерем она постриглась – и подруги ее мигом, без сожаления распрощались со своими косами. Оля чуть-чуть заикалась, и девочки, сами того не замечая, тоже начали слегка растягивать гласные буквы и изящно, еле заметно, как это делала Оля, спотыкаться, словно приседать, на некоторых словах.
Оля редко сердилась. Главным образом, если встречалась ей на пути какая-нибудь неправда, – и девочки тоже старались быть отчаянно принципиальными.
И еще Оля сердилась, даже приходила в неожиданную ярость, когда ее называли красивой. В прошлом году начальник пионерлагеря водил по «Сосновому бору» какую-то делегацию и все время восклицал: «А вот это наша волейбольная площадка! А вот это наша читальня! А вот это наш радиоузел!..»
– А вот это наша красавица! – гордо объявил он, увидев издали Олю Воронец.
Делегация защелкала фотоаппаратами, но на пленку попал, должно быть, лишь Олин затылок: в ответ на слова начальника девочка неучтиво повернулась спиной к гостям и скрылась за деревьями.
В начале августа у лагеря испортилось настроение: стало известно, что в первый день сентября Оля не придет в школу, она уедет очень далеко. Ее отец был геологом. Он отыскал на Урале горную породу, которая была необходима для алюминиевого завода, а теперь отправлялся искать еще что-то на Север, за Полярный круг.
И только один человек в лагере радовался предстоящему Олиному отъезду – это был Коля Незлобин, по прозвищу Колька Свистун. Он любил переговариваться с птицами, к ребятам обращался коротко и грубовато: «Эй, ты!.. Слушай-ка!» – а с птицами беседовал ласково и безошибочно узнавал их голоса.
Но не за это прозвали его Свистуном. А за то, что как-то однажды, в прошлом году, он неожиданно для всех пообещал написать хорошие стихи к родительскому дню, а написал плохие, и родителей пришлось приветствовать в прозе. Правда, стихов этих не видел никто, кроме Оли Воронец. Она должна была читать их в концерте самодеятельности, но в последний момент читать отказалась, заявив, что стихи никуда не годятся.
Оля первая сказала Кольке: «Эх ты, Свистун!..» А он в ответ прозвал ее Вороной: это, кажется, была единственная птица, которую он не любил.
Никто, кроме Кольки, Олю Вороной не называл, а к нему прозвище Свистун приклеилось так прочно, словно было с рождения вписано в метрику.
Из всех споров, которые время от времени затевали по радио в пионерлагере, начальник больше всего любил дискуссию на тему: «Может ли мальчик дружить с девочкой?» И хотя всем было уже давно ясно, что мальчик дружить с девочкой может, он затевал это обсуждение каждое лето. В этом году его любимая дискуссия сразу стала затухать: спора не получалось. Тогда начальник лагеря выпустил к микрофону Кольку Свистуна, и тот громко, уверенно заявил, что девчонки – предательницы.
Те поняли, кого он имеет в виду, и бросились Оле на помощь. «Ишь ты, молчаливый-молчаливый, а разговорился!.. Высказался!» – верещали по радио девочки. Только успевали включать и выключать микрофон: дискуссия разгорелась с невиданной силой.
А Колька ничего не отвечал. Он вновь мрачно помалкивал. Некоторые считали, что он любил переговариваться с птицами лишь потому, что ему нечего сказать людям. Но на самом деле ему было бы что рассказать, если б он захотел…
О чем бы он мог рассказать…
Отец проектировал алюминиевые заводы, но, когда поднимались их корпуса, нигде – ни на кирпичах, ни на крыше, ни на трубе – не было написано, что тут есть частица и его, отцовского, труда. К тому же Колькиных приятелей вообще не пускали на территорию завода, и они не могли удостовериться в том, что его отец занят большим, трудным делом. А то, что без Колькиной мамы дворовая волейбольная команда не может сражаться со своими противниками, раньше, когда Колька еще ходил в детский сад, знали все.
Колькину маму никто по имени-отчеству не величал: все, даже ребята, называли ее просто Лёлей… «Вот придет наша Леля с работы, мы вам покажем!» – кричали они волейболистам соседнего двора. И Колька ходил гордый, будто он сам умел гасить так, что все игроки по ту сторону сетки боязливо приседали на корточки, будто это он сам «подавал» так, что мяч стремительным черным ядром пролетал в нескольких миллиметрах над сеткой, чудом умудряясь не задеть ее.
Мама выбегала во двор в узких спортивных брюках и в тенниске. Болельщики встречали ее торжествующим гулом, но она прежде всего разыскивала Кольку и усаживала его в самый первый ряд зрителей: на садовую скамейку или прямо на траву… И тут уж Колька сидел скромно, строго, не выражая своего ликования, а лишь изредка обменивался взглядами с мамой.
Это было давно, в далеком северном городе, откуда Колька уже уехал, но он помнил все очень ясно и знал, что не забудет этого никогда…
Отец был намного старше мамы. Он не умел играть в волейбол, плавать диковинным стилем баттерфляй и бегать на лыжах так быстро и легко, как умела мама. И она не заставляла его учиться всему этому. Но зато она научила его тоже ходить в спортивной майке с распахнутым воротом, долго гулять перед сном и делать по утрам гимнастику: она вытаскивала на середину комнаты сразу три коврика – для себя, для отца и, совсем маленький, для Кольки.
А еще она научила отца судить волейбольные матчи. И когда отец со свистком во рту усаживался сбоку, возле сетки, он тоже казался Кольке, а может быть, и всем остальным совсем молодым человеком. Его в те минуты тоже хотелось называть просто по имени… Хотя никто его все же так не называл.
Зато вслед за мамой все уважительно именовали его: «О, справедливейший из справедливых!» И папин свисток был для спортсменов законом. Возвращаясь домой после волейбольного сражения или вечерней прогулки, отец часто говорил маме: «Мне снова легко дышится… Снова легко!» И это было очень важно для отца, потому что он страдал бронхиальной астмой.
Ну а дома судьей была мама. Она никогда не давала громкого свистка, никогда не напоминала вслух о правилах жизни, но отец и Колька весело и добровольно подчинялись ее решениям, потому что эти решения были честными. Мама тоже часто повторяла: «Это справедливо!» И Колька злился на Олю Воронец еще и за то, что она, как ему казалось, присвоила любимое мамино слово.
Мама работала воспитательницей в детском саду. И Колька был у нее в группе. Иногда он обижался, что к остальным пятнадцати малышам мама была так же внимательна, как и к нему. А может, еще внимательней. Однажды он разревелся по этой причине. Мама высоко подняла его и, серьезно глядя ему в глаза, сказала: «У меня нет никого роднее тебя. И не будет. Запомни это». Колька успокоился. И запомнил.
В детском саду он не раз слышал, как мамаши упрашивали директора: «Переведите ребят в группу к Лёле. Она такая добрая и хорошенькая…» То, что маму называли доброй, было очень приятно. Но слово «хорошенькая» не нравилось Кольке. «Она не хорошенькая, а хорошая!» – про себя возражал он, не понимая, что слово это относилось не к маме, а только к ее лицу – юному и озорному.
Однажды летом отца стали душить частые приступы астмы: климат далекого северного города стал опасным союзником папиной болезни.
«Я увезу тебя к самым лучшим врачам: к реке, к свежему воздуху… И они вылечат тебя! – сказала мама. – Мы заберемся в глушь и будем жить, как робинзоны!»
Втроем они ехали поездом, потом на грузовике, потом шли немножко пешком – и забрались туда, где воздух был сухим, а природа именно такой, какую долгие годы прописывали отцу доктора, приговаривая: «Но все это, конечно, недостижимый идеал. Поэтому обратимся-ка лучше к таблеткам и каплям!»
Доктора не были знакомы с мамой и не знали, что она умела делать «достижимым» все, что нужно было отцу и Кольке.
Раньше дома, по вечерам, мамино возвращение с работы мигом преображало все: утолялся голод, комната становилась уютной и чистой… И если мама задерживалась, Колька и отец чувствовали себя какими-то неустроенными, словно сидели на вокзале в ожидании поезда, который опаздывал и неизвестно когда должен был прийти.
То было дома, в городской квартире… А тут, на берегу реки, мама вдруг проявила такие способности, каких даже Колька с отцом не ожидали. Отец по утрам планировал предстоящий день отдыха, а мама смеялась: «Эх ты, проектировщик! Теоретик мой неисправимый!..» И разжигала печку в домике лесника или даже костер прямо в лесу, и варила суп, картошку, кипятила молоко…
Отец посвежел, забыл про свои лекарства. «Теперь мы с вами три богатыря!» – говорила мама. Но однажды вечером легла на бок, побледнела и, увидев испуганное Колькино лицо, заулыбалась как-то неестественно, через силу. Колька вдруг почувствовал, что выражение «земля уходит из-под ног» – это не выдумка, не преувеличение: ноги его подкашивались от волнения и он не ощущал под собой твердого дощатого пола.
Пожилой лесник, отец и Колька на брезентовой плащ-палатке несли маму в деревню, что была в пяти километрах: к домику лесника нельзя было подъехать даже на телеге. Мама все время держала Кольку за руку (не отца, не лесника, а только его – Колька навсегда запомнил это!). Она то и дело, быть может почти бессознательно, повторяла: «Ничего… Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь…» И только изредка спрашивала: «Еще долго? Еще долго?..» А они, все трое, молчали.
Колька думал о том, что отец, когда ему было плохо, становился по-детски растерянным и, казалось, хотел переложить на окружающих свои страдания или хотя бы поделиться с ними своею болью, мама же все время пыталась снять с их плеч тяжесть и страх. «Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь…»
В лесу быстро темнело. Идти было трудно. И все, что еще недавно казалось таким заманчивым – непроходимые заросли, глухое переплетение ветвей, – все это сейчас было враждебно и ненавистно Кольке. «Еще долго? Еще долго?..» – спрашивала мама.
Из деревни они позвонили в райцентр, что был за двадцать пять километров, в больницу. «Скорая помощь» добиралась из райцентра целую вечность, хотя по часам выходило, что ехала она всего около часа.
Молодой человек в белом халате, очень неразговорчивый, даже не поздоровавшись, стал сразу осматривать маму. А потом коротко сообщил: «Аппендицит». Садясь в белую машину с красным крестом впереди, на круглом фонаре, он произнес еще два слова: «Надо успеть». Отец тоже сел в машину. И она умчалась. А Колька даже не догадался сказать… чтобы и его взяли с собой.
Он стоял возле сельсовета, рядом с пожилым лесником и мысленно повторял последние мамины слова, тоже обращенные не к отцу, не к врачу в белом халате и не к пожилому леснику в резиновых сапогах, а только к нему, к Кольке, к нему одному:
– Все будет хорошо. Аппендицит – это ерунда. От этого не умирают…
* * *Мама умерла. Это было давно, в тот год, когда Колька еще только собирался на свой первый школьный урок. А теперь он уже был в шестом классе…
Прошли годы. Но Колька ни на день не забывал строгого молодого человека в белом халате и короткую фразу: «Надо успеть». Почему же они не успели?..