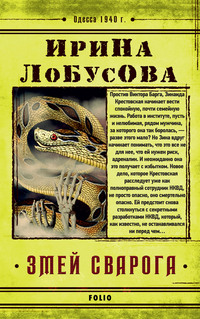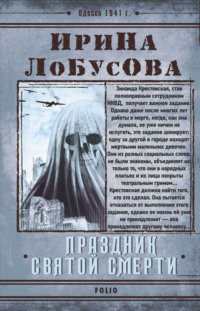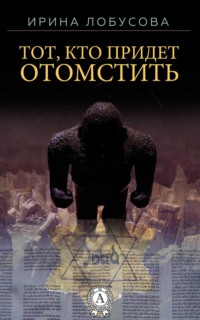Полная версия
Смерть в катакомбах
Несмотря на ранний час, на улице уже появлялись прохожие. Невыспавшиеся, угрюмые, замерзшие, люди бежали по своим делам, не глядя друг на друга и на черные проемы окон, в которых все еще сохранялась светомаскировка. Занавешивать плотно окна по ночам в городе все еще считалось обязательным.
На углу Франца Меринга и улицы Горького виднелось несколько человек. Двое мужчин и женщина в возрасте остановились под фонарным столбом. Зина подошла ближе и тоже с ужасом остановилась.
На фонарном столбе раскачивался труп. Это был совсем еще молоденький мальчишка, лет 16–17, не старше. На его босые ступни страшно было смотреть. Все подошвы были изрезаны, изуродованы, покрыты ошметками окровавленной кожи. Ногтей на пальцах ног не было.
На мальчишке были рваные холщовые штаны и остатки белой рубахи, почти изрезанной на полосы. Вся грудь и спина несчастного представляли собой кровавое месиво. В глубокие раны забилась и осталась там белая ткань. Мальчишку не просто били – с него заживо сдирали кожу… Страшно было представить, какую боль испытывал этот несчастный! Как врач Зина прекрасно могла представить те страдания, которые он испытывал. У нее перехватило дыхание. И, несмотря на холод лютого мороза, ее бросило в жар.
Не в силах отвести глаз, Крестовская все смотрела и смотрела на несчастного. Лицо его было повреждено меньше всего остального тела. У мальчишки были светлые вихрастые волосы и ярко-голубые глаза. Они были открыты. Как ни пыталась Зина прочитать в них страх, леденящий ужас от причиненной ему боли, этого она не увидела. Глаза, уже остекленевшие на ветру, прямо, ясно смотрели перед собой.
А губы – Зина просто не поверила своим глазам, губы кривила ухмылка. Презрительная такая, насмешливая гримаса. Мальчишка усмехался в лицо своим палачам!
Крестовская закусила губу, чтобы не разрыдаться. Руки паренька было туго стянуты веревкой за спиной. И повесили его на такой же тугой, крепкой веревке, которой, сдирая кожу, стянули его руки. Судя по тому, как крепко худенькую шейку охватывала веревочная петля, смерть наступила почти мгновенно. Смерть – освобождение. Зина вдруг поймала себя на жуткой мысли, что даже рада тому, что паренек перестал мучиться. Перестал терпеть боль…
На остатки белой рубахи на груди булавками был пришпилен кусок картона, на котором было что-то написано по-немецки большими черными буквами. Крестовская не знала немецкого. Всё ее катастрофическая неспособность к языкам и в чем-то даже лень! Как бы теперь ей пригодился немецкий язык!
– Что это?… – вырвалось у Зины, поймавшей себя на жуткой мысли, что она произнесла это вслух.
– Здесь написано: «Поджигатель, партизан», – отозвался стоящий рядом с ней высокий мужчина.
– Вы знаете немецкий язык? – Зина обернулась к нему.
– Теперь все его будут знать, – горько усмехнулся он. – А пацана повесили сегодня ночью. Видел из окна.
– Кто он? – Крестовская почему-то спросила шепотом.
– Откуда мне знать? – Мужчина нервно передернул плечами и зачем-то снова повторил: – Здесь написано: «Поджигатель, партизан».
– Не старше 17 лет, – потеряв всякую осторожность, сказала Зина. Дернув плечами снова, мужчина быстро ушел по улице Горького, вниз.
Пожилая женщина в платке вдруг охнула, по-бабьи схватившись за щеки. В ее глазах были видны слезы.
– Дытына же… – слезы потекли по морщинистым щекам, – зовсим дытына…
Зина снова закусила губу. Ей вдруг захотелось крикнуть прямо в этот фонарный столб, да так, чтобы услышали все вокруг: – Нет, он не ребенок, далеко не ребенок! Он мужчина, который не боялся умирать!
Но она уже и так переступила черту. Говорить что-то еще было неблагоразумно. И она продолжала молчать.
Налетевший порыв ветра охватил фонарный столб, согнул в сторону со страшным скрипом. Тело маленького неведомого героя раскачивалось в воздухе – как грозное знамя, как предупреждение о том, что этой жуткой, чудовищной бойне не будет конца.
Зина побежала прочь, оставив за плечами страшную сцену. Дрожь усилилась, заставляя все ее тело содрогаться словно в судорожном, просто эпилептическом припадке. Впрочем, так длилось недолго, потому что она уже добралась до своей цели – маленькой лавчонки сапожника, стоящей буквально в двух шагах от места казни. Низенькая дверь с нарисованным сапогом буквально вросла в стену. Зина громко постучала костяшками обледенелых пальцев.
– Открыто! – раздался из-за двери старческий, хриплый голос, и Крестовская вошла внутрь.
Жарко натопленное помещение было узким и тесным. Потолок буквально нависал над головой. Возле противоположной стенки за небольшим верстаком сидел старик сапожник. Он бил по подошве сапога небольшим молоточком. В углу жарко горела печка. За спиной старика были прибиты полки, на них лежали и стояли сапоги, ботинки, туфли, в общем, всевозможная обувь. Войдя, Зина тщательно заперла за собой дверь. Старик оторвался от работы при ее появлении и, нахмурившись, внимательно посмотрел на нее.
– Еще так рано. Я не думала, что вы работаете, – сказала Зина, пристально глядя в лицо старику.
– Вы у меня сегодня первая посетительница, – отозвался старик, перестав хмуриться. А по его лицу, наоборот, разлилась доброжелательная улыбка.
– У меня прохудились сапоги, в подошве, – продолжала Зина, – можете посмотреть?
– Показывайте, – старик отложил свою работу в сторону.
Крестовская открыла небольшую холщовую сумку, которую принесла с собой. Достала оттуда пару старых сапог с большими широкими каблуками и протянула ему.
Старик взял сапоги, тут же отвинтил оба каблука и отложил в сторону.
– Проблема не в подошве, в каблуках, – сказал он, затем, взяв нож, аккуратно надрезал голенище, – и кожа совсем плохая. Видите, как треснуло?
– Старые сапоги, – вздохнула Крестовская, – думала, дохожу до вечера, а они с утра вышли из строя.
– До вечера? – усмехнулся сапожник. – Вы бы и до обеда не доходили! А вы говорите: вечер.
– Я так думала, – сказала Зина.
– Ну, хорошо, – старик отложил сапоги в сторону. – К вечеру мы вам что-то придумаем. Так вы говорите: вечер?
– Вечер, – уверенно повторила Зина.
– Ладно, – старик кивнул, – займусь ими, когда будет свободная минута.
– Спасибо, – облегченно вздохнула Зина, нервно хрустнув пальцами.
– Вы вся дрожите! Не надо так, – с некоей даже укоризной сказал старик.
– Замерзла очень, – Крестовская вздохнула, – вчера теплей было, намного. А сегодня мороз ударил. Потому и дрожу.
– Хотите, кипятку налью? У меня как раз поспел, – предложил сапожник.
– Нет, спасибо. В другой раз, мне пора идти.
– Берегите себя, – старик внимательно посмотрел на Зину.
– И вы тоже, – вздохнула она.
Затем, не спросив ни когда будут готовы сапоги, ни сколько будет стоить работа, Крестовская быстро вышла из мастерской сапожника.
* * *Вечер 2 января 1942 года, около 20.00
Дверь ночного заведения распахнулась с резким стуком, выпустив наружу белые хлопья пара. Два немецких офицера высокого ранга появились в проеме.
Они были сильно пьяны, едва держались на ногах, и, чтобы не упасть, одновременно вцепились и в друг друга, и в косяк распахнутой двери. Вместе с белым паром жарко натопленного помещения на мороз вырвался тяжелый запах алкоголя. Он был настолько сильным, что казалось, офицеры просто обливались водкой!
Когда немцы застряли в дверях, к ним тут же подбежал услужливый швейцар заведения.
– Господа, господа… желаете такси?
– Который час? Время! – на ломаном русском рявкнул один из офицеров, схватив старика за грудки и рывком подтянув к себе.
– Восемь вечера, – пробормотал испуганный швейцар.
– Вина! Пойдем еще выпьем! – толкнул немец друга в плечо.
– Будет вам, Франц, – второй, все же более уверенно стоящий на ногах, оторвал его руки от старика-швейцара.
– А почему нет? Сегодня хочу пить, гулять! Такой день!
– Хватит уже. Не орите на всю улицу! Вы забываете, что здесь везде уши, – благоразумно и тихо сказал второй немец.
– Партизаны,……! – грязно выругался на немецком Франц. – Вот где они все у меня будут после сегодняшнего дня! Вот где! – потряс кулаком.
– Завтра вы им обязательно покажете, – сказал благоразумный друг, – а сейчас пора отправляться домой.
– Вы правы, – неожиданно быстро согласился Франц. – Где мой денщик?
– Машину господина офицера! – скомандовал швейцару друг Франца.
– Сию минуту, господа! Секунду, – засуетился старик.
Он выбежал из дверей ресторана в переулок, и буквально через несколько секунд прямо к дверям заведения подъехал большой черный автомобиль. Не заглушив двигателя, остановился возле входа. Дверцы распахнулись.
– Не поеду! – вдруг завозмущался Франц, делая шаг назад. – Я хочу еще выпить! Хочу вина! Не буду уезжать!
– Франц, никто не пьет вино после водки, даже русские! – укоризненно произнес второй офицер.
– А я хочу вина! – снова заупрямился Франц.
Но вместо ответа друг силой запихнул его на заднее сиденье. Затем сел рядом. Дверца захлопнулась. Швейцар скрылся в дверях ресторана. Машина покатила вниз по Дерибасовской.
Но отъехала она недалеко. Взрыв, страшный, жуткий взрыв оглушил ночную улицу, ворвался в небо ярким сполохом жарко-алого пламени и тут же заполнил весь воздух грохотом разбитых стекол, железным скрежетом, людскими воплями…
Автомобиль, в котором ехали немцы, превратился в пылающий факел. Изнутри вдруг вывалилось человеческое тело, охваченное пламенем.
Человек со страшными воплями покатился по мостовой. В воздухе вдруг разлился жуткий запах горящей людской плоти. Было слышно, как в пламени лопается живая человеческая кожа… Вопли человека были страшными. Наконец он затих.
Абсолютно из всех заведений, расположенных на Дерибасовской, вывалились люди. А к месту страшного происшествия со всех ног бежали солдаты. Но было поздно. В темноте догорал остов автомобиля, и было абсолютно понятно, что люди, ехавшие в машине, мертвы. Двое офицеров и водитель-денщик стали пеплом.
Через два часа заведение, из которого вышли офицеры, было полностью оцеплено и обыскано. С особым пристрастием допрашивали швейцара. Избитый старик дрожал в директорском кабинете. Руки его были связаны за спинкой стула. Из разбитых губ сочилась кровь.
– Документы! Спрашиваю в последний раз! – Возвышавшийся над ним офицер закатал рукава мундира по локоть, чтобы было удобнее бить. – У него были в руках документы!
– Никаких документов, ваше благородие… – выл старик. – Богом клянусь, ни у одного, ни у другого никаких документов! Пьяны были очень. Хотели домой. А документов не было.
Размахнувшись, немец снова ударил старика. Голова его мотнулась в сторону, как у недорезанного цыпленка. Старик закричал.
– Не было документов! – повторял он снова и снова. – Не было! Христом-Богом клянусь, не было!
Откатав рукава мундира, офицер стукнул кулаком в дверь. На пороге тут же появились два автоматчика.
– Расстрелять, – кивнул в сторону старика офицер.
Несчастного выволокли. Минут через пять раздался выстрел, затем короткий вскрик. Потом снова выстрел. Офицер вышел из комнаты.
Персонал ресторана был выстроен прямо на Дерибасовской, перед входом. Офицер вышагивал вдоль шеренги дрожащих людей. Около 20 человек – официанты, повара, администратор, музыканты, несколько танцовщиц – стояли на морозе. Их вытолкали на улицу прямо из зала ресторана, не позволив одеться.
– Сегодня ночью погибли два немецких офицера, – на ломаном русском заговорил немец, – пропали важные документы. Офицеров сожгли. Поджигатель в вашем ресторане. Кто подложил взрывчатку? Пусть признается, все остальные будут жить.
Люди молчали. Женщины плакали.
– Расстрелять всех, – офицер кивнул солдатам и отошел в сторону.
Солдаты вскинули ружья. Раздалось несколько залпов. Окровавленные тела никто не стал убирать.
– Сжечь, – махнул рукой офицер.
Солдаты облили вход в ресторан бензином и подожгли. Над зданием вспыхнул оранжевый сноп пламени.
Глава 5

Ночь с 3 на 4 января, 1942 год, Одесса
Загудело, застонало в трубе, и дрова громко треснули. Пламя было жарким, норовило вырваться за пределы буржуйки, однако и оно не могло согреть. Ярко-оранжевые, с желто-красной каймой огненные языки охватывали, брали в плен почерневший металл, стремясь наружу. И казалось: стоит открыть дверцу буржуйки чуть пошире, и пламя вырвется наружу с бешеным воем и заполонит все вокруг.
Однако это было иллюзией. Дров было мало, и угля было мало, чтобы растопить ледяной холод этой застывшей комнаты, окна которой, плотно закрытые черной тканью, напоминали горные провалы в пропасть.
Натянув одеяло до подбородка, Крестовская вытянулась под тонким покровом, стараясь не прижиматься к стене. Ее била нервная дрожь, все тело ходило ходуном. И даже темнота казалась слишком яркой – на фоне мучительных мыслей, которые своими острыми лезвиями заживо сдирали с нее кожу.
Зина закусила губы давно, прикусила их до боли, и тоненькая капля совсем свежей крови скатилась по подбородку, просочилась на жесткую наволочку и застыла там. А за окнами бушевал ветер, и мороз рвал заледеневший, окровавленный город. И казалось, больше ничего нет в целом мире, ничего, кроме клочьев собственных мыслей, рвущихся в ее душе, как бомбы.
Треск раздался снова, дрова зашипели. Наверное, они были слишком сырыми. И поэтому треска, дыма, чада было больше, чем тепла.
Вздохнув, Бершадов встал с кровати – от жуткого холода он спал так же, как и Зина, не раздеваясь, и, присев на корточки, кочергой принялся ворочать дрова. Они рассыпались, продолжая гореть. Зина видела искры, вылетавшие из печки и гаснущие в воздухе прежде, чем долетали до половины. Все это могло бы быть уютным – ночь, мороз, печка, заменяющая камин, любимый мужчина, помешивающий дрова…
Но уюта не было. Над всем этим был только привкус крови и смерти – смесь, которую Зина научилась давно различать.
Помешав дрова, Бершадов поднялся, посмотрел на нее. Брови его сдвинулись, словно бы укоризненно. Затем, не говоря ни слова, подошел к буфету, налил стопку самогона, небольшая бутылка которого пряталась внутри, и резко, решительно протянул Крестовской:
– Пей!
– Я не хочу… – слабо запротестовала она, – я не могу… это не поможет.
– Пей, – Григорий решительно ткнул в нее рюмкой. – Так ты хотя бы сможешь говорить.
Протестовать не было сил. К тому же запах не показался Зине слишком уж отвратительным. Она решительно выпила. И сразу почувствовала, как по телу разлилось приятное тепло. Бершадов налил вторую рюмку, и Зина выпила снова. Тепло усилилось – настолько, что, высвободив руку из-под одеяла, дрожащими пальцами Крестовская провела по стене. Шероховатость бумажных обоев словно вернула ей ощущение реальности. Как в далекой жизни. Как в совсем чужом мире.
С Бершадовым они не виделись уже несколько дней. И Зина очень ждала его – без него она чувствовала себя совсем потерянной.
Постоянно думая о нем, Крестовская вспомнила, что последний раз они виделись еще до Нового года. Для нее это был первый Новый год, который совсем не был праздником. Она встречала его на рабочем месте, в кафе. Для клиентов кафе было закрыто. Но Михалыч накрыл небольшой стол – роскошный по тем временам: вареная картошка, соленые огурцы, свиные шкварки, кислая капуста, вареная курица, крепкий деревенский самогон. И так сидели они всю ночь – она, Михалыч, две сотрудницы кафе, его помощницы, и еще две торговки со Староконки, знакомые Михалыча, которым некуда было идти в эту ночь. Сидели до рассвета, пили самогон, плакали. Говорили о прошлом и снова плакали. Нет, это был не праздник. У всех было одно и то же ощущение – что присутствуют на похоронах. Но кого же они хоронили, по кому устраивали поминки? По прошлому миру, вообще по жизни? Или поминали себя?
А Зина думала о Бершадове. Она все время думала о нем – где он, кто с ним. Представляла его в сырых катакомбах, его внимательные и строгие глаза, блестевшие в полутьме. И оттого плакала гораздо горше, чем все остальные. Плакала, неспособная остановиться, признаться самой себе в том, что испытывает животный страх.
Страх стал неотъемлемой частью ее жизни. Она помнила, как Бершадов предупреждал ее об этом. Страх стал частью ее, такой, как руки, ноги, волосы… И ничего сделать с этим она уже не могла.
А когда Бершадов наконец-то пришел, когда по условленному знаку в секретном месте Зина поняла, что будет свидание, ничего не получилось. В этот раз любви не было. С первого же взгляда Бершадов понял, что Зина больна. Больна не физически – с этим все обстояло в порядке. Больна другим, и это намного страшней.
Крестовская лежала в кровати, по глаза натянув одеяло, и все время дрожала. Едва Бершадов прикоснулся к ней, с Зиной случилась истерика. И он прекрасно понял, что случилось.
Это по его приказу Крестовская передала взрывчатку, при помощи которой взорвали машину с двумя офицерами и денщиком. А потом, так же, как и многие в городе, она узнала, что произошло дальше – как за убийство офицеров были расстреляны 20 человек, весь персонал ресторана.
Бершадов знал, что у Зины очень странный порог душевной чувствительности. Она могла вынести очень многое, что не под силу обыкновенному человеку, тем более женщине, но могла сломаться от мелочи, когда терпение ее истощалось от постоянных битв. Здесь же была не мелочь. Казнь двадцати ни в чем не повинных людей нельзя было назвать мелочью. И психика Крестовской просто не выдержала этого удара.
Григорий дал ей время выплакаться, зная, что после слез она обязательно будет говорить. И что слова станут самым настоящим лечением, даже если вскроют кровавую рану.
– Они расстреляли всех… – Зубы Зины стучали о металлическую стенку чашки с водой, которую дал ей Бершадов, – всех расстреляли, кто работал в этом ресторане! Всех!
– Разумеется, – голос Бершадова звучал абсолютно спокойно, – и дальше будут стрелять. 10 заложников за одного убитого офицера – еще не так много.
– Не так много?! – Зина приподнялась на локте, уставясь на Бершадова расширенными глазами, полными ужаса, – По-твоему, это не так много? 20 жизней ни в чем не повинных людей! И это я убила их! Я!
– Да, ты, – спокойно сказал Бершадов, – и я тоже. Что дальше?
– Как это? – Зина была сбита с толку, чего, собственно, он и добивался – она прекратила плакать. – Что значит: что дальше?
– Дальше ты снова будешь убивать. Да, ты передала взрывчатку, которой убили немцев. И вместе с этим ты сорвала важную операцию по наступлению на участке фронта, а также уничтожила важные документы. Разве ради этого не стоило убить?
– Мирных людей? – Голос Зины сорвался на крик.
– Немцы специально убивают мирных людей, надеясь, что это нас остановит. Да, за каждого убитого врага будет множество других жертв. Но разве есть другой путь?
– Ты о чем? – Зина непонимающе смотрела на него.
– Сдаться и не убивать офицеров? Пойти на их условия? Прекратить сопротивление? Они этого и хотят. Значит, стать такими, как они?
– Но мы и так уже такие, как они, – Крестовская снова начала дрожать. – Так нельзя. На наших руках столько же крови, сколько на руках фашистов!
– Не сметь! – резко подскочив, Бершадов с силой толкнул ее в плечо, опрокинул обратно на кровать. – Не сметь, слышишь!!! Запрещаю тебе так говорить!
– Ты не можешь мне запретить, – голос Зины прозвучал глухо. – Я говорю правду. Мы с такой же легкостью убиваем мирных людей, не считаясь с потерями. Устраиваем диверсии, зная, что они будут убивать людей из-за нас. С такой легкостью распоряжаемся чужими жизнями…
– Это не остановит, – Бершадов пожал плечами, – здесь война. Пойми это. Война. И капитуляции не будет. Мирное население и убивают, чтобы остановить нас, вынудить пойти на капитуляцию. Не бороться. Принять поражение. Мысленно согласиться отступить. И тогда война будет для нас проиграна. Но мы не остановимся. Сопротивление в тылу – это главное. Они должны знать, что сдачи и отступления не будет.
– Это не сопротивление, – Зина отвела глаза, – это попытка играть по их правилам. Убивать.
– Я уже сказал: это война. Другого пути нет. Умрут многие. Но ради чего? Ради моих или твоих амбиций? Подумай об этом.
– Я уже думала, – горько вздохнула Крестовская. – Эта безжалостность… Эта попытка играть чужими жизнями… Чем мы лучше их?
– А почему мы должны быть лучше? Победить врага может только равный ему. Так что действовать придется теми же методами, что и враг. И да, убивать людей.
– А они будут смотреть. Люди, которых мы убили. Так будут стоять и смотреть, как те, из ресторана, – Зина снова принялась дрожать, – смотреть… А мы всегда будем их видеть. И ты, и я, и те, кто подложил взрывчатку, все те, кто участвовал в операции. Мы видеть их будем. Они на нас из-под земли смотреть будут…
После этого у Зины снова началась истерика. Бершадов дал ей выплакаться. Потом Зина заснула. К счастью, нервная система ее была слишком истощена, и никаких сновидений она не видела. Это было ее спасением.
Посреди ночи Крестовская проснулась от дрожи. Бершадов снова отпоил ее самогоном. По телу сразу разлилось тепло. Плакать больше не хотелось. Но и жить – тоже. Зина чувствовала себя совершенно разбитой. Она не знала, что делать. И зачем жить.
Здесь было все не так, как раньше, не так, как то, к чему она привыкла – успела привыкнуть до войны. Тогда было проще. Если произошло убийство – нужно было искать убийцу. Если произошло преступление – следовало искать преступника. Все четко расставлено, от а до я. Точки над всеми нужными буквами. Минус и плюс.
Но здесь была жуткая дилемма, полностью сломавшая ее мозг. Если убивать немецких офицеров – немцы будут расстреливать заложников, мирное население. Причем, расстреливать будут именно немцы, не румыны. Румыны были намного мягче и не участвовали в массовых казнях. Почти добрый народ. Румыны могли обворовать, но не убить. И такого фанатизма у них не было. Но румыны не принимали решения. А потому расстрел заложников никто не мог отменить.
Итак, убивать немцев – значит убивать заложников. Но не убивать немцев – значит не оказывать сопротивление. Сдаться. Собственно, этого от них и хотят. Это озвучивалось не раз оккупационными властями: выдавайте партизан, коммунистов, не воюйте с властью, примите правление Румынии – и будет вам счастье. Мы не станем никого убивать. Но разве так можно выиграть войну?
Партизаны – это тот страх, который доводил оккупантов до белого каления и заставлял делать ошибки. Значит, подобные диверсии были нужны.
Сопротивление необходимо. Но сопротивление – это убийство местных жителей. Конечно, это не может остановить таких, как Бершадов. Он такой же фанатик, как и те, против кого он воевал. Для него ничего не значат людские жизни. Но Зина сходила с ума. Вся ее нравственная сила протестовала против этой чудовищной дилеммы. И она чувствовала, что пока не сможет ее разрешить. Ей было страшно. И оттого она болела. Не телом болела, душой, которая, воспалившись, превратилась в кровоточащий, гнойный нарыв. Вскрыть этот нарыв Крестовская не могла. Она вдруг поняла, что никогда не станет такой, как Бершадов. И впервые в душе ее поселилось сомнение: правильный ли выбор она сделала? Правильным ли было ее решение остаться здесь и, сопротивляясь, стать причиной многих смертей?
Зине вдруг подумалось, что даже если она переживет эту войну, если все они переживут эту ужасную войну, она никогда не сможет об этом говорить. Это будет самым страшным ее проклятием – печать молчания.
– Тебе лучше? – Бершадов заботливо провел рукой по ее волосам. Впервые в жизни она не растаяла от его прикосновения. Оно даже вызвало в ней некоторое раздражение. И Зина просто онемела от этого открытия!
– Я не знаю, – она старалась, чтобы голос ее звучал спокойно, но даже не представляла себе, что это потребует от нее столько усилий.
– Тебе нужно прийти в себя, – мягко произнес он.
– Я поняла, – Крестовская мотнула головой, – ты ведь встретился со мной не просто так. Что на этот раз?
– Пакет от модистки. Со шляпами, – сказал Бершадов.
– Нет, – Зина отстранилась от него так далеко, насколько смогла.
– Да, – мягко, но при этом и очень твердо произнес он. – В этот раз ты купишь себе новую шляпу. Обменяешь на серебряное кольцо. Вот оно.
Бершадов разжал ладонь – на его жесткой коже тускло поблескивал большой серебряный перстень с голубым камнем.
– Это топаз, – сказал Бершадов, как будто Зина спросила его об этом.
– Я не ношу шляп. – Ей хотелось кричать.
– Об этом никто не знает. Да, если честно, на это всем как-то плевать.
Зина молча смотрела в его глаза. Бершадов не отводил взгляд. В этом взгляде читалась его правда. Он пришел к ней с заданием. Не ради любви, не для того, чтобы увидеть ее. Любви не было, и больше ничего не значили человеческие чувства, ведь они оба были на войне. Впервые в жизни Зина подумала, что выйдет с этой войны полным инвалидом, даже если не будет физически ранена.