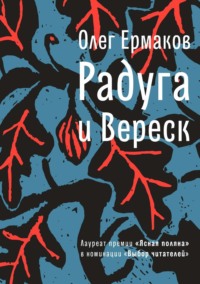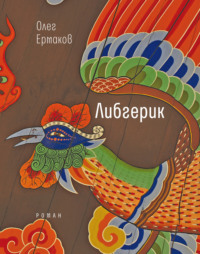Полная версия
Родник Олафа
А те, будто дикие зверюги, накинулись на него. И велели его же повару Глеба и зарезать. А Глеб плакал и звал отца своего Василия: «Василие, Василие[130], отьче мой и господине! Приклони ухо твое и услыши глас мой, и призьри и вижь приключьшаяся чаду твоему, како без вины закалаем есмь. Увы мне, увы мне!»[131]
И это поразило Сычонка больше всего: то, что Глеб взывал к Василию. Это было похоже на какое-то чудо. Он вскинул голову и во все глаза смотрел на Луку. «И моего батьку кликали Василием!» – кричали яркие глаза мальчика. Щека у него дергалась, губы кривились, лицо было бледным.
Лука замолчал и уставился на него.
– Да, так он взывал, – проговорил он немного растерянно, следя за Сычонком.
Сычонок не мог больше сидеть на колоде близ колодезя и вскочил. Лука поднял руки.
– Тшш!.. Охлынь, охлынь, малый, – заговорил Лука. – То давно было, давно… не сейчас. Ну. Я доскажу тебе. Тут его и зарезали на Днепре в Смядыни. И бросили тело на берегу. Прямо здесь! – сказал Лука и ткнул пальцем на колодезь. – И как тело то обрели, на сем месте и колодезь водой исполнился. А теперь давай, запускай ведро в лагвицу сию святую.
И сам опустил ведро, и зачерпнул воды, и перелил ее в бадейку. Так и работал, посматривая своими раскосыми глазами на мальчика. А как бадейка наполнилась, просунул крепкую палку под дужку и велел Сычонку браться за другой конец. И так они понесли воду в монастырь. Сычонку пришлось трудно: он был ниже ростом того Луки и потому руки подымал на уровень груди. Шли, расплескивая воду, и Лука уже тихо ругался. Но все же достаточно воды осталось в бадейке, и они ее перелили в большую бочку у поварни и снова отправились на колодезь.
Теперь уже Сычонок смотрел на нее внимательнее. В воду уходил четырехугольный сруб. Сверху его накрывал щит. Сруб был явно из дубовых бревен. Сычонок и потрогал дерево, и даже принюхался. Точно – дуб. Его запах стал для мальчика родным, как запах Возгоря Василья Ржевы. На ветке ивы над колодезем висел деревянный черпак. Тут же стояло и ведро с веревкой, охваченное полосками железа, а к ушам были подвешены камни на веревках, чтоб ведро быстрее тонуло. Сычонок заглянул в колодезь. В нем отражались ветки ивы, серое небо да сам Сычонок.
Потом Лука велел ему подметать в трапезной, а сам занялся колкой дров у поварни. Пришел еще один монах, средних лет, с тугими заросшими бородой щеками и темными глазами, и принялся стряпать. Велел Луке печь затопить. Заметив мальчика, спросил сипло: кто это таков приблудился? Сычонок ничего не отвечал, за него говорил Лука. Мол, да кто его знает, точно, приблудился, его отец Стефан привел, отбил у собак в городе.
– Немко? – вопрошал тот монах щекастый.
– Немко, брат Кирилл, – отвечал Лука.
– А иди-ка ты вон, на воздух, – прогнал Сычонка тот монах. – От тебя дух прет смрадный. Фух!
И точно, Сычонок свою одежку давно не стирал, вся насквозь пропахла рыбой, потом, смолой, землей…
И он вышел на двор. Стоял, озираясь, топал босыми ногами. Холодно ему было. Одно слово – черемуховые дни настали.
Под цветущими яблонями бродил рыжий большой кот с белой грудкой. Он все чего-то вынюхивал, высматривал в желтых одуванчиках, прижимал лапой, словно измазанной в сметане, и отпускал. Видно было, что охота ему ни к чему, сытная жизнь у него здесь, за монастырскими стенами, – так, баловался с какими-то букашками, может, с лягушками. Но как прилетала на ветку птица, кот по-настоящему оживлялся, шерсть его так и блистала, и он пригибался к земле и начинал подкрадываться… Да птичка сразу и улетала, осыпав на кота лепестки.
И было этому коту так хорошо, тепло в его рыжей густой шубе и белых шерстяных обмотках, что Сычонок обзавидовался.
3
Настоятель монастыря, отец Герасим, невысокий лобастый старик с лысиной, но с тяжелой пего-седой бородой, опираясь на посох с резным драгоценным набалдашником, оглядывал босоногого Сычонка.
– Ну, пусть пока живет, – молвил он. – Токмо яко его величати?
Стефан взглянул на мальчика и принялся перечислять разные имена. А Сычонок все крутил отрицательно головой. Стефан выдохся и улыбнулся. На его смуглом лице горел румянец, глаза ореховые светились умом и силой. А вот – выдохся, так и не дознавшись.
– Грамоте не разумеешь, чадо? – вопросил отец Герасим.
Сычонок покрутил головой.
– Сице посади его за ученье, – сказал он Стефану. – Пока суд да дело, глядишь, с Божией помощью хотя бы имя свое писать выучится. Но сперва первую молитву нашим покровителям пусть осилит.
И Сычонок остался при монастыре. Место для спанья ему отвели на дровяном складе. И приставили его к поварне, под начало Луки и Кирилла. Лука и молитве святым братьям принялся учить: «О двоице священная, братия прекрасная, доблии страстотерпцы Борисе и Глебе, от юности Христу верою, чистотою и любовию послужившии, и кровьми своими, яко багряницею, украсившиися, и ныне со Христом царствующии! Не забудите и нас, сущих на земли, но яко теплии заступницы, вашим сильным ходатайством пред Христом Богом сохраните юных во святей вере и чистоте…»
Сычонок не мог сразу все запомнить и получал от Луки подзатыльники. Но уже через два дня знал назубок. А ведь «говорил» ее про себя, и никто не мог проверить, точно ли он все знает. Лука заставлял его подметать в трапезной, таскать воду, дрова для печи, чистить котлы в поварне. А уже поздно вечером прямо на дворе, если не моросил дождь, Лука, расчистив землю у склада, писал заостренной палкой буквицы и заставлял Сычонка списывать их другой палкой тут же на земле.
При монастыре жил слепой горбун Тараска Бебеня, он вырезал из липы ложки, ковши, кружки, миски; мог вырезать игрушку; плел и лапти. Стефан как-то увидал вечером озябшего босого Сычонка и отвел его к этому горбуну с козлиной бородкой и длинным носом и попросил сплести ему обувку. Горбун померил ногу мальчика по своей руке и приступил к делу. Он ловко плел лапти, глухо напевая себе что-то под длинный угреватый нос. Мальчик прислушался. «Ой ты, Горе мое, Горе серое… Лычком связанное, подпоясанное!.. – напевал горбун. – Уж и где ты, Горе, ни моталося… На меня, бедную, навязалося… Уж я от Горя во чисто поле… Оглянусь я назад – Горе за мной идет…»
Сычонку тоскливо стало от той песни, и он пошел прочь.
А горбун Тараска Бебеня сплел ему отличные лапти, Сычонок примерил – впору. Лука уделил холстину на обмотки, веревочку. И Сычонок наконец-то обулся. И одежу свою выстирал. Да она быстро пачкалась при работе.
То ли дело кот Кострик, как его звали. Цветом он и был в конопляную костру. Всюду бродит, под дровами шарится, по всем углам отирается, а полижет шерсть, и та сияет на солнце. Лепота-а!
Сычонку, чем больше он за ним следил, тем сильнее хотелось быть котом. И воду никто Кострика таскать не понуждает. И буквицы не надо учить. И можно не говорить, только смотреть, подергивая хвостом.
Все в монастыре всегда были заняты делом. Кто на огородах работал, кто стены келий поновлял, белил ограду, копал землю под яблонями, уходил рыбачить на Днепр с мрежей, кто молитвы читал. Заглянул из любопытства Сычонок как-то в келью, называемую книжницей. Там сидели два монаха и переписывали какие-то книги.
– Чего нос здесь суешь? – спросил один.
– Стой, брат Сергий, может, он чтец? – насмешливо вопросил другой, отрываясь от своего дела.
– Ладно, – сказал первый. – Принеси воды напиться.
И Сычонок побежал в поварню, набрал ковш воды и поспешил назад, в книжницу. Да тот монах только пригубил и выплеснул воду прямо на Сычонка.
– Ах ты, недоросль, ленивец нериязненный[132]! Пошто старую-то воду принес? А не прямо из колодезя?!
Второй монах-переписчик качал головой, ухмылялся. И Сычонок снова побежал за водой, теперь уже на колодезь. Зачерпнул там водицы и вернулся. Монах Сергий, с дымчатой бородой и мягкими усами, носом-уточкой, напился воды, утерся и похвалил мальчика. Напился и второй переписчик.
А пока они пили, Сычонок глядел на книги в кожаных переплетах, на гусиные перья и палочки в деревянных ступках. На стопки тончайшей кожи и всякие плошки.
– Добре, отроче, – сказал и второй монах с болезненным скуластым бледным лицом, оттененным густой черной бородой.
Он протянул мальчику ковш. Сычонок взял, но не уходил.
– Ну, что тебе поведати? – спросил устало этот худосочный монах с выпуклым, как колено, лбом.
Мальчик глядел на него, ждал. В дверной проем ломился яркий солнечный день с птичьими песнями, далеким лаем собак, с криками чаек на Днепре. И оба монаха щурились, глядя на мальчика.
– Грамоты не разумеешь? – спросил снова тот монах. – Сице поусердствуй, и станут тебе доступны овые[133]. – И он кивнул на книги в кожаных переплетах, по которым переливались волны света. – Много чего из оных можно уразуметь, – продолжал он. – И начало мира, и жизнь Господа нашего Иисуса Христа, и сказания о полководце Александре Македонском, и жития великих святых, и откуда есть пошла земля Русская. И про наш великий Оковский лес, который обтекают три чудные реки: Днепр, Двина и Волга, сбегая с горы Валдайской.
– Ты, Димитрий, лепше[134] скажи ему, что каждая книга – стадо, – проговорил Сергий.
Брат Димитрий кивнул.
– И то верно. Стадо словесное и есть.
– …и коровье, – продолжал Сергий.
Брат Димитрий обернулся к нему.
– Неужто сам забыл? – спросил Сергий. – Страницы – уньци[135]..
– Ах, – откликнулся Димитрий и закивал.
– Каждая страница – уньць.
– Ты поясни: теленок али олень, – подсказал Димитрий.
– Олень, – пояснил Сергий. – И каждая книга – то стадо оленей, отрок. Вот эта книга – сто оленей, – сказал он, беря одну книгу. – А вот Библия, – проговорил он, беря тяжелую толстую книгу с застежками, – пятьсот оленей. Разумеешь?
Сычонок во все глаза глядел на монахов. В его голове это никак не укладывалось. Он видел лесных оленей в окрестностях Вержавска… Как же они могли обернуться книгами?.. И рога где?..
Монахи посмеивались, следя за мальчишкой. Да тут появился игумен Герасим.
– Ты что тут деешь, отроче? – спросил он строго. – Братьев от дела отрываешь? А в бочке полно воды-то? И котлы в поварне сияют?
– Он водицы дал нам испить, отче, – сказал монах Димитрий.
– Да и молодец, – отвечал игумен. – А теперь за работу!
И он подтолкнул легонько мальчика в спину.
– Студ[136] праздным! – напутствовал он мальчика.
Но все же Сычонок умудрялся всюду побывать, посмотреть, что к чему. Подходил он и к порубу.
Была такая постройка из бревен, без окон, в самом дальнем углу. Там сидел какой-то кощей, как успел разведать Сычонок. Но что за кощей, он не знал. Корм ему туда носил сам тугощекий Кирилл. Сам готовил, сам и потчевал. И Сычонок думал, что, значит, кощей тот какая-то важная птица.
И как только он к порубу приблизился, его окликнул Феодор с налимьими усами, поманил, а как мальчик подошел, крепко и больно ухватил за ухо толстыми сильными пальцами и тихо, но внушительно сказал:
– Чтоб и близко твово духу не было около поруба, утинок[137]!
В другой раз он увидел открытой дверь в колокольню, да и зашел, постоял, прислушиваясь в темноте и приглядываясь после солнечного двора. Только и слышны были голуби где-то там, вверху. И мальчик пошел по узкому ходу, вверх по скрипучим ступеням. И вот оказался под колоколами разной величины.
Огляделся.
Да!
Вержавская колокольня-то выше была. Выше, много выше. С нее как с птицы было видно вокруг – леса аж до Двины в одну сторону. А в другую – до села и озера Каспли.
Но и с этой колокольни многое было видно.
По одну сторону лежала Чуриловка с избами, сараями, мыльнями[138], плетнями, огородами, полная жизни и суеты. Налево она тянулась до деревянной церкви Кирилла, мимо которой Сычонок проходил со Стефаном. А там уже начинался город с его стенами, с избами и большими хоромами, горами и церквами, садами, высокими деревьями.
Смотреть туда можно было долго, различая и окна на втором ярусе хором, и галок над собором, и лошадь на склоне горы, и людей, собак, луковки и кресты. И вверх уходила светлая широкая лента реки.
А по другую сторону за лугом и тек Днепр. Там была пристань. И ветер трепал разноцветные флажки на мачтах, а то и надувал большой разноцветный же парус. Там сверкали крыльями и резко кричали чайки. Вверх по течению на берегу дымились смолокурни, лежали ладьи вверх дном. То же и на другой стороне с обширным крутым холмом, поросшим соснами: там тоже лежали и лодки, и ладьи, и дымились смолокурни.
У пристани стояли избы и склады, все время двигались люди, носили тюки, складывали на телеги и везли в город на Торг. А другие везли товар сюда, на пристань.
Небольшой торг был и там, прямо у пристани. Смоль-няне предлагали ладейщикам всякую снедь в путь-дорогу, а то и товар для продажи в дальних городах и по Днепру, и по Двине, а кто по Двине-Дюне вверх пойдет, то и на Волге.
«Здесь пристань трех рек и есть», – сказал Лука.
И Сычонок увидел уже одну из этих рек: Днепр. До Двины-Дюны так и не дошел… Совсем она была близка… Тут снова на него наплыло прозрачное облако горькой печали, тоски по отцу, да и по его товарищам Страшко Ощере и Зазыбе Тумаку.
А Волга уже где-то высоко… поднебесная река…
И ему поблазнилось, что отец с товарищами где-то по той Волге и плывут сейчас.
Все двоилось в глазах мальчика.
Не отдавая себе отчета, он взялся за веревку и качнул язык среднего колокола, качнул сильнее, и тот соприкоснулся с краем, и воздух тихо завибрировал. Мальчик тронул язык другого, поменьше, и нежный звук с колокола потек, воздух как будто засеребрился. Уже не в силах остановиться, мальчик потянулся к языку самого большого колокола, вздынул его раз, другой, третий – наконец тот рокотнул, густой бас его кругло покатился во все стороны. Густой, грозный, величественный. Грудь мальчика содрогнулась, глаза стали горячими, ладони вспотели. Такой-то силы, вдруг подумалось ему, не было у прежней веры – веры беззубой, сморщенной бабки Белухи. Колоколен они не строили на горах Вержавских, а все по закутам дымным кобь свою справляли, аки то баил батька.
Тут позади послышалось тяжелое дыхание, кто-то поднимался по скрипучим ступеням.
Мальчик оглянулся.
На площадку выходил тучный рыжий монах Леонтий.
Он возмущенно глядел на Сычонка, утирал рукавом потное лицо в веснушках, обрамленное стружками бороды. Мальчик отступал медленно.
– Фуй… Ты чего обаче[139]? – отдуваясь, спросил Леонтий. – Баловаться тут восхотел, таль[140] неразумения? Упадки вилавые[141]?.. У кого тому выучился? Али чего? Кто надоумил? Фуй…
Сычонок глядел на него, отойдя уже к самому краю площадки.
Леонтий утирал пот.
– Время-то… оно… и как раз, пора перезвон учинить… – говорил он. – Но убо[142] я же звонарь?..
Мальчик кивал и уже бочком пробирался к спуску. Леонтий вел его взором выпуклых голубых глаз. И когда Сычонок уже готов был юркнуть вниз, окликнул его:
– А ты… погоди-ка, уньць!.. – Он поманил его пухлой ладонью. – Поди сюды.
Мальчик с робостью приблизился.
– Не боись, не прибью, – сказал рыжий Леонтий. – Ты прежде не звонил?
Сычонок помотал головой.
– Угум… А с чего ж тебя вдруг разобрало-то? А? Али рачение нашло? Ну, сознавайся? Засвербило в дланях-то?.. Глаголь. – И рыжий прихлопнул себя по черной шапочке. – Ха, балда. Ты-то баить и не умеешь… А он вот, батюшка, вместо тебя и побаит, ну? Держи.
И Леонтий дал ему веревку самого большого колокола.
– Потяни, потяни хорошенько!
Сычонок дернул и еще раз сильнее, и колокол сразу ответил басом.
– Не! Сразу не леть! Ты его разогрей-то с тщанием, побаюкай сперва, сице, дабы он не кричал, не ревмя ревел коровой, а… – и тут Леонтий провел ладонью по воздуху, – пел. Разумеешь? Пел.
Мальчик кивнул.
– Ну, давай. Чтоб он языком едва-едва коснулся губы-то, – сказал Леонтий и дотронулся до края колокола и быстро проговорил, перечисляя и показывая на те или иные места колокола: – Се губа, се талия, се поясок, се голова, се корона, се хомут.
И Сычонок начал медленно раскачивать тяжкий круглый язык. И ему чудилось, что он не только колокол этот качает, а еще и колокольню, церковь, кельи, поварню с трапезной и само небо с солнцем. И колокол неожиданно нежно, хотя и басом, пропел.
Леонтий аж засмеялся и потер пухлые ладони. Глаза его блистали.
– Ишшо, ишшо! – сказал он. – Хотя и не время, но… можно. Запомни: сей батюшка-колокол – праздник.
И мальчик снова заставил этот колокол сказать свое какое-то устало-задушевное, бережное слово.
– А теперь вон, – указал Леонтий на колокол поменьше. – Он – воскре-се-е-ние. И такожде не время… но давай уж.
Сычонок и его заставил петь так же благозвучно. Леонтий в голос засмеялся.
– Бо убо! Бо убо[143]! Но им давай глаголать только в праздники и воскресенья, разумеешь?.. А нынче не избежать внушения от Герасима али кого другого…
Но видно было, что Леонтий по-настоящему захвачен происходящим. И он велел взять веревочки от других колоколов – будничных, а потом маленьких подзвонных и зазвонных, последние были в связке.
Мальчик сбивался вначале, но Леонтий ему показал, как нужно. И Сычонок снова попробовал.
Леонтий зажмурился, как кот Кострик.
– Ну, я тебя ишшо поучу, – сказал он, – а пока дай братии поиграю.
И он начал звонить-перезванивать-зазванивать, ловко поворачиваясь, дергая за веревки, будто танец какой исполнял. И живот ему не мешал. Он двигался по-юношески легко.
Когда они спустились, в храме уже шла служба. Леонтий повел мальчика в храм. А после службы Стефан спросил, что это было на колокольне-то?
– Он играл, – ответил Леонтий, кивая на Сычонка. – А потом уж и аз грешный.
– Вот оно что! А я и услышал… – Стефан сделал жест рукой, обозначающий волны. – Будто серебро живое пролилося.
Леонтий расплылся в довольной улыбке.
– Да! Так и есть. Сей сиромах[144] и владелец оного, – сказал он и указал на Сычонка. – Аз то сразу раскусил, аки застал его на колокольне. Невинным чадам то даром дается, что нам многими трудами и стараниями.
Стефан кивнул.
– Верно.
– Вот и появится у нас звонарек, – сказал Леонтий. – А то мне туда на верхотуру несподручно бегать-то.
Стефан улыбался своей нутряной улыбкой.
– Значит, не зря я его у собак отбил.
4
А через несколько дней вдруг все в монастыре засуетились, что-то случилось. Настоятель Герасим сам по двору ходил, осматривался и тыкал посохом туда или сюда, указывая на ямину ли, на кусок дерева или обрывок тряпки. И монахи все убирали, ровняли, тщательно мели метлами, возили с Днепра песок на кобылке и посыпали дорожки. Только что пыль не сдували отовсюду. Герасим, узрев Сычонка в поношенной грязной одежке, велел ему найти что-нибудь. И Леонтий подобрал ему совсем маленькую ряску, но и та была Сычонку великовата. Леонтий взял ножницы, тут же укоротил подол и рукава, дал мальчику нитку с иголкой да указал все подшить. Сычонок сидел, корпел над рясой, все пальцы исколол. Леонтий глядел-глядел и не вытерпел, вырвал у него рясу да и все сам ладно и быстро обметал. Мальчик скинул свою уже рваную на локтях и коленях одежку и примерил снова ряску. И почувствовал, какая она теплая. Леонтий и порты крепкие ему отыскал.
Мальчик вырядился и удивленно на Леонтия глядел, кивал вопросительно.
Тот не мог понять, о чем он вопрошает, мол, как выглядит, что ли?
– Да ты ж не девка, чего волнуешься? Похож на заправского инока.
Но мальчик продолжал спрашивать. Леонтий так и не понял, чего ему надо.
Мальчик шел да прислушивался, о чем толкуют монахи. Понял: кто-то едет сюда.
И точно, под вечер Леонтий велел мальчику лезть на колокольню и глядеть в оба на Чуриловку. Как только на дороге появятся всадники, бить в праздник и в воскресенье, а после дать перезвон.
– Ты его посылаешь, не боишься, что малый вместо звонов петуха даст? – спросил Феодор с налимьими усами.
– Отрок смышленый. На лету все схватывает. Я, может, и гораздно[145] сыграть сумею, но без живого серебра. А у него оно есть, поет, – отвечал убежденно Леонтий.
И точно, все эти дни они поднимались вдвоем на колокольню, и Леонтий поучал мальчика. Так что тот уже прилично звонил.
– Гляди, Леонтий, – сказал Феодор, качая головой.
И вечером, когда из-за Днепра лились червленые лучи солнца и кукушки в дальних березовых рощах били в свои небольшие, но звучно-гулкие «колокола», будто дразня мальчика, вызывая его на колокольное сражение, а в слободе мычали коровы, брехали собаки и перекликались звонко дети, на дороге в Чуриловке и впрямь показались всадники.
Мальчик глядел на них сквозь полеты многих ласточек, они реяли вверх и вниз вокруг колокольни и резко цвиркали.
И Сычонок взялся за веревку и качнул язык праздника. И тот загудел благовестом. Ласточки еще громче и резче закричали, беспорядочно носясь в вечернем воздухе.
Правда, Леонтий не утерпел и все же неожиданно быстро поднялся на колокольню, отдуваясь и утирая пот, и сам заиграл. А потом кивнул и мальчику, чтоб тот взялся за подзвоны и зазвоны. И так они вместе играли. И так дивно у них получалось, что монахи лишь головами качали.
А всадники уже въезжали в ворота. Там сразу и остановились, и спешились.
Леонтий еще не давал знака, и колокола продолжали петь.
Среди приехавших выделялся сероглазый мужчина с русой бородкой, в червленом же, как те лучи, плаще, в высоких сапогах, в голубом охабене, на котором поблескивали драгоценные пуговицы, и в зеленой шапке, отороченной мехом, с кинжалом на поясе. Сопровождали его тоже нарядные люди и несколько воинов в кольчугах, шишаках, с мечами на поясе и круглыми щитами и копьями, на которых трепетали флажки.
Воины остались при лошадях, а остальные прошли по двору. Встречать их вышла вся братия во главе с настоятелем Герасимом. Приехавшие кланялись Герасиму, и тот им кланялся, и вся братия. И тут Леонтий сделал знак и прервал звон. Замер и мальчик, с любопытством глядя вниз и слушая.
– Рады тебе, светлый наш господине, княже Ростислав Мстиславич! – возгласил игумен Герасим в мантии, в клобуке – черном колпаке со спускающимся на плечи покрывалом, – с большим золотым крестом на груди, блистающим под тяжелой бородой. – С благополучным возвращением в богоспасаемый град Смоленск!
– Благослови, отче! – отвечал князь, подходя и снимая шапку.
Герасим его осенял крестом. И князь поцеловал золотой крест. За ним и его двое спутников.
– Вижу, обитель процветает трудами братии и твоими молитвами, отче Герасим, – сказал князь, оглядываясь.
Это был князь! Знаменитый князь смоленский Ростислав Мстиславич, вот кто. Сычонок в Вержавске слыхал о нем и от отца, и от священника Лариона Докуки. Его смольняне любили. Князь жил душа в душу со смоленским вече. Ходил во главе смоленского войска на Полоцк, когда его призвал отец, князь Киевский. Еще с кем-то воевал, с каким-то лесным народом. Но больше хотел мира.
Снова зазвонил Леонтий, и все пошли в церковь, где горели огоньки множества свечей. И всю службу Леонтий и Сычонок оставались на колокольне и время от времени звоном сопровождали службу. Точнее, тут уже звонил один Леонтий, ибо непросто было точно знать, когда ударять и в какой колокол. Леонтий обо всем рассказывал мальчику.
А из открытых дверей доносилось стройное и немного грозное пение братии, а то слышен был один голос – кажется, Стефана: «Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовного, еже прием в пренебесный мысленный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа!» И слышно было, как раскачивается кадило на цепи. И даже сюда, под колокола, доходило благовоние ладана. А Сычонку вдруг припомнился такой же странный звук дзынькающих серебряно цепей, когда он блуждал по дебрям касплянским после нападения извергов. Что это было? Как он мог то слышать?
К храму шел горбун Тараска Бебеня, клонил простоволосую плешивую голову, истово крестился, на ходу подпевая братии.
Сычонок покосился на свои новенькие лапти… Вот что вместо калиг, обещанных отцом.
Ларион Докука толковал о душе, живущей после смерти. Но вот Сычонок не чуял, жива ли душа отца. Где она? Там ли, на реке Каспле, или в Вержавске около мамы? Или здесь, в деревянном храме Бориса и Глеба на окраине Смоленска? А то, может, там, где-то на высокой небесной неведомой Волге, что обтекает вместе с Днепром и Двиной великий Оковский лес, как о том толковал писец Димитрий? Там, на горе Валдайской? Куда ты ушел, отче? Отче мой Возгорь Василий…
После службы князь, выйдя из храма, сказал игумену и братии, что решил вместо деревянной церкви возвести здесь каменную во имя Бориса и Глеба, страстотерпцев, ежели на то не будет возражений. Игумен и братия благодарили и кланялись князю. Князь твердо говорил, что, коли так, то сразу и приступать надо, не мешкая. Камень возить, лес, глину. А старый храм разбирать с Божией помощью. Чтобы в пять лет возвести новый собор. Игумен отвечал, что дивится тщанию и стараниям князя, ведь только что закончилось строительство заложенного еще его дедом Мономахом собора Успения Богородицы на горе.