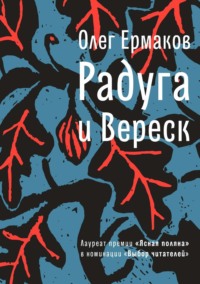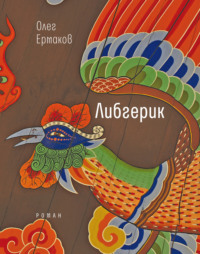Полная версия
Родник Олафа
Но, кажется, он просто шутит. И это у них застарелые такие шутки, перебранки. Так что Страшко Ощера только отмахивается от угрозы. Али от комарья. Комариное полчище все вьется, лезет в уши, в рот, за шиворот.
Над Гобзой между верхушками елок повисает тонкий прозрачный месяц. И соловьи, словно приветствуя его, бьют сильнее. У них в горлышках как будто студеные родниковые воды так и клокочут вперемежку с камешками и колокольцами. У костра кашеварит Страшко Ощера. Он умелец готовить корм. Сыплет крупу в котел, молодую крапиву мельчит ножом, убирая с лица свисающий чуб, – а остальная часть головы у него совсем лысая. Режет мясо. Оказывается, они там в верховьях добыли косулю, напластали мяса. И надо его побыстрее съедать, пока не испортилось.
У Сычонка живот подвело, слюнки текут. Ждет не дождется, когда уже всё будет готово, как заговоренный бродит у костра.
– Ты давай, давай хворосту! – покрикивает Страшко Ощера.
И мальчик прет сквозь кусты, начинает ломать сухие деревца, хоть сил у него нет никаких уже.
А отец с Зазыбой Тумаком ладят шалаш. С речных заводей доносится кряканье уток. Иногда в реке бухает рыба. Гобза – река рыбная, богатая. И зверь любит здесь селиться, выдра, бобер. Зимой отец бобра промышляет. За бобровые шкуры знатно платят.
И вот наконец-то Страшко Ощера всех зовет на пированье. Они рассаживаются у костра, разбирают ложки. А Сычонку не достается. Свою-то забыл в узелке.
– Впредь будешь умнее, – говорит отец. – Жди теперь.
– Да ладно… вот у меня есть… – произносит Зазыба и достает плошку деревянную. – Держи, черпай.
– Ого! – смеется отец. – Такой-то ложкой только богатырям есть.
– А ён и вырастет таковым-то, – подает голос Страшко Ощера.
– Скорее молчальником в монастыре сделается, – отвечает отец. – Погоди, – добавляет он, – дай сюды…
И забирает плошку, своей ложкой начерпывает похлебки душистой, кладет туда куски мяса и возвращает сыну. От хлеба отламывает ломоть и тоже протягивает ему. Сычонок держит обеими руками плошку, чувствуя тепло. Приникает губами к вареву. Обжигаясь, пьет. Ай, вкусно! Ничего вкуснее не пробовал на свете Сычонок. От жара глаза слезятся. На лице испарина. Дует на варево. Хочет уже пальцами поймать мяса, но отдергивает. Ух, жаркое. Снова дует. Пьет осторожно. Откусывает хлеба.
А мужики едят неспешно, переговариваются под треск костра и соловьиные песни. Обсуждают плаванье по Гобзе. Хвалят реку. Воды вдосталь. И погода хорошая. А то как зарядит дождь. Да дохнёт хлад. Но то начнется с черемухой. А покуда она не зацвела. Глядишь, и управятся до холодов дойти до Дюны хотя бы.
Доносится среди соловьиного пения загадочный свист. Страшко Ощера подымает вверх палец, призывая всех к тишине. Все умолкают. Трещит костер. Свист не прерывается… Страшко Ощера оглядывается на Сычонка, лыбится.
– Што ён сказывает? – спрашивает у Сычонка.
Да, это сыч свистит. Сычонок, облизывая жирные пальцы, слушает, но ничего не отвечает ни Страшко Ощере, ни сычу.
– Не замай, пущай ест, – возражает отец.
– А разумел бы грамоту, все и поведал бы нам, – замечает Зазыба Тумак.
– Еще успеется, – отвечает отец. – К Лариону зимой пойдет учиться. А пока вон – урок плотогона.
– Ничему ладному поп его не выучит, – говорит Страшко Ощера. – Всё у него пустое.
– Но грамота-то не зряшная? – откликается отец.
Страшко Ощера мотает чубом, жует хлеб с мясом.
– Вельми знахарь надобен.
– Ха, да идеже такого взять, чтоб язык исправил? Оживил? – отзывается отец, блестя в отсветах костра глазами.
Страшко Ощера зачерпывает ложкой варева, хлебает.
– Да есть такой человек, неужто не слыхал?
Отец вопросительно глядит на него сквозь дым.
– Хорт, – говорит со значением Страшко Ощера.
– Х-о-о-рт?.. Што за зверь?
– Хорт за Смоленском, – продолжает Страшко Ощера. – Велий волхв и чаровник, кудесник. Сказывают, хромоту вправляет, с глаз слепоту убирает, расслабленного в силу приводит.
– Во-олхв? – протягивает отец. – Ку-де-э-сник? Собака?
– Зачем так-то баишь, – остерегает его Страшко Ощера. – Не Собака, а Волк.
– И так, и эдак можно разуметьхорта, – отзывается отец.
– Не-ет, – отвечает Страшко Ощера, качая головой и глядя в сторону молодого свежего месяца. – Этот никак не собачьей породы, а волк и есть: Хорт.
– Волколак? – уточняет Зазыба Тумак, обгрызая кость дымящуюся.
Он и сам похож на какого-то оборотня, черный, одноглазый, взъерошенный.
– Как тот князь полоцкий? – вспоминает отец.
– Кто таков? – спрашивает Страшко Ощера.
– Да как… уж всяко познатнее твоего Хорта. А ты и не ведаешь?
– Князь из Полоцка?
– Он самый.
– Я до Полоцка не ходил, – отвечает Страшко Ощера. – А вы тама про него проведали?
– Тама, – подтверждает Зазыба. – Князь-оборотень Всеслав.
Он немного шепелявит из-за выбитых передних зубов. И князь у него получается какой-то коновязью: князись. И все в таком же духе. Новый человек и не поймет сразу его речь. Но все свои привыкли. Сычонку нравится его слушать.
– Брячиславич, – добавляет отец. – Всеслав Вещий, Всеслав Чародей…
И начинаются истории про князя-волколака из Полоцка.
Он-де родился при волхованье с короной, горевшей рубинами, на голове, в полнолуние, когда волки вкруг Полоцка ходили свадьбой и пели на все лады. И младенец сразу покусал до крови сосцы матери, так что та отдала его кормилице, чей муж был Лютичем, охотником, как волк, даже имя такое у него бысть. И младенец враз успокоился. А подрос – упросил взять его на охоту. На тура шла княжеская охота. В ту потеху княжич и пропал. Остыли охотники, глядь – нету княжича с короною. Бросились по дебрям искать, всё излазили, да сыскали только его лошадку. Куды подевался? А разверзлась футрина. Гром и молнии, ливень страшенный. Осенью-то. Да утром так и вовсе запуржило. Ежели кто вымок в ночь ту, то уж никак ему не выжить в дебрях без огня. И нигде ни дымка. До жилья далече. Тот Лютич там тоже был. И вот в одном месте увидал он след – волчий. И взошло ему в ум по следу тому пойти. Так и очутился Лютич на ручье. У того ручья берег высокий, обрывистый. И там нора. Изготовился Лютич волка бить, подкрался, кинул ветку… А из той норы-то глас человечий и послышался. Ругается кто-то. Лютич – глядь: княжич с короною своею высовывается. Говорит, что слез по надобности с лошадки, не привязал, та и ушла, и он заплутал, в дождь к норе этой вышел да и сховался. Лютич спрашивает, кто же там ишшо прячется? Княжич молвил, что никого. А сам глазы все отводит, все косит куды-то в сторону. Тут Лютич и смекнул: эва, а княжич-от того… волколавый. И только от норы они ушли, как вой позади и послышался. Княжич-от и лыбится: «Дядька».
Так дальше у него и пошло. С Николы Зимнего, как начинаются волчьи праздники, так ён не в себе делался, пока не оседлают коня, да тогда на охоту выпорхнет и поминай как звали, аж до самого Крещения. И всё с тем верным Лютичем, уж стариком, но всё таким же дублим[14]. И люди по деревням сказывали, что видали их обоих во главе великой волчьей стаи в заснеженных полях. Кто спорил, не верил, тех убеждали вот чем: ён, ён был, князь Всеслав, ибо рубинами над его головой горели звезды, сиречь та корона, даденная еще во чреве матери, с коей ён и на свет божий явился.
Знался князь с тайными силами, знался. И сам балий[15] бысть. А как иначе растолковать явления пред разорением Новгорода? Вдруг Волхов вспять пошел. А уж накануне захвата ночи напролет в небе горела и горела алая звезда – одна из короны, не иначе. И Новгород пал под натиском дружины Всеслава. И разорение там было страшное, будто и не люди христианские напали, а вся дружина и была волчьей. Они и колокола с собора Софийского имали, к себе в Полоцк свезли. И звон тех колоколов из Софийского собора на Верхнем замке в Полоцке отец и Зазыба Тумак сами слыхали…
Сычонок слушает и уже по сторонам сторожко озирается, к бате и костру жмется. А над ними звезды так и горят, и месяц в Гобзе колышется. Вода пробулькивает у плотов, шепчет что-то. А соловьи все не унимаются, щелкают с переливами, так красиво, будто их уже одолевает смертная истома. Мешают слушать-то ночь… Но пока огонь горит и батька не спит, ночь не так и страшна.
А батька еще рассказывает про того князя-волка, что-де и в Киеве тот на столе сидел, сами киевляне того восхотели, из темницы князя вызволили, куда заманили его враги. И киевляне те князем его над собой поставили. Такая в нем сила была кудесная. А потом ему и самому прискучил Киев и вся власть, бросил все и убёг. Убёг волком серым в свой Полоцк. Но сперва с набранным войском посягнул снова на Новгород, да неудачно, и новгородцы его схватили. Ну? Так и отомстили же за поруганную Софию? За кровь и грабеж? То-то, что и нет! Отпустили! Такова была его чародейная сила. И вернулся князь в свои поля волчьи над Дюной. Только Лютич его уж помер. Но он и сам управлялся на своих волчьих праздниках, до стен Смоленска дорыскивал, правда, взять города так и не смог ни разу. Но добычу вез и вез отовсюду в свой Полоцк. И города новые ставил. Земля полоцкая при нем расцветала, богатела. Дюну до моря покорил. Дань на литву наложил.
…И не помер, а серым обернулся, так и скачет по двинским полям…
– И к нам забегает? – спрашивает, потягиваясь, Страшко Ощера.
– Не вызывай волка из колка, – роняет Зазыба Тумак.
– А может, и с твоим Хортом смоленским переведывается, – откликается, зевая, отец.
– Или это ён самый и есть? – встряхивается Страшко Ощера.
– Где же там поживает?
– За Смоленском, вверх по Днепру есть село Немыкарское. От того села до Долгомостья, а тама чрез болото велие и ведут мостки к двум горам Арефиным, меж их тот Хорт и проживает.
– Откудова те ведомо, Страшко Ощера?
– Люди сказывают…
– Да я слыхал, твоя Кудра куды-то в Смоленск и хаживала вымаливать чадо? – вдруг оживился Зазыба Тумак. – Страшко Ощера?! Ай, говори, к Хорту и ходила, а не к Борису-Глебу?
Страшко Ощера смотрит в костер, сучья подбрасывает и молчит. Чуб его в отсветах огненным кажется. В глазах красные червячки кружатся.
– Скажи, клянемся Перуном и Дажьбогом, Докуке не поведаем, – просит Зазыба Тумак.
Страшко Ощера усмехается, дергает себя за огненный чуб.
– Да что тебе хоть Перун, хоть Дажьбог?
Зазыба Тумак смеется, показывает пролом в зубах.
– Тебе Докука пролом и содеял, – продолжает Страшко Ощера. – Тута!
Он ударяет себя в грудь.
– И ведь Кудра-то понесла… – бормочет отец.
– Не на того ли Хорта твое чадо и похоже?
– Так девочка у меня, – отвечает Страшко Ощера.
– Ну-ну…
– Так и ты бы мальца свез, – говорит Страшко Ощера.
Отец машет рукой.
– Нету моей веры старым колдунам трухлявым.
– Так что ж табе твой бог с овечками не поможет? – спрашивает Страшко Ощера. – Почто не отомкнет мальцу рот?
Возгорь Ржева развел руками.
– Ларион Докука сказывает, на то есть особая, выходит, Евойная воля.
– Как так?
– А вот так. Выходит, это зачем-то надобно. Промысл таков Божий. Или мука нам всем.
Сказал и перекрестился отец.
А Страшко Ощера плюнул.
Костер пригас, речи умолкли. Еще немного у рдяных угольков посидели и пошли кто куда, кто в шалаш полез, кто отошел справить нужду. Сычонок отливал в траву и вверх глядел. А там все посверкивают рубины-то – ровно сам Всеслав на них сверху смотрит, медленно поводит головой в кровавой короне. У Сычонка даже волоски на спине дыбом поднялись. И он побыстрее юркнул в шалаш, притулился на овчине, а с краю вскоре лег отец.
Полежали, покряхтели, устраиваясь…
И Зазыба Тумак мощно захрапел сквозь прореху в зубах-то.
– Завел былину! – воскликнул Страшко Ощера со своего краю.
– Ткни его там… – попросил отец Сычонка.
Мальчик и вправду сунул кулаком в храпящий бок. Да куда там. Зазыба Тумак храпел и храпел. Кто-то что-то еще говорил… Кашлял… А Сычонок уже разбегался и прыгал на уходящий плот… да и не плот это был, а лодка-однодеревка. И наладился он в ней плыть далеко-далёко. Да только оказался почему-то под холмом Вержавска. И там снова его мальчишки дразнили по-всякому, и среди всех особо старалась рыжая Светохна. Вот дура-то поганая.
4
Пробуждение было мучительным. Сычонок не мог пошевелить ни рукой ни ногой без боли. Все тело ныло. И было еще совсем рано, даже солнце не поднялось. А все плотогоны уже вышли из шалаша. Доносились их голоса, кашель. И соловьи снова пели на все лады. Всю ночь хоры не унимались. Не устали и под утро. Сычонка будил отец.
– Давай, давай, продирай глазы, ладейщик. Хватит дрыхнуть!
В этот миг Сычонок пожалел, что напросился в спутники к плотогонам. Зябко поеживаясь, кривясь, он выбирался из шалаша, вставал, почесываясь… Над Гобзой стлался туман. Только и виден был первый плот. Над туманом темно зеленели ели. Дым костра смешивался с туманом. Сычонок отошел, помочился и сразу шагнул к костру, вытянул руки навстречу жару.
– А ну брысь умываться, свиненок! – прикрикнул отец.
Пришлось спускаться к реке, да отец снова окликнул и велел зачерпнуть с краю кострища золы. Мальчик так и сделал. Зола была теплой. Он вернулся к реке, наклонился над водой, тер руки с золой, смывал все, потом плескал водой на лицо, морщась, как от пытки.
Смаргивая с ресниц капли воды, он снова прильнул к костру.
Зазыба Тумак ухмылялся, глядя на него. Черные вьющиеся длинные его волосы были мокры, здоровый глаз так и сверкал. Страшко Ощера тоже выглядел бодро. Чуб закинул назад. Поглаживал жидкую бороденку. На огне грелась в котле вчерашняя похлебка. Отец резал хлеб.
Страшко Ощера снял котел и поставил его подле костра.
Отец скороговоркой читал обычную молитву: «Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь…»
Страшко Ощера щурился, помешивая ложкой в котле.
– На, держи-ко, – сказал отец после молитвы, подавая сыну выструганную белую новенькую ложку.
Когда успел?
И все приступили к трапезе. Скоро поели. Шалаш бросили, плоты отвязали и двинулись в путь. На первом плоту теперь были отец с Сычонком, а на последнем Зазыба Тумак со Страшко Ощерой. Но только отплыли, плот забрал вправо и снова ткнулся в берег.
– Ты чего?! – воскликнул отец.
Сычонок насупился. Сил у него совсем не было править. Только и мог кое-как удерживать шест. Вчера умаялся. Он виновато оглянулся на батьку.
– Э-э-э, – протянул отец. – Не добле[16]! Ты ровно малое дитятко.
Сычонок чуть не плакал.
– Ты потихоньку… разойдешься, ну! – сказал отец убежденно.
И они снова отчалили. Превозмогая боль, Сычонок отталкивался шестом. Отец умело пособлял ему, и вскоре вереница плотов вытянулась по туманной Гобзе. Сычонок оглянулся, но последнего плота и не увидал.
Было холодно. Да в небе уже появлялись синие разрывы. О, скорее бы солнышко хлынуло. О, сюда, сюда, солнышко. Только солнце пока не спешило. Озарило лишь самые верхушки елок, и шишки на ветвях озолотились.
Вот найти бы в лесу ель с золотыми шишками! Построить ладью, нагрузить ее хлебом, салом, да и плыть в незнаемые края… за Смоленск, в те Немыкари, а оттуда и к этому Хорту. Дать ему две шишки, пусть наведет свои чары и вернет Спиридону речь. Как же надоело ему быть скотом безмолвным! Слово бы молвить, песнь спеть. Иногда Сычонку просто невмочь было, как много слов хотелось выпустить на волю. Они бились в нем, как тугие рыбины, роились, как пчелы или птицы, – целая стая свиристелей, а может, и соловьев, иволог, петушков, журавлей и лебедей.
Такое ему иногда и снилось: вдруг горло чешется, чешется – и что-то как будто щелкает, ломается, освобождается, с места сдвигается, и он начинает говорить, говорить, говорить. Говорит без умолку. Идет по Вержавску и говорит, говорит, и все вержавцы рты разевают от изумления, как ладно и сильно он говорит. А рыжая Светохна аж дрожит от страха, зубками клацает. Вот как он говорит.
И – очнется, миг соображает, шевелит языком… открывает рот… А слышно только какое-то сипение, словно давят петушка на дворе… И по щекам от досады и злости текут у него слезы. Сычонок и есть. Никогда не быть ему Спиридоном.
Плот движется в тумане. Кажется, впереди река обрывается куда-то в провал или просто заканчивается. Но плот идет, покачиваясь, и вода продолжается.
…И вот сильнее озолотились ели, и где-то закричали журавли. Они всегда поют восходящему солнцу. И провожают его вечером своими криками. И солнце начинает потихоньку оплывать с елей, как мед с ложки, течет по стволам, течет… И туман становится как масленая каша. И как будто кто овевает щеки Сычонка теплым дыханием. Он даже жмурится как кот. Туман все сильнее согревается. И начинает исчезать. Клубится, курится… А тепло уже и под рубаху идет, по рукам, к животу льнет, на коленки спускается. И все тело мальчика вдруг сотрясает дрожь. Так всегда уходит озноб. И делается ему тепло, хорошо. И мышцы уже не так ноют. Только ладони саднят. Но что ж, Сычонок – истый вержавец, умеет терпеть.
И уже нет тумана на Гобзе. А над Гобзой синеет небо, светит лучистое чистое весеннее солнце. И тут бы что-то сказать, выкрикнуть, запеть… Но Сычонок молчит. Плотнее губы сжимает.
Вода достаточно высока. И вереница плотов тянется по Гобзе, огибает мысы.
Навстречу плывет мохнатая голова, блестят усы, глаза. Сычонок замирает… Бобер тоже замирает, увидев движущуюся на него громаду, и в тот же миг скрывается в воде, оглушительно ударив хвостом.
Сын оглядывается на отца Ржеву.
– Пущай до зимы плавает шапка, – откликается Возгорь Ржева.
Они плывут дальше…
Внезапно раздается пронзительный свист, и в бревно посередине впивается что-то. Стрела! Дрожит оперение. Отец окидывает взором лесистый берег. Лес высится стеной.
– А ну не балуй-й! – кричит отец.
Сычонок напряженно озирается, втягивая невольно голову в плечи.
Лес молчит. Но отовсюду как будто сквозят глаза. Плот идет дальше, и ничего больше не происходит. Сычонку хочется получше рассмотреть стрелу, но он не смеет оставить свое место с краю, лишь поглядывает. Стрела крепкая, длинная, настоящая, с оперением.
Стрельбой из лука и ребята в Вержавске забавлялись. Сычонку не давали. Отгоняли прочь. У него и не было среди них друзей. Он сам смастерил лук, вырезал стрелы и на дворе пускал их в дряхлое бревно, представляя, что это литва, а то и варяг. Когда-то, сказывают старики, Вержавск платил дань варягам, поднимавшимся с Дюны по Каспле и по Гобзе на своих ладьях. Поначалу противился Вержавск и оборонялся, да не смог долго тягаться с теми отважными и страшными воинами. Но то время миновало. И Вержавляне Великие уплачивают дань только Смоленску – тьму гривен. Большая цена! Вот отец с Зазыбой Тумаком да Страшко Ощерой получат плату за дубовый-то лес и часть отдадут посаднику Улебу Прокопьевичу, вернувшись. Но им тоже достанется. За дубы щедро платят, ровно за пушнину или мед.
Так и шли весь день, пробавляясь лишь густым отваром из корня шиповника.
Вечером остановились у зеленого пологого левого берега, уходящего к молодому березняку, и Сычонок наконец смог с трудом выдрать стрелу из бревна и осмотреть ее. Потом на нее глядели и остальные. Зазыба Тумак сплюнул, вытер губы, глаз его хищно разгорелся. Он сказал, что надо было бы остановиться и выловить лучника, надрать ему холку, поломать лук, а тетивой привязать к орешине за уд. Отец махнул рукой и ответил, что то была забава. Может, молодец какой веселился на охоте.
От заходящего солнца березняк весь багровел. Отец велел Сычонку идти туда за дровами. Тот повиновался. Вошел в березняк и вспугнул орла. Это был крупный черно-бурый беркут с золотыми перьями на затылке: словно в короне. Он тяжко полетел сквозь березняк, не задевая деревьев. И Сычонку сразу вспомнился другой коронованный – князь-волк. Он не удержался и протяжно просвистел ему вослед. И беркут как будто оглянулся…
А дрова ломать было трудно. И Сычонок, намаявшись, вернулся с двумя деревцами на берег, бросил их и поискал топор.
– Чего тебе? – спросил отец.
Сычонок показал, что ему нужен топор для рубки. А топор и был как раз у отца, он тащил жерди для хижины.
– На, – сказал отец, протягивая топор.
Сын взял неловко и уронил.
Отец хмыкнул. Но остановил тут же сына.
– А ну постой, покажи ладони-то.
Сычонок повернул ладони вверх.
Отец присвистнул.
– Экие у тебя желви[17]!
На ладонях Сычонка пучились кровавые пузыри.
– Слышь-ко, Страшко Ощера! – воскликнул он. – Желви у сынка.
Тот оглянулся, убрал чуб со лба.
– Так ищет пусть ель.
– Да! – вспомнил и отец, озираясь.
Но еловый лес стоял далеко за березняком, темнел буро. А вот на другой стороне ели прямо к воде свешивали свои лапы.
– Вона, – сказал отец, указывая на тот берег. – Набери смолы и давай сюда.
Сычонок приблизился к воде, скинул порты, рубаху да и вошел в воду, поблескивая крестиком на груди, поплыл, пофыркивая, как собака. Вода была холодной. Но за день Сычонок так нагорячился, что с удовольствием окунулся. Течение, правда, повлекло его вниз. И снесло мальчика далеко в сторону.
– Зачем ты его послал? – спросил Зазыба Тумак.
– За смолой, у него желви.
– Река ишшо холодная.
– А ничего, – откликнулся отец.
А мальчику пришлось пробираться берегом, лезть сквозь кусты. И его атаковала орда комариная. Впивались в плечи, под лопатки, в шею, в руки. Он отчаянно хлестал себя ладонями. Но вот оказался у елей. Наскреб смолы. И не знал, что с нею делать. В кулаке зажать – плыть неудобно будет. Наконец додумался прилепить комок к крестику. А назад плыть уже не хотелось. Вода казалась еще холоднее. Хотя воздух над рекой за день так прогрелся, что был как парное молоко. Сычонок переминался у воды, дергал плечами, сгонял комаров… Но комары так одолели, что уж лучше в воду прыгнуть. И он бухнулся в реку и поплыл. Отец вязал шалаш и поглядывал на реку. Посреди Гобзы, тоже багровой от заката, круглилась голова пловца. В кустах уже били соловьи. Далеко перекликались кукушки. А скоро и журавли закурлыкали, провожая солнце.
Течение снова сносило мальчика. И он вылез на берег много ниже. Шатаясь, притащился к мужикам. Страшко Ощера уже развел огонь, взял смолу, прогрел ее у костра, велел Сычонку протянуть руки и намазал мозоли смолой, порвал тряпицу и замотал руки мальчику.
– Сиди теперя сиднем, – сказал он. – Сторожи, чтоб лучники-то не подкралися. Протозанщик!
И Сычонок устроился у костра, жмурился, чувствуя блаженное тепло. В реке он сильно озяб, еще немного, и судорогой свело бы ноги, да вдруг под собой почуял мель.
За дровами с топором ушел Зазыба Тумак. Из березняка доносились удары. Потом он показался с целым ворохом березок на плече.
Комары ярились как никогда. Отец велел было сыну травы бросить в костер для дыма, да спохватился и сам надрал. Но она быстро прогорела, дав облако дыма. Нужен был какой-нибудь трухлявый пень. Отец походил по берегу и выкопал из песка кусок бревна, положил в костер. Сразу повалил густой дым. Страшко Ощера, как обычно, колдовал над котлом.
– Футрина надвигается, – говорил он, поглядывая на небо.
Небо заволакивала багровая пелена. И отец с Зазыбой Тумаком еще и еще вплетали в шалаш березовых веток. Месяц в этот вечер лишь на мгновение появился над березняком и исчез. Задувал теплый сильный ветер. От костра далеко летели искры. Сычонок за ними следил.
И когда стемнело, вдалеке, где-то за лесами, пошли вспышки зарниц.
– Илия-пророк на колеснице скачет, – молвил отец.
– Или Перун идет со своею дружиною волчьей, – отозвался Страшко Ощера.
– А то и сам Всеслав Чародей, – добавил Зазыба Тумак, как обычно, шепелявя.
«То наш ковач[18] Воибор Власенятый в кузне огонь раздувает», – хотел сказать и Сычонок, да как скажешь? Остается только слушать. И он сидел и слушал, черпал новенькой ложкой густую жирную похлебку из котла, дул на нее, остужая, отправлял в рот. И мужики ели. И говорили про всякое. Что, мол, это чертова свадьба там скачет, пляшет, беснуется…
Поев, отец тихонько запел:
Ходит ИльяНа Василья,Носит пугуЖитяную;Де замахне —Жито росте…Зазыба Тумак засмеялся хрипло.
– Эва хватил, Возгорь! Василья[19] – он же вона егда ишшо будет, в самый холодный день!
– Илия и чичас как раз житу жизнь даёть, – отвечал отец и продолжал негромко напевать:
Жито, пшеницу,Всяку пашницу,У поле ядро,А в доме добро…– Такожде и я спею! – воскликнул Страшко Ощера и запел дурашливым писклявым голосом:
А разлюбезныя подруженьки,А не поритя мою белую грудю!..Что мое-то ретиво сердечекоВсе повыныло, повымерло,Без морозу-то оно повысохло,Без ржавчины оно заржавело!Разлучил меня молодешеньку,Со всем моим родом-племенем,И с вами, мои подруженьки,Разлюбезныя, расприятныя-а-а!И он повел ложкой в сторону одноглазого Зазыбы Тумака и Возгоря Ржевы. Все захохотали так, что где-то поблизости утки с испугу заполошились, закрякали, полетели.