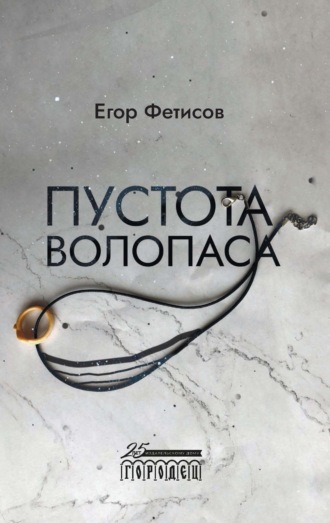
Полная версия
Пустота Волопаса
Почему она это сделала, ведь она не любила Игоря и даже все еще не до конца верила в его существование, а Мака любила, во всяком случае, ей так до сих пор казалось, у нее внутри все медленно и смутно вращалось, как будто кухонный комбайн замешивал тесто. Неужели дело было в физической привлекательности Игоря? Он был очень хорош собой, фигура спортсмена, карие глаза, прямой, с легкой горбинкой нос. Если бы ей сказали, что его вскормила медведица на горе Иде и воспитали пастухи, она бы не усомнилась в этом ни на секунду. При этом в нем было что-то робкое и детское, временами он казался ей мальчишкой из детских рассказов, которые она иллюстрировала. Он как будто пришел из далекого, но хорошо знакомого ей мира. И Варя попала в круговорот этой красоты и беззащитности, пытаясь выбраться на поверхность и снова, раз за разом, погружаясь в него с головой. Ей хотелось узнать, что с ним будет дальше, как ей всегда хотелось побыстрее дочитать очередную историю, которую присылали из издательства. И еще – она боялась себе в этом признаться – Игорь напоминал ей первого парня, в которого она когда-то была влюблена и который, к сожалению, был женат. У него была собака, люто ее ненавидевшая… Все так банально. Мак никогда не задавал ей вопрос, нравится ли он ей в том смысле… в общем, в ее ли он вкусе. Она бы с самого начала честно ответила, что нет. Столкнувшись с ним на улице, она никогда в жизни не обратила бы на него внимания. Не ее тип, что называется. Потом она убедила себя, что это неважно, настоящие отношения строятся на внутренних качествах, и все же это где-то сидело в ней, до поры до времени, как оказалось…
Варя оставила окно открытым, вернулась в кровать, набросила на лицо футболку, и постепенно сон стал опускаться на нее, как туман опускается ранним утром на перелески, и на поле, и на серп реки, поворачивающей и исчезающей за своим же поворотом, и сквозь сон она слышала, как кто-то ровно дышит рядом, склоненная ива или ее отражение, или сама река, и как птица продолжает менять кодовые слова, опять ставшие бессмысленными, но как опытный радист Варя уже расшифровала целых два слова – тень и теперь – а даже одно слово – это ужасно много, гораздо больше, чем кажется, слово – это целый мир, хуже того – это черная дыра, в которую погружается человек, подошедший к слову слишком близко. Прошедший точку невозврата. Так говорил ей Мак, и теперь прямо сквозь сон она почувствовала горечь от затянувшейся на столько месяцев лжи. Слово устроено так же, как любовь: сначала притягивает подошедшего чересчур близко, а потом отталкивает отошедшего слишком далеко. В обратном направлении это тоже точка невозврата. И даже если ты хочешь вернуться в эти черные дыры – иногда оказывается, что это уже невозможно, материя, из которой они созданы, отторгает тебя, и ты превращаешься в блуждающую звезду, звезду, не входящую в созвездия и потому никому не известную, кроме нескольких чокнутых астрономов, каждый из которых уже дал тебе – звезде – свое имя.
9
Тысячу лет мыПросыпаемся вместе,Даже если заснулиМы в разных местах…Варя не вернулась вечером, но написала эсэмэску, что у нее все в порядке. Антон бродил по ночной квартире, время от времени выходил на крошечный, полтора квадратных метра, балкон и смотрел, как бомжи роются в помойке. В голове крутились одни и те же строчки «Сплина», он поворачивал их так и эдак, убирал, добавлял и менял местами слова, пока не получилось подобие хокку, с одной лишней строкой в семь слогов, – подсознательно ориентируясь на классическую рифму а-б-б-а. Правда, сама рифма здесь отсутствовала, но рисунок сохранился. АББА. Была такая группа, ему всегда нравилась у них одна песня, «SOS», в последнем классе школы он практически выучил ее наизусть. Where are those happy days, they seem so hard to find… Где эти счастливые дни. Правда, где они. Еще один йестердэй, «Маккартни», разгуливающий по квартире и напевающий, за отсутствием слов, дабы не упустить ускользающую мелодию: яичница, как я люблю яичницу, боже, как я люблю яичницу, просто обожаю ее, не могу без нее жить.
– Я люблю яичницу!!! – заорал Македонов с балкона что было мочи.
Бомжи перестали рыться в помойке и подняли головы.
– Во проняло человека… – сказал один из них.
– Наглотался дряни, – вяло отозвался второй. – Уж на что мы, и то… А этот…
«Это кошмарный сон, – подумал Македонов, закрывая балконную дверь, – но проснуться мы обязаны вместе».
И он снова бессмысленно ходил из комнаты на кухню, варил кофе, потом выливал его, остывший, в раковину, варил новый, боролся со временем, которое провело удушающий захват и теперь дожимало скулящего, ничего не понимающего Македонова, который, задыхаясь от собственной беспомощности, дрыгал ногами, и они несли его по квартире, судорожными шагами, то быстрее, то медленнее, он метался как плюшевый медведь по настоящей клетке и ждал одного – приближения утра.
10
С треском лопнул кувшин:Ночью вода в нем замерзла,Я пробудился вдруг.Македонов иногда задумывался над тем, как, почему и в какой момент человек меняется. В литературе, понятно, он меняется по законам жанра. Какой жанр, такие и изменения. Если комедия, может, и вовсе никаких, так, легкий намек на улучшение, в принципе необязательное. В драме, там все сложнее, там нужна эволюция героя. Вот у них с Варей ведь драма же, думал Македонов. Не комедия же. Даже, может статься, трагедия. Теперь, когда она, вернувшись утром от Игоря, рассказала Македонову все, наступил кульминационный момент. В высшей точке нельзя зависать слишком надолго. Жизнь движется по синусоиде. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Поэтому детям так нравится качаться на качелях. Это так напоминает жизнь, все как у взрослых. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз.
И вместе с тем он не чувствовал никакой внутренней эволюции. Наоборот, ему казалось, что он не менялся лет с пяти. С этих самых качелей. Может, и с двух, трудно сказать: то, что было до пятилетнего возраста, он помнил слишком смутно. Помнил, конечно, кое-что из страхов: как убегал по вьющейся тропинке, ведущей через яблоневый сад к колодцу, от соседского петуха. Собаку, рвавшуюся на цепи, к которой ему запретили подходить близко, сгнивший почти полностью мост через реку, на который кто-то из мальчишек постарше взял его как-то на рыбалку, ловить уклею прямо с моста, и было страшно переступать по шатавшимся, провалившимся во многих местах доскам, потому что далеко внизу, как ему казалось, бушевал поток, и мост был ненадежен, и ненадежен взявший его с собой мальчик, лица которого он теперь уже не помнит, и это ощущение зыбкости между бездной и небом запомнилось Антону и потом снилось много лет, да и теперь еще осколки того моста, рухнувшего в реку на следующий год, иногда всплывали в потоке сменяющих друг друга снов, и Македонов летел вместе с обломками в воду, кричал от ужаса и просыпался.
Даже здесь ничего не изменилось. И изменилось ли что-то вообще? Или он просто запомнил много слов, слов о словах, слов о словах о словах? А сам остался прежним, и вечность гнала его между яблонями вниз, к колодцу, и он улепетывал со всех ног, боясь и не успевая обернуться, но, как только погоня заканчивалась, что-то подталкивало его к тому, чтобы вернуться и поглядеть, хотя бы одним глазком, что она там делает, эта вечность. Зачем ему это, он и сам не знал, знал только про точку невозврата, но он же не дурачок, ему уже за тридцать, он понимал все или почти все про длину цепи, на которой рвалась собака его воспоминаний.
Главное, что, пока он бродил по этому миру своей памяти, ему можно было не думать о том, как быть здесь и сейчас, чем заглушить эту тонкую, как комариный писк, тоску, куда девать червячка ревности, в какой коробок его запереть и что с ним делать потом. Можно, конечно, так и носить его в коробке всю жизнь. Во внутреннем кармане. Застегнуть на молнию и забыть о его существовании. «Пусть Варя сама решает, как поступить», – думал Македонов. Он был не в состоянии действовать, потом закрыл глаза на секунду и тут же увидел себя, бегущего, изо всех сил переставляя ноги, и не продвигающегося ни на метр.
Он бежал и задыхался, и задыхался все громче, сиплый шум переходил в крик, Македонов зажал руками уши и ждал, пока приступ пройдет. Через какое-то время, полминуты, минуту, раздался громкий хлопок, и бегущая фигура исчезла вместе со всеми издаваемыми ею звуками. Македонов вытер выступивший на лбу пот. «Что это было?» – с ужасом подумал он. Ему было понятно, что это была галлюцинация, но такая ясность не радовала. Бессонная ночь, беспокойство за Варю, многочасовое кружение в замкнутом пространстве что-то нарушили в нем.
Он хотел рассказать о случившемся Варе, но она уже крепко спала, шевеля губами и произнося слова, разобрать которые было невозможно. Он сел рядом с кроватью, всматриваясь в ее лицо, и вдруг понял, что впервые смотрит на нее так внимательно, отмечая родинки, шрамики, морщинки, темные полукружия под глазами. Нижняя губа Вари припухла, и это было в ней особенно чужим, но в то же время притягательным. Македонов знал, где она была, знал с кем.
Не знал он одного: кто она, эта скуластая девушка-девочка, с которой он вместе качается на качелях. Теперь, когда Македонов оказался в самом низу, когда лист упал на землю, и, казалось, ему уже не подняться в воздух, Варя, напротив, взмыла на противоположной стороне доски в небо, и Македонов видел, как она счастливо улыбается, поднимаясь все выше и выше…
12
В конце весны зарядили дожди, сменив почти летнее пекло, установившееся в начале мая на несколько дней, хотя в разгар этой жары казалось уже, что она – навсегда, но холод с залива вернул себе свои права, север должен оставаться севером, в этом есть своя логика, потому что иначе нарушится система координат, смысл пребывания в тепле и в холоде, смена одного другим, цикл умирания и возрождения, цветы мать-и-мачехи весной и желуди осенью, зарывшиеся в прелую охру дубовых листьев, одуванчики, возвещающие окончательную победу над снегом, почки вербы, долго стоящие в банке из-под огурцов на кухне, из которых, как из пасхального яйца, вылупляется настоящее чудо – зеленый листок, еще совсем мягкий, свернутый в миниатюрный рулончик, как персидский ковер в восточной лавке, – но в нем уже шелест ручьев, щебет синиц, запах прошлогодней травы, перегнившей под снегом. Даже запах собачьих какашек, замороженных до весны и теперь оттаивавших в огромном количестве, наполняя двор запахом сортира, свидетельствовавшим при этом о предстоящих нескольких месяцах тепла.
Дождь барабанил в окно уверенно, как милиция в дверь, с осознанием собственного права, и Антон с Варей больше недели не появлялись на балконе, куда уже вынесли было раскладной столик. Они даже успели пару раз позавтракать на балконе, хотя он был крошечным, и чтобы открыть и закрыть дверь, нужно было держать один из стульев в воздухе над перилами, и Антон все думал, а что если этот стул производства ИКЕА упадет вниз, с высоты третьего этажа, и размозжит кому-нибудь голову. Македонов ясно представлял себе, как он летит вниз, этот стул. Он даже испытывал странное искушение разжать пальцы и потом проверить – что-то сродни лотерее: что выпадет, какое число, даже можно сказать, какая судьба. Видимо, это в крови у русского человека – непременно испытать судьбу, повыводить ее из себя, позлить, потроллить, часто просто из скуки, а потом удивляться – за что? Откуда такие последствия? Откуда эта медлительность в душе и в ногах? Откуда нефарт и обломовская неспособность его перебороть? Ответ: оттуда.
Через неделю дождь прекратился, но когда Антон попытался выйти на балкон выпить кофе и заодно глянуть, не требуется ли экстренная просушка стульям или столу, он внезапно увидел под одним из стульев аккуратно свитое гнездо и в нем голубя, точнее, как это будет в женском роде – голубиху, нет, черт, неужели голубку? Ему всегда казалось, что это вымышленное слово, голубка моя, сосредоточие сентиментальности, пафоса и женских любовных романов. Голубка сидела на яйцах, два из которых было видно, а сколько их еще там пряталось под ней, сказать было затруднительно. Антон застыл на пороге балкона с чашкой в руке, потом неуверенно попятился, боясь помешать женщине, пусть и птичьего рода, заниматься столь интимным делом. Он даже был уже готов произнести: «Пардон!» – но в последнюю секунду опомнился и, споткнувшись о порог и выплеснув часть содержимого чашки на футболку, осторожно притворил за собой дверь.
«Теперь у нас будет сначала роддом, а потом ясли и детский сад», – подумал Македонов. Все три заведения ассоциировались у него с шумом и хаосом.
Варе он пока решил ничего не говорить. Ему нужно было время – понять, как он сам относится к случившемуся, потому что ничто не происходит просто так, особенно с птицами, в этом Македонов был совершенно убежден. Достаточно почитать про голубя на Ноевом ковчеге или гусей, спасших Рим. У птиц всегда все вовремя и для чего-то, все кстати и к месту. Они не так долго живут, чтобы разбрасываться на просто так. Македонов подошел к компьютеру и погуглил, сколько живут голуби. Получалось, что сизый голубь жил в среднем шесть лет. «Интересно, а не сизый?» – подумал Антон. Он открыл статью про дикого голубя – вяхиря. У того было смешное латинское название Columbus Palumbus Linnaeus, и захочешь забыть, не получится, «Колумб на палубе», с одной лишней буквой «м». На палумбе. Все равно легко запомнить. Ну Линней – понятно, он записал всех в книжечку под своим именем. Отчеством даже, если быть более точным. Если сайт не врал, а этого никогда нельзя было исключать, то вяхири жили в среднем шестнадцать лет, то есть почти втрое дольше. «Питаются, что ли, правильнее», – решил Македонов и выяснил, что они едят семена ели и сосны, плоды бузины, а в остальном мало чем отличаются от человека, ведущего здоровый образ жизни: пшеница, рожь, ячмень и овес. Правда, еще мышиный горошек и сурепка. Заодно Македонов выяснил, что вяхири говорят «гхуу-гхуу-хуу-ху-ху». Но потом вспомнил, что у него на балконе вообще-то не вяхирь, а сизая голубка, и закрыл сайт.
Для него это был своего рода знак: свитое гнездо означало, конечно же, семейное гнездо, детей, топот ножек по комнатам, детские пюре и подгузники и что там еще бывает, когда решаешься продлить себя во вселенной таким нехитрым биологическим способом. Он не хотел спугнуть это ощущение. Варя ничего еще не решила, и он ничего не решил. Ее постоянные отлучки из дома, вечера, проводимые у заказчиков, можно было сказать, что они попали в турбулентную зону, но они пока не рухнули, непонятно по какой причине, и как знать, может, не рухнут или рухнут на необитаемый остров, где нет людей. Может, там бы они чаще говорили друг с другом. О том, как течет жизнь.
Македонов представил себе, как они сидят на берегу этого потрясающего воображение потока и молчат, тогда как можно попытаться преодолеть его, перебраться на тот берег, быть может, там в тысячи раз лучше, многие поступают именно так, строят карьерный плот, спускают его на воду и гребут, гребут отчаянно, из последних сил гребут поперек течения. Их сносит, но не так уж и далеко, лет на тридцать-сорок, оттуда еще видно места, где они были молодыми, правда, уже не докричаться, но видно, хотя, может быть, было бы лучше, если бы молодость исчезла за поворотом или потонула в тумане. Другой вариант – сигануть ласточкой в этот поток и отдаться на волю волн и течения. Так делают немногие, но все же делают, про это написаны книги, например «На дороге» Керуака, и даже сняты отдельные фильмы, например «На дороге» по мотивам романа все того же Керуака. А можно продолжать сидеть, свесив ноги над невысоким обрывом, веря в то, что берега одинаковы, а течение губительно, по крайней мере, для физического, если не для психического, здоровья. Антон и Варя сидят и смотрят на воду великой реки.
Он сделал пост в фейсбуке, чтобы выбрать имя голубке. Предлагались варианты Дуся и еще Матильда, потому что она все-таки мать, пусть еще и не до конца, что в человеческих реалиях звучит, конечно, странно: как можно быть матерью не до конца? Родить, но еще не… Не что? Не вылупить? Антон подумал, что было бы забавно, если бы люди рождались в яйцах и их выдавали в роддоме домой, где из них уже вылуплялись бы малыши. В этом было бы больше эстетики, взгляда со стороны, больше религиозной пасхальности, граничащей с китчем Фаберже, но и с его великим искусством.
Он выбрал-таки вариант «Дуся», несмотря на то, что противники этого имени считали его чересчур фамильярным. Но Дуся – это же Евдокия, в переводе с греческого «благоволение». Разве можно не назвать таинственный знак благоволением свыше? И потом, Дуся – почти Дульсинея. Романтический штамп и почти потухшая звезда, свет которой непредсказуемо путеводен.
Этим же вечером Дуся улетела за кормом, и он какое-то время любовался через залитое дождем стекло балконного окна на три белых яйца. Их будет трое: он, Варя и кто-то третий. Антон искренне надеялся, что провидение не имеет в виду любовный треугольник. Интересно, где Дусин муж. Почему не приносит еду, не навещает ее? Экая самовлюбленная скотина этот голубь. Самец. Мачо. Антон почувствовал к нему неприязнь, словно тот предал его когда-то давно, в молодости, и с момента этого предательства жизнь изменилась и потекла не совсем туда, куда бы хотелось.
Варя пришла в ужас, узнав о новых соседях, разместившихся на балконе. Во-первых, у них не коммуналка, во‐вторых, она хотела бы иногда пользоваться балконом, не думая о том, что кого-то потревожит или на кого-то не дай бог наступит, и, в‐третьих и главных, птицы – переносчики всякой заразы, странно, что Антон этого не знает, пусть сходит и погуглит, что такое, например, орнитоз и с чем его едят, это тебе не насморк какой-нибудь, от него потом за три дня не избавишься.
Македонов сказал, что уже погуглил и рассказал про «Колумба на палубе» и про «гху-гху-хуу-ху-ху». Но Варя была неумолима.
Тогда он погуглил орнитоз тоже. Выяснилось, что орнитоз безжалостно поражал центральную нервную систему, легкие, печень и селезенку. В общем, в организме мало оставалось здоровых и неповрежденных органов после встречи с орнитозом. Еще Македонов выучил новое красивое слово: зооантропоноз. Он любил красивые слова, перекатывал их под языком, так чтобы мельчайшие оттенки звука впитывались в кровь и уже оттуда попадали в мозг. Зооантрапонозом назывались заболевания, общие для животных и человека. Скажем, бешенство, стригущий лишай и прочие хламидии, лямблии и сальмонеллы.
13
Падающий цветокВернулся вдруг на ветку.Оказалось: бабочка!Это была простая история, простая и понятная, только Македонову не хотелось ее записывать в прозе, потому что падающим цветком была их любовь, и он верил, что этот цветок еще успеет превратиться в бабочку, прежде чем долетит до земли и смешается с облетевшими лепестками и листьями, ведь не всем уготовано превращение, иначе Моритакэ использовал бы множественное число. Падающие цветы. Но бабочек не так много. Цветков гораздо больше, чем бабочек, поэтому превращение доступно… нет, даровано – лишь немногим. А то, что тебе даровано, нельзя записать, это можно лишь прожить. Главное, почувствовать нижнюю точку, точку падения качелей, перед тем как они снова взлетят вверх. Точку превращения цветка в бабочку, то мгновение, когда время останавливается, потому что падение уже прекратилось, а взлет еще не начался. Это состояние пустоты, наверное, главное состояние во вселенной. Между краткосрочной жизнью и не менее краткосрочной смертью. Это не так легко записать словами, сделать из этого короткий текст, описать цветок, который, подобно стулу с балкона, летит вниз, потому что нужно сперва понять, откуда мы на него смотрим: снизу или сверху. Если снизу, то он летит к нам, и превращение его в бабочку отнимет его у нас в конечном счете, а если сверху, то все наоборот, мы обретем его снова, просто уже в другом обличье. Македонов закрыл глаза и понял, что он смотрит на цветок сверху, хотя образ листа был ему понятнее, лист, превращающийся в бабочку, и даже на дерево, и на весь город, и на залив он смотрит сверху, ведь он уже умирал один раз, хотя и не помнил этого: человек не помнит момента своей смерти и продолжает жить так же, как звезда продолжает гореть после того, как она давным-давно взорвалась, она продолжает жить вспышкой-отражением, и Македонов был, конечно, такой звездой – и смотрел на происходящее сверху, а не снизу, поэтому ему казалось, что все возвращается к нему, и, может быть, так оно и было на самом деле.
14
Слово «сальмонелла» заставило Македонова вспомнить далекий год, когда он, еще будучи школьником, проводил лето с отцом в экспедиции. Летние каникулы три месяца – никаких пионерлагерей не напасешься, поэтому многие ботаники брали детей с собой. Совсем маленьких, конечно, оставляли в городе с бабушками или отправляли куда-нибудь к родственникам, если было куда. А ребят постарше приучали к лесу, комарам, дыму костра и тушенке. Много лет прошло с того дня, но Антон до мелочей помнил тот солнечный июльский день, когда их с Митей отправили за черникой в сосновый бор километрах в пяти от экспедиционного лагеря.
При слове лагерь обычно приходят на ум всякие палатки и чуть ли не еловые лапы, набросанные на голую холодную землю, но на самом деле ботаники (а старший Македонов, Анатолий Давыдович, был ботаником и работал в одном из питерских НИИ, которое на тот момент еще не успело загнуться) сняли в деревне у старушки дом, и она на вырученные деньги с удовольствием уехала на два месяца в город навестить дочку. Так что, хотя официально это называлось выездом «в поле», условия были вполне сносные: плитка, умывальник, даже печь, которую они не топили, потому что и без того стояла жара и прогревать дом было излишней мерой, а готовить было некогда и нечего, шел девяносто пятый год, и вместо кофе заваривали цикорий, а в суп для витаминов добавляли корень девясила, похожего на желтые ромашки, хотя на самом деле его скорее можно было назвать астрой, разумеется, сам девясил, а не его корень, который кидали в суп, и в обязанности детей входило, в том числе, эти корни выкапывать, промывать водой и сушить на солнце.
Антон, которому в то лето исполнилось одиннадцать, ненавидел этот корешок за горький привкус, и без него в тарелке плавало достаточно много овощей, которые он не любил: вареный лук, морковка, сельдерей. Поэтому поход за черникой обрадовал обоих, Митя тоже рассчитывал полакомиться ягодами, а если повезет, то и захватить островок недавно пошедших лисичек. Жареные грибы взамен макарон с тушенкой – перспектива была радужная. Правда, уже третью неделю стояла жара, и грибы, если и попадались, были червивые от ножки до кончика шляпки, но лисички – гриб, не поддающийся червякам, да и росли они кучно, поэтому шанс набрать их какое-то количество, хотя бы для аромата, оставался.
Единственное, что приспускало настроение, как вечерний флаг, была жара, густой бульон которой изобиловал комарами и слепнями, отбиться от которых можно было только на открытом пространстве, у озера, в лугах, на шоссе. В лесу шансы становились мизерными, тем более в низинах, где черника не выгорела и не посохла, поэтому, несмотря на палящее солнце, Антон с Митей надели школьную форму, настолько плотную, что насекомые ее не прокусывали, и армейские пилотки, у которых опускались «уши», закрывая виски, щеки и даже шею с боков. Обливаясь потом, они взяли пластмассовые ведра и отправились на промысел. Воздух гудел и вибрировал, он превратился в густой и пряный настой на большом количестве цветущих растений и в первую очередь вереске. Запахи проникали в мозг, вызывая легкие галлюцинации, голова понемногу наливалась свинцовой тяжестью.
Перед выходом незатейливо позавтракали: выпили, посолив, по два сырых яйца, зажевав кисловатыми ржаными горбушками. Ягоды было много, набрали литров по восемь, кажется, Антон уже не помнил таких подробностей, помнил, что грибов не нашли, только червивые насквозь сыроежки и поганки выдержали в итоге эту многонедельную сушь, да и тем приходилось несладко. Лисички отсиживались где-то подо мхом, недоступные глазу, и мечты о жарехе пришлось отложить на потом.
Вдруг в отдалении что-то загрохотало, и Митя поднял голову от очередного куста, с которого он аккуратно собирал ягоды в кружку, а потом пересыпал в банку: так было психологически проще, достигался промежуточный результат, ведь можно было набрать целую кружку, потом две, три и так далее; Антон же думал о своем и механически бросал ягоды прямо в ведро, не задумываясь о том, сколько литров уже удалось набрать. «Может, поезд?» – неуверенно предположил Антон, хотя они оба знали, что железная дорога в тридцати километрах и шум поездов отсюда не слышен.
Это было громыхание надвигавшейся грозы. Долгожданный дождь, которого не было уже почти месяц. Антон поднял голову и посмотрел вверх: между качавшимися макушками сосен, глухо постукивавшими друг о друга, виднелось совершенно джинсового цвета небо, с легкими прожилками даже не облаков – облачной паутины, которую словно оторвало где-то под крышей сарая и теперь несло в неизвестном направлении по воле ветра. Ветра… Антон сначала не обратил на него внимания, но теперь понял, что это тот самый ветер, который биологи называли ветром «из-под грозы», его ни с чем нельзя было спутать, непогода шла с запада, все еще невидимая за деревьями, но уже предупреждавшая о своем приближении отдаленным гулом и грохотанием.





