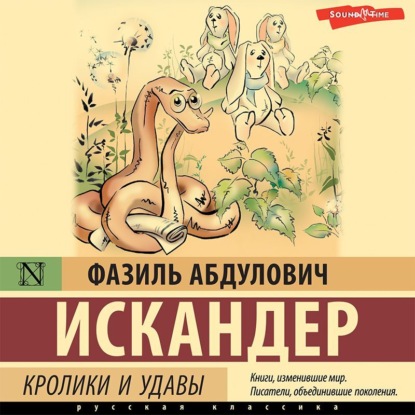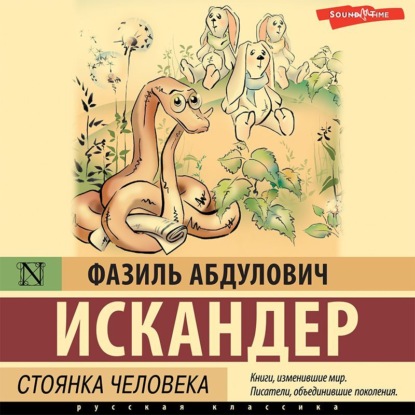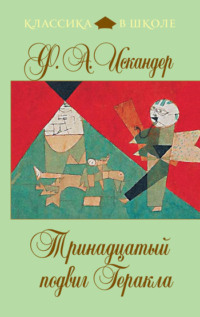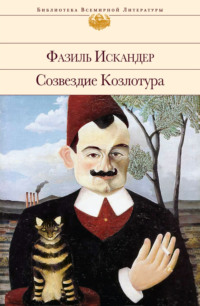Полная версия
Кролики и удавы
Идти предстояло через лес по гребню горы, потом надо было спуститься вниз на дорогу, по которой свозили бревна, и дальше по ней до самого села.
Как только я вошел в лес, сразу стало прохладно, как будто вошел в воду, и летний день остался позади.
Я вдыхал чистую, сырую прохладу леса, слышал чем-то волнующий шелест зеленых вершин и быстро шел по тропе. Чем глубже я входил в лес, тем упорней и бодрей постукивала моя палка по твердой, упруго проплетенной корнями земле.
Краем глаза я замечал красоту мощных темно-серебристых стволов бука, неожиданно милых полянок с яркой пушистой травой, уютных подножий кряжистых каштанов, заваленных каленой прошлогодней листвой. Хотелось полежать на этой листве, положив голову на мощные, покрытые мхом корни. Иногда в просветах деревьев открывалась дымчато-зеленая долина с морем, стоящим между землей и небом, как мираж. Вечерело.
Неожиданно из-за поворота появились две девочки, испуганные и обрадованные нашей встречей. Я их знал, они были из нашего села, но теперь казались странными, чем-то не похожими на себя. Разговаривали, опустив головы, тихими, почти виноватыми голосами. В них появилось что-то чуткое, лесное, застенчивое. Одна из них держала свои башмаки в кошелке и теперь стояла, длинной голой ногой смущенно почесывая другую. Я догадался, что она старается спрятать хоть одну босую ногу.
Постепенно мне передалось их смущение, я не знал, что говорить, и охотно распрощался с ними. Они тоже попрощались и тихо, даже как-то вкрадчиво пошли дальше.
Вскоре я увидел перед собой между потемневшими деревьями красновато-желтую проселочную дорогу, издали похожую на горный поток; я обрадовался, что смогу идти по ровному месту, и стал быстро спускаться, едва-едва притормаживая палкой, чтобы не сорваться в заросли сумрачного рододендрона.
Я почти выкатился на дорогу. Ноги мои дрожали от перенапряжения, я весь вспотел, но возбуждение усиливалось от запаха бензина и теплой, усталой за день пыли. Знакомый с детства, волнующий городской запах. Видно, я здорово соскучился по городу, по дому, и, хотя отсюда до нашего дома было еще дальше, чем от горной деревушки, проселочная дорога казалась дорогой к нему.
Я шел, стараясь в сумерках разглядеть под ногами следы автомобильных шин, и радовался, заметив особенно отчетливый рубчатый узор. Чем дальше я шел, тем светлее становилась дорога, потому что огромная рыжая луна вылезала над зубчатой полоской леса.
Ночью в горах мы часто смотрели на луну. Мне говорили, что на ней виден пастух со стадом белых коз, но я так и не мог разглядеть пастуха с его стадом. Видно, надо было с раннего детства видеть этого пастуха. Глядя на холодный диск луны, я видел очертания скалистых гор, и мне делалось грустно, может быть, оттого, что они были так страшно далеки от нас и так похожи на наши горы.
Сейчас луна напоминала большой закопченный круг горного сыра. С каким удовольствием я погрыз бы его острый, пропахший дымом ломоть, да еще с горячей мамалыгой!
Я ускорил шаги. По обе стороны дороги шел мелкий лесок, ольховая поросль, иногда расчищенная под кукурузное поле или табачную плантацию. Было очень тихо, только стук моей палки оживлял тишину. Стали появляться крестьянские дома с чистенькими игрушечными двориками, с жарким светом очажного костра, уютно трепыхающегося из приоткрытых кухонных дверей.
Я жадно прислушался к смутным, а иногда вдруг отчетливым голосам, доносившимся оттуда.
– Выгони собаку, – услышал я чей-то мужской голос.
Дверь кухни распахнулась, и сразу же в мою сторону залаяла собака. Я ускорил шаги и, оглянувшись, заметил в красном квадрате распахнутой двери темную фигуру девушки. Она неподвижно стояла, вглядываясь в темноту.
Боясь собак, я теперь старался бесшумно проходить мимо домов.
Наконец открылась широкая поляна с большим ореховым деревом посередине, со скамейками вокруг ствола.
Днем здесь обычно бывало шумно, народ толпился у правления колхоза, магазина, амбаров. Сейчас все выглядело нежилым, заброшенным и в свете луны страшноватым.
Я помнил, что недалеко от сельсовета надо было свернуть с дороги на тропинку влево. Но тропинок оказалось несколько, и я никак не мог припомнить, какая из них приведет меня к цели.
Я остановился перед одной из таких тропок, уходящих в заросли дикого орешника, не решаясь свернуть на нее. Та ли? Вроде орешника тогда не было. А может быть, был? Минутами мне казалось, что я вспоминаю тропу по множеству мелких признаков: по извиву ее, по канавке, отделяющей ее от улицы, по кустам орешника. А потом вдруг казалось, что и канавка не та, и орешник не тот, и тропа совсем незнакомая и враждебная.
Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, слушая верещанье цикад, глядя на завороженно-неподвижные кусты, на луну – уже высокую, бледную, почти слепящую, как зеркало.
Неожиданно на тропу выкатилось что-то черное, поблескивающее и побежало в мою сторону. Не успел я шевельнуться, как большая сильная собака бесцеремонно обнюхала меня, тыкаясь мне в ноги мокрым сопящим носом. Через мгновение на тропу вышел человек с легким топориком на плече. Он отогнал собаку. Теперь я понял, почему она так спешила обнюхать меня: боялась, не успеет. Собака отскочила, покружилась, повизгивая от желания угодить хозяину, потом замерла у кустов, внюхиваясь в какой-то след.
Человек, подпоясанный уздечкой, видно, искал лошадь, подошел ко мне, вглядываясь и удивляясь, что не узнает меня.
– Чей ты, что здесь делаешь? – спросил он сердито оттого, что не узнал. Я сказал, что ищу дом дяди Мексута, мужа маминой сестры.
– Зачем он тебе? – спросил он, теперь восторженно удивляясь.
Я понял, что крестьянское любопытство непобедимо, и выложил все.
Пока я рассказывал ему, что и как, косясь на собаку и стараясь не упускать ее из виду, он качал головой, прицокивал языком и поглядывал на меня, как бы жалея, что мне приходится заниматься такими недетскими делами.
– А Мексут живет совсем рядом, – сказал он, указывая топориком в сторону тропы, куда я собирался идти.
Он стал объяснять дорогу, то и дело обрывая самого себя, чтобы лишний раз удивиться, порадоваться, до чего он, этот Мексут, близко живет и до чего просто к нему пройти. Благодарный за встречу и за то, что Мексут так близко живет, я не стал ни о чем переспрашивать. Человек позвал собаку. Я услышал в тишине ее приближающееся дыхание. Мощное тело выметнулось из-за кустов. Она подбежала к хозяину, присела, шлепая хвостом по траве, мимоходом вспомнив обо мне, еще раз быстренько обнюхала: так проверяют документ, когда уверены, что он в порядке.
– Совсем близко, отсюда докричать можно, – сказал он уже на ходу, как бы думая вслух и радуясь, что мне так здорово повезло.
Собака рванулась вперед, шаги человека стихли, и я остался один.
Я пошел по тропе, густо обросшей диким орехом и кустами ежевики. Порой кусты смыкались над тропой, я отодвигал их палкой и быстро проходил под ними. Все же мокрые ветки иногда нахлестывали сзади, и я вздрагивал от возбуждающего холода росы. Так я шел некоторое время, потом кусты раздвинулись, стало гораздо светлее. Я вышел на открытое место и увидел белое кладбище, озаренное белой луной.
Холодея от страха, я вспомнил, что когда-то проходил мимо него, но тогда это было днем и оно не произвело на меня никакого впечатления. Вспомнил, что сбил тогда с яблони несколько яблок. Я нашел глазами дерево, и, хотя оно сейчас казалось совсем другим, я старался вернуть себе то состояние беззаботности, когда сбивал с него яблоки. Но это не помогло. Дерево неподвижно стояло в свете луны с темно-синей листвой и бледно-голубыми яблоками. Я тихо прошел под ним.
Кладбище напоминало карликовый городок, с железными оградами, зелеными холмиками могил, игрушечными дверцами, скамеечками, деревянными и железными крышами. Казалось, люди, после смерти сильно уменьшившись и поэтому став злее и опаснее, продолжают жить тихой, недоброй жизнью.
Возле нескольких могил стояли табуретки с вином и закуской, на одной даже горела свеча, прикрытая стеклянной банкой с выбитым днищем. Я знал, что это такой обычай – приносить на могилу еду и питье, но все равно сделалось еще страшнее.
Пели сверчки, свет луны белил и без того белые надгробья, и от этого черные тени казались еще черней и лежали на земле, как тяжелые, неподвижные глыбы.
Я старался как можно тише пройти мимо могил, но палка моя глухо и страшно стучала о землю. Я ее взял под мышку, стало совсем тихо и еще страшней. Вдруг я заметил крышку гроба, прислоненную к могильной ограде рядом с еще не огороженной свежей могилой.
Я почувствовал, как по спине подымается к затылку тонкая струйка ледяного холода, как эта струйка подошла к голове и, больно сжав на затылке кожу, приподняла волосы. Я продолжал идти, все время глядя на эту крышку, красновато поблескивающую в лунном свете. Я тогда еще не знал, что по мусульманскому обычаю покойника хоронят без крышки, видимо, чтобы облегчить ему воскресение. Гроб накрывают досками наподобие крыши.
Я был уверен, что покойник вышел из своей могилы, прислонил крышку гроба к ограде и теперь ходит где-нибудь поблизости или, может быть, притаился за крышкой и ждет, чтобы я отвернулся и побежал.
Поэтому я шел, не шевелясь и не убыстряя шагов, чувствуя, что главное – не сводить глаз с крышки гроба. Под ногами зашумела трава, я понял, что сошел с тропы, но продолжал идти, не выпуская из виду крышку. Вдруг я ощутил, что проваливаюсь в какую-то яму.
Я успел увидеть полоснувшую небо луну и шлепнулся на что-то шерстистое, белое, рванувшееся из-под меня в сторону. Я упал на землю и лежал с закрытыми глазами, дожидаясь своей участи. Я чувствовал, что он или, вернее, оно где-то рядом и теперь я полностью в его власти. В голове мелькали картины из рассказов охотников и пастухов о таинственных встречах в лесу, о случаях на кладбищах.
Оно медлило и медлило, страх сделался невыносимым, и я, собрав силы, распахнул глаза, как будто включил свет.
Сначала я никого не увидел, а потом в темноте заметил что-то белеющее, качающееся. Я чувствовал, что оно внимательно следит за мной. Особенно страшно было, что оно качалось.
Не знаю, сколько времени прошло. Я стал различать запах свежевскопанной нагретой за день земли и какой-то очень знакомый, обнадеживающий, почти домашний запах. Оно, все еще покачиваясь, белело в углу. Но ужас, длящийся без конца, перестает быть ужасом. Я почувствовал боль в ноге. Падая, я ее сильно подвернул, и теперь мне очень хотелось ее вытянуть.
Я долго вглядывался в него. Расплывающееся белое пятно принимало знакомые очертания, в какое-то мгновение я понял, что призрак превратился в козла, и разглядел в темноте бородку и рога. Я давно знал, что дьявол принимает вид козла, и немного успокоился, потому что это было ясно. Я только не знал, что он при этом может пахнуть козлом.
Я осторожно вытянул ногу и заметил, что оно насторожилось, вернее, перестало жевать жвачку и только продолжало странно покачиваться.
Я замер, и оно снова зажевало губами. Я поднял голову и увидел край ямы, озаренный лунным светом, прозрачную полосу неба со светлой звездочкой посредине. Наверху прошелестело дерево, было странно снизу чувствовать, что там потянул ветерок. Я посмотрел на звездочку, и мне показалось, что и она покачнулась от ветра. Что-то глухо стукнуло: с яблони слетело яблоко. Я вздрогнул и почувствовал, что становится прохладно.
Мальчишеский инстинкт подсказывал, что бездействие не может быть признаком силы, и, так как оно продолжало жевать, бесплотно глядя сквозь меня, я решил попробовать выбраться.
Я осторожно встал и, вытянув руку, убедился, что, даже подпрыгнув, не смог бы достать руками до края. Палка моя осталась наверху, да и она вряд ли могла помочь.
Яма была довольно узкая, и я попробовал, упираясь руками и ногами в противоположные стенки, вскарабкаться наверх. Кряхтя от напряжения, я немного поднялся, но одна нога, та, которая подвернулась, соскользнула со стенки, и я шлепнулся снова.
Когда я упал, оно испуганно вскочило на ноги и шарахнулось в сторону. Это было самое неосторожное с его стороны. Я осмелел и подошел к нему. Оно молча забилось в угол. Я осторожно протянул ладонь к его морде. Оно тронуло губами, тепло дохнуло на нее, понюхало и фыркнуло по-козлиному, упрямо мотнув головой.
Я окончательно убедился, что он никакой не дьявол, просто попал в беду, как и я. Во время моего пастушества, бывало, козлы забирались в такие места, что сами потом не могли выбраться.
Я сел рядом с ним на землю, обнял его за шею и стал греться, прижимаясь к его теплому животу. Я попытался уложить его, но он продолжал упрямо стоять. Зато он начал лизать мою руку, сначала осторожно, потом все смелее и смелее, и язык его, гибкий и крепкий, шершаво почесывал кисть моей руки, слизывая с нее соль. От этого колючего и щекочущего прикосновения было приятно, и я не отнимал руки. Козел мой совсем вошел во вкус и уже стал прихватывать острыми зубами край моей рубахи, но я закатал рукав и дал ему попастись на свежем месте.
Он долго лизал мою руку, и я почувствовал, что, даже если бы показалось над ямой голубое в свете луны лицо покойника, я бы только крепче прижался к моему козлу и мне было бы почти не страшно. Я впервые узнал, что значит живое существо рядом.
Наконец ему надоело лизать мою руку, и он неожиданно сам улегся рядом со мной и снова принялся за жвачку.
Было все так же тихо, только свет луны сделался прозрачней, а звездочка передвинулась на край полоски неба. Стало еще прохладней.
Вдруг я услышал приближающийся топот коня, сердце бешено забилось.
Топот делался все отчетливей и отчетливей, иногда раздавалось металлическое пощелкиванье подков о камни. Я испугался, что всадник свернет в сторону, но топот приближался, твердый и сильный, и я уже слышал дыхание коня, поскрипывание седла. Я замер от волнения, топот прошел почти над самой головой, и тогда я вскочил и закричал:
– Эй! Эй! Я здесь!
Лошадь остановилась, в тишине я различил костяной звук лошадиных зубов, грызущих удила. Потом раздался нерешительный мужской голос:
– Кто там?
Я рванулся навстречу голосу и закричал:
– Это я! Мальчик!
Некоторое время человек молчал, потом я услышал:
– Что за мальчик?
Голос мужчины был твердым и недоверчивым. Он боялся ловушки.
– Я мальчик, я из города, – сказал я, стараясь говорить не покойницким, а живым голосом, отчего он сделался странным и противным.
– Зачем туда залез? – жестко спросил голос. Человек все еще боялся ловушки.
– Я упал, я шел к дяде Мексуту, – быстро сказал я, боясь, что он не дослушает меня и проедет.
– К Мексуту? Так и сказал бы.
Я услышал, как он слез с коня и закинул уздечку за могильную ограду. Потом шаги его приблизились, но он все же остановился, не доходя до ямы.
– Держи! – услышал я, и веревка, прошуршав в воздухе, соскользнула в яму.
Я взялся за нее, но тут же вспомнил про козла. Он молча и одиноко стоял в углу. Недолго думая, я обернул веревку округ его шеи, быстро затянул два узла и крикнул:
– Тяните!
Веревка натянулась, козел замотал головой и встал на дыбы. Чтобы помочь, я схватил его за задние ноги и стал изо всех сил поднимать вверх – веревка врезалась ему в шею. Как только его рогатая голова, озаренная лунным светом, появилась над ямой, мужчина заорал, как мне показалось, козлиным голосом, бросил веревку и побежал. Козел рухнул возле меня, а я закричал от боли, потому что, падая, он отдавил копытом мне ногу. Я заплакал от боли, огорчения и усталости. Видно, слезы были где-то близко, на уровне глаз. Они полились так обильно, что я в конце концов испугался их и перестал плакать. Я ругал себя, что не сказал ему про козла, а потом вспомнил о его лошади и решил, что так или иначе он за нею придет.
Минут через десять я уловил шаги крадущегося человека. Я знал, что он хочет отвязать лошадь и удрать.
– Это был козел, – сказал я громко и спокойно.
Молчание.
– Дядя, это был козел, – повторил я, стараясь не менять голоса. Я почувствовал, что он остановился и слушает.
– Чей козел? – спросил он подозрительно.
– Не знаю, он сюда упал раньше меня, – ответил я, понимая, что слова мои не убеждают.
– Что-то ты ничего не знаешь, – сказал он, а потом спросил: – А Мексуту кем ты приходишься?
Я, сбиваясь от волнения, стал объяснять наше родство (в Абхазии все родственники). Я почувствовал, что он начинает мне верить, и старался не упускать это потепление. Сразу же я ему рассказал, зачем иду к дяде Мексуту. Я почувствовал, как трудно оправдываться, очутившись в могильной яме.
В конце концов он подошел к ней и осторожно наклонился. Я увидел его небритое лицо, брезгливое и странное в лунном свете. Было видно, что место, где он стоит и куда он смотрит, ему неприятно. Мне даже показалось, что он старается не дышать.
Я выкинул конец веревки, за которую был привязан козел. Он взялся за нее и потянул вверх. Я старался ему снизу помогать. Козел глупо упирался, но он, слегка подтянув его, схватил за рог и с яростным отвращением вытянул из ямы. Все-таки эта история ему не нравилась.
– Богом проклятая тварь, – сказал он, и я услышал, как он ткнул ногой козла. Козел екнул и, наверное, рванулся, потому что человек схватил веревку и дернул. Потом он низко наклонился над ямой, опершись одной рукой о землю, другой схватил меня за протянутую кисть и сердито вытащил наверх. Когда он тащил, я старался быть легким, потому что боялся, как бы и мне не досталось. Он поставил меня рядом с собой. Это был большой и грузный мужчина. Кисть руки, которую он держал, побаливала.
Он молча посмотрел на меня и, вдруг улыбнувшись, потрепал по голове:
– Здорово ты меня напугал со своим козлом. Думал, человека тащу, а тут рогатый вылезает…
Мне стало сразу легко и хорошо. Мы подошли к лошади, четко и неподвижно стоящей у ограды. Козел на веревке шел за ним.
От лошади вкусно пахло потом, кожей седла, кукурузой. Наверно, он оставил на мельнице кукурузу, подумал я и вспомнил, что веревка тоже пахла кукурузой. Он подсадил меня, вернее, почти вбросил в седло. Я подумал про свою палку, но не решился возвращаться за нею. К тому же лошадь, когда я садился, мотнула головой, чтобы укусить меня за ногу. Я успел ее подобрать.
Хозяин отвернул морду лошади от ограды, закинул уздечку и, не выпуская из руки веревку с козлом, грузно уселся на седле. Я почувствовал, что лошадь прогибается под ним. Тело его придавило меня к луке седла. Мы тронулись.
Конь бодро пошел, стараясь перейти на рысь, раскорячиваясь от сдерживаемой силы и от раздражения, что сзади тащится козел.
Под глухой стук копыт, под легкое покачивание на седле я задремал.
Неожиданно конь стал, и я проснулся. Мы были у плетня, за которым виднелся большой чистый двор и большой дом на высоких деревянных сваях. В окнах горел свет. Это был дом дяди Мексута.
– Эгей, хозяин! – крикнул мой спутник и стал закуривать. Веревку с козлом он намотал на кол изгороди, не привязывая ее.
Дверь в доме отворилась, и мы услышали:
– Кто там?
Голос был мужественный и резкий: так у нас по ночам отвечают на незнакомый крик, чтобы показать готовность к любой встрече.
Дядя Мексут – это был он, я сразу узнал его широкоплечую, низкорослую фигуру – спустился по лестнице и, отгоняя собак, шел в нашу сторону, внимательно вглядываясь в темноту.
Помню удивление его и даже испуг, когда он узнал меня.
– Еще не то узнаешь, – сказал мой спаситель, ссаживая меня и стараясь передать через изгородь прямо в руки дяде Мексуту. Но я не дался ему в руки, а уцепился за кол изгороди и слез сам.
Спутник мой стал откручивать веревку с козлом.
– Козел откуда? – еще больше удивляясь, спросил дядя Мексут.
– Чудеса, чудеса! – весело и загадочно сказал всадник и посмотрел в мою сторону, как равный на равного.
– Зайди в дом, спешься! – сказал дядя Мексут, схватив коня за уздечку.
– Спасибо, Мексут, никак не могу, – ответил всадник и заспешил, хотя до этого почему-то не торопился.
По абхазскому обычаю, дядя Мексут долго уговаривал разделить с ним хлеб-соль, то обижаясь, то упрашивая, то издеваясь над его якобы важными делами, из-за которых он не может остаться. Все это время он поглядывал то на козла, то на меня, чувствуя, что между моим появлением и козлом есть какая-то связь, и никак не улавливал ее.
Наконец всадник уехал, волоча за собой козла, а дядя Мексут повел меня домой, удивленно цокая языком и покрикивая на собак.
В комнате, озаренной не столько лампой, сколько ярко пылавшим очагом, за столом, уставленным закусками и фруктами, сидели гости. Я сразу увидел маму и заметил, несмотря на багровые отсветы пламени, как она медленно побледнела. Гости повскакали с мест, заохали, запричитали.
Одна из моих городских теток, узнав о цели моего прихода, стала тихо опрокидываться назад, как бы падая в обморок. Но так как в деревне этого не понимали и никто не собирался ее подхватывать, она остановилась на полпути и сделала вид, что у нее заломило поясницу. Дядя Мексут всячески успокаивал женщин, предлагал пить за победу, за сыновей, за то, чтобы все вернулись. Дядя Мексут был большой хлебосол, в доме у него всегда были гости, а здесь, в долине, уже собрали виноград, и сезон длинных тостов только начинался.
Мама сидела молча, ни к чему не притрагиваясь. Мне было жалко ее, хотелось как-то успокоить, но роль, которую я взял на себя, не допускала такой слабости.
Мне подали горячей мамалыги, курятины и даже налили стакан вина. Мама покачала головой, но дядя Мексут сказал, что мачарка еще не вино, а я уже не ребенок.
Я рассказал о своих приключениях и, уже досасывая последние косточки, почувствовал, как на меня навалился сон, сладкий и золотой, как первое вино мачарка. Я уснул за столом.
Дней через десять из Баку вернулась мама. Оказывается, брат не был ранен, а просто соскучился по своим и решил увидеться с ними перед отправкой на фронт. И, конечно, добился своего. Он у нас всегда был с фокусами.
Часов в десять утра я вышел из автобуса в селе Ореховый Ключ.
Автобус запылил дальше, а я пошел в сторону правления колхоза, с удовольствием разминая ноги после долгого, неподвижного сидения. Становилось жарко.
Я чувствовал себя бодро и ощущал в своей душе неисчерпаемый запас репортерской проницательности. Рядом с правлением под могучим шатром орехового дерева в традиционной позе патриархов сидели два старика абхазца. Один из них держал в руке палку, другой – посох. Я заметил и радостно удивился тому, что крючковатый загиб рогатульки на посохе одного старика соответствовал крючковатому носу самого старика, тогда как другой старик был с прямым носом и держал палку без всяких ответвлений. Проходя мимо них, я поздоровался, вернее, почтительно кивнул им, на что они ответили вежливым движением, как бы приподымаясь навстречу.
– Сдается мне, что это новый доктор, – сказал один из них, когда я прошел.
– А по-моему, армянин, – сказал другой.
Правление колхоза находилось в деревянном двухэтажном здании. Внизу магазин и склады с большими висячими замками на дверях. Наверху служебные помещения. Из открытых дверей магазина доносился женский смех.
У самого крыльца стоял потрепанный «газик», и я понял, что председатель на месте.
К стене правления было прикноплено объявление, написанное подтекающими буквами:
«Козлотур – это наша гордость».
Лекцию читает кандидат археологических наук, действительный член Общества по распространению научных и политических знаний Вахтанг Бочуа. После лекции кино «Железная маска».
Так, значит, Вахтанг здесь или должен приехать! Я обрадовался, предвкушая встречу с нашим прославленным балагуром и чангалистом. Я его не видел больше года. Я знал, что он процветает, но не думал, что он уже стал кандидатом археологических наук, да еще читающим лекции про козлотуров.
Кстати, слово «чангалист», кажется, употребляется только у нас в Абхазии и означает – любитель выпить на чужой счет. Производное от него – зачангалить, то есть подцепить кого-нибудь, взять на абордаж, и необязательно с тем, чтобы выпить, но и в более широком смысле.
Впрочем, Вахтанга, как правило, любили угощать, потому что в любую компанию он вносил шумливое, безудержное веселье. Сама внешность его полна комических противоречий. Тучная и мрачная голова Нерона – и добродушный, незлобивый характер, пронырливость и пробивная сила снабженца – и задумчивая профессия археолога, так сказать, листающего пласты веков.
После окончания историко-архивного института Вахтанг несколько лет работал экскурсоводом, а потом написал книжку «Цветущие развалины». Она стала любимой книгой туристов. «И интуристов», – неизменно добавлял Вахтанг, когда разговор о ней заходил при нем. А разговор заходил почти всегда, потому что он сам же его и заводил.
Мы, земляки, в студенческие времена часто собирались вместе, и ни одна дружеская пирушка не обходилась без Вахтанга. В этом отношении, как, впрочем, и во многих других, он обладал необычайным чутьем, и если кто получал посылку, его не надо было звать. Он являлся в общежитие еще до того, как хозяин посылки успевал обрезать или оборвать шпагат, которым был перевязан ящик.