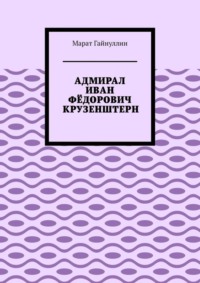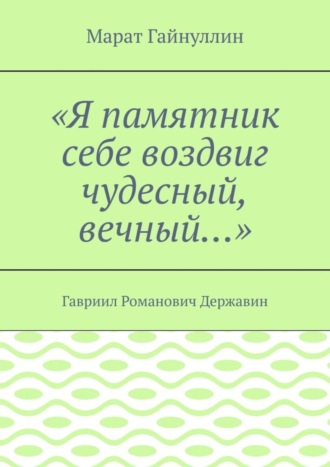
Полная версия
«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный…». Гавриил Романович Державин
Следующая поезда состоялась летом 1761 года в село Булгары. Экспедицию возглавлял Михаил Иванович Веревкин. Директор Казанской гимназии получил от куратора Ивана Ивановича Шувалова поручение провести исследование развалин древней столицы Булгарского царства. Необходимо было снять план и описать эти древние развалины, провести раскопки и доставить в Казань древности, какие там смогут найти поехавшие в Булгары гимназисты. Веревкин пробыл в Булгарах всего несколько дней. Однообразная работа вскоре наскучила ему и он уехал в Казань. Больше он не появлялся в Булгарах.

Руины Булгар
Гавриил Державин с товарищами работали там до глубокой осени и привезли в Казань план древнего города, его описание, рисунки останков некоторых строений, надписи на гробницах, а также собрание монет и различных предметов, вырытых ими из земли. Михаил Иванович Веревкин одобрил результаты, полученные гимназистами при раскопках. Он намеривался со всеми добытыми в этой археологической экспедиции материалами в конце года поехать в Петербург и преподнести эти предметы вместе с планом и рисунками куратору Ивану Ивановичу Шувалову. Верёвкин также готовил к поездке отчет о делах в Казанской гимназии. Однако, вскоре Верёвкин был уволен, и поездка не состоялась.
Директором гимназии был прислан из Московского университета магистр Даниил Николаевич Савич, которому в связи с большой важностью должности директора Казанской гимназии было пожаловано звание профессора. Гавриил Державин всего несколько месяцев проучился в гимназии при новом директоре и уже в начале 1762 года вынужден был уехать из Казани на службу в Петербург.
Гавриил Романович Державин проучился в Казанской гимназии около трех лет. Программа обучения была для того времени обширной. В гимназии преподавали закон Божий, латинский, французский и немецкий языки, «Российское правописание и штиль», арифметику, геометрию и фортификацию, географию, историю, рисование, музыку, танцы и фехтование.
Учебное время было разделено на две части, с семи до одиннадцати часов утра и с часу до пяти часов после обеда. Во время двухчасового перерыва гимназисты обедали, а вечером занимались подготовкой к урокам следующего дня. Закон Божий преподавали только по воскресениям и праздничным дням. Гимназия во время обучения в ней Державина не могла похвалиться хорошими учителями. По этому поводу Гавриил Романович пишет, что в гимназии, «по недостатку хороших учителей» его учили не лучшим образом.
Из учителей Державин упоминает Франца Гельтергофа (1711 – 1806), преподававшего в гимназии немецкий язык. Он был лучшим учителем казанской гимназии в первые годы ее существования. Родившийся в Германии, Франц Гельтергоф служил пастором на острове Эзель (ныне Сааремаа в Эстонской республике). Он был обвинён в политической неблагонадежности и арестован. Двенадцать лет он провёл в одиночной камере. В начале 1759 года заключение было заменено на пожизненную ссылку в Казань под надзор местной власти. В апреле месяце 1759 года под стражей он был привезен в Казань. По прибытии в город он был приглашен Веревкиным на должность учителя немецкого языка в гимназию с окладом в 120 рублей в год. Сам директор в то время получал 400 рублей в год.
Гельтергоф пробыл в Казани столько же времени, сколько Державин учился в гимназии. Позднее они встретились в Санкт – Петербурге. Учитель увидел своего бывшего ученика, молодого солдата лейб-гвардии Преображенского полка униженным. Его все обходили при производстве в офицерский чин. Зная, что Державин не имеет покровителей и хорошо владеет немецким языком, Гельтергоф стал хлопотать о переводе его в голштинский полк офицером. «Но, благодаря Проведение, сего Гольтергоф не успел сделать, по наступившей скоро известной революции», – пишет Державин. Он имеет в виду свержение императора Петра III и восшествие на престол его жены Екатерины Алексеевны.
Учился Гавриил Державин в гимназии успешно. В первый же год обучения, после летних каникул, директор гимназии Веревкин ходатайствовал о награждении тех учеников, которые «в каникулярное время много впредь успели в науках». Куратор Иван Иванович Шувалов приказал напечатать в Московских Ведомостях имена лучших учеников Казанской гимназии. В №64, от 10-го августа было напечатано, что «за свою прилежность, успехи и доброе поведение, похвалы достойными нашлись, а именно: Василий и Дмитрий Родионовы, Петр Нарманский, Гаврила Державин, Алексей и Петр Норовы». Но на этом Михаил Иванович Веревкин не остановился. Заботясь о процветании гимназии, он зимой, в начале 1760 года поехал в Москву на встречу с Иваном Ивановичем Шуваловым, чтобы показать куратору работы своих гимназистов. Он повез с собой для представления работы своих учеников. Это были геометрические чертежи и карты Казанской губернии, украшенные фигурами и видами городов. Куратор был приятно поражен неожиданными плодами учения в отдаленной, полудикой части империи. Директору гимназии удалось утвердить повышение окладов некоторым преподавателям и отнести на казенный счет содержание беднейших учеников. В то же время гимназисты, работы которых были представлены Ивану Ивановичу Шувалову и вызвали одобрение, были записаны, по их желанию, солдатами в различные гвардейские полки. Гавриил Державин был объявлен кондуктором Инженерного корпуса. Одновременно и Веревкину было оказано особое внимание. Для более успешного управления гимназией, с сохранением прежней должности директора, он был назначен товарищем казанского губернатора. Известие о наградах вызвало восторг в гимназии. Все радовались успешной поездке Михаила Ивановича Веревкина к куратору в Москву. Отмеченные наградами гимназисты надели свои полковые мундиры, а Гавриил Державин кондукторскую форму. С этого дня на всех праздниках, где участвовали гимназисты, он исполнял обязанности артиллериста и был ответственным за фейерверки. Казалось, давнее желание подростка и его покойного отца осуществилось.
После своей поездки в Москву Михаил Иванович Веревкин задумал отпраздновать в Казани день коронации императрицы Елизаветы Петровны. Он получил у Ивана Ивановича Шувалова разрешение ко дню празднования коронации, т. е. к 25-му апреля, присоединить следующие два дня, посвященные празднованию годовщины открытия университета в Москве, и провести это торжественное мероприятие в Казани.
Все гимназисты с энтузиазмом готовились к трехдневному празднику. От имени куратора Казанской гимназии были разосланы Веревкиным пригласительные билеты на праздничные торжества. В первый день после молебна и пушечной пальбы, в которой принял участие Державин, одетый в свою кондукторскую форму, гости собрались в самой большой аудитории гимназии и прослушали приветственные речи, произнесенные учениками на четырех языках. Затем в стенах гимназии состоялся торжественный обед, на котором присутствовало 117-ть человек. Столы, размещенные в три линии, были великолепно украшены учителями и гимназистами под руководством Михаила Ивановича Веревкина. Дальние концы столов были украшены изображениями частей света – Азии, Африки и Европы. Там где линии столов сходились, была сделанная крутая гора – Парнас, на которую по узким тропинкам поднимались люди с книгами и научными инструментами в руках. Честь из них были изображены изнуренными, а другие павшими на этом трудном пути в вершине горы. Только Ломоносов и Сумароков стояли на вершине Парнаса рядом с Аполлоном и Музами.
В начале обеда, размещенный за горой Парнас небольшой хор пропел гимн, прославляющий императрицу Елизавету Петровну. Во время обеда в самой большой аудитории гимназии был подготовлен театральный зал, в котором для зрителей были установлены в ряд двенадцать лавок, рассчитанных на четыреста человек. После обеда Веревкин пригласил своих гостей на просмотр пьесы Мольера «Школа мужей». Все роли в пьесе исполняли гимназисты. Это представление вызвало бурю восторга у зрителей. Актерам «надавали денег столько, – писал об этом Веревкин, – что я их теперь в непостыдное платье одеть могу». На пьесе Мольера праздник не завершился. После просмотра комедии состоялся ужин, а затем бал, на котором гимназисты показали свое умение красиво танцевать. Для тех, кто не хотел танцевать, были устроены игры и беседы о науках и удивительных достижениях в ней.
На следующий день, 26-го апреля праздник продолжился в стенах гимназии. На третий и последний день праздника во двор загородного дома губернатора, находившегося на Арском поле, были приглашены 270 гостей, в числе которых были родители гимназистов и, вероятно, мать братьев Державиных, подполковница Фёкла Андреевна. Кроме холодного ужина для приглашенных был дан под открытым небом «народный праздник», на котором, по подсчёту Михаила Ивановича Веревкина, приняли участие семнадцать тысяч жителей города Казани и её окрестности. Если поверить названной Веревкиным цифре, то практически все жители Казани присутствовали на этом празднике, проведенном на Арском поле. Известно, что в 1801 году в Казани проживало двадцать пять тысяч человек.
На этом заключительном праздничном дне в качестве угощения для жителей города были выставлены несколько жареных быков, баранов и другой живности. С наступлением темноты небо осветили сотни фейерверков, в запуске которых принял непосредственное участие Гавриил Державин. Праздник завершился балом, устроенным по дворе губернаторского дома. Сад, дом и площадка для танцев были иллюминированы. Три дня празднества, как утверждал Михаил Иванович Веревкин, обошлось ему в 630 рублей, сумму по тем временам значительную.
Во время учебы в гимназии Гавриил Державин помимо рисования и черчения проявил любовь к музыке. В гимназии проводились уроки музыки, и Державину захотелось научиться играть на скрипке. Часами он упражнялся в игре на ней. К сожалению, в гимназии некому было поддержать Державина и научить его игре на скрипке. На всю жизнь остался Гавриил Романович музыкантом-самоучкой.
Другим, не менее сильным увлечением, было чтение. За время учебы в гимназии Гавриил Державин прочитал великое множество литературных сочинений того времени. Хорошая библиотека, о пополнении которой неустанно заботился Михаил Иванович Веревкин, предоставила юному гимназисту такую возможность. Гавриил Державин прочитал собрание сочинений Ломоносова в двух книгах, трагедии Сумарокова и ряд популярных произведений европейских писателей в переводах Третьяковского и Елагина. Под влиянием прочитанного Державин стал сочинять стихи, сказки и даже романы. Однако все это совершал тайно, редко показывал своим товарищам по гимназии и регулярно уничтожал написанные им произведения.
Гавриил Державин не успел закончить гимнастического курса. В начале 1762 года пришло из Петербурга требование немедленно явиться на службу в лейб-гвардии Преображенский полк. Вероятно, куратор Казанской гимназии Иван Иванович Шувалов забыл данное Веревкину обещание записать Гавриила Державина в Кадетский корпус, а записал его в лейб-гвардии Преображенский полк. Несмотря на то, что Гавриил Романович Державин не закончил полный курс обучения, Казанская гимназия озарена славой своего первого гимназиста Гавриила Романовича Державина, как и Царскосельский лицей, который гордится именем Александра Сергеевича Пушкина.
Превратности судьбы
(Военная служба 1762—1776)
Двенадцать лет службы в гвардии – двенадцать лет безотрадной жизни с двумя отпусками в Казань – так сложилась судьба Гавриила Романовича Державина. Тяжкий труд, невежество и разврат сослуживцев, полное нравственное падение. Кажется все. Бесславный конец жизни. Но неимоверное усилие над собой и безграничная любовь к матери спасли Гавриила Державина при бесконечном падении его в бездну.
Мать, Фёкла Андреевна, как могла, снарядила сына на службу. Да, она понимала, что все мечты рухнули. Хотя и едет ее сын Гавриил в Петербург, но не в желанный кадетский корпус, а служить солдатом в лейб-гвардии Преображенский полк.
Из Казани Гавриил Державин приехал в Петербург в марте 1762 года с опозданием в два месяца. После допроса, учиненного в полковой канцелярии, был зачислен на службу в 3-ю роту рядовым. Так как у него никого не было в Петербурге и жить было негде, то он был помещен в казарму со «сдаточными солдатами», такими, которые «сданы» были в рядовые из крестьян. Жить Державину пришлось вместе с тремя женатыми и двумя холостыми солдатами. Иван Иванович Дмитриев писал, что «Державин пошел на хлеба к семейному солдату».
Пройдя успешно обучение ружейным приемам, участвовал в парадах, которые любил проводить император Петр III. Стоял на карауле, на ротном дворе и выполнял разные работы, ходил за провиантом, чистил канавы, разгребал снег и занимался подготовкой полковой учебной площадки к занятиям.
Оказавшись в Петербурге, Державин отыскал бывшего директора Казанской гимназии Михаила Ивановича Веревкина и отнес ему все бумаги и найденные при раскопках в Булгарах предметы. Из-за неожиданного отъезда Веревкина из Казани всё это осталось на руках у Державина. Михаил Иванович Веревкин представил молодого солдата вместе с планами, рисунками и другими найденными древностями Ивану Ивановичу Шувалову. Эта была первая встреча вельможи с молодым человеком, который на всю жизнь сохранил к Шувалову неизменную преданность.
Несмотря на благоприятные обстоятельства, Гавриил Державин не осмелился напомнить Шувалову о прежнем обещании поместить его в кадетский корпус. Он надеялся, что его солдатская служба при покровительстве такого влиятельного вельможи не будет продолжительной. Державин не сомневался, что быстро пройдя по нижним чинам и станет офицером. Но надежда не сбылась. Иван Иванович Шувалов после смерти своей покровительницы, императрицы Елизаветы Петровны, впал в не милость новой императрицы Екатерины II, и в конце 1762 года на многие годы уехал из России.
Находясь в казарменной обстановке, при тесноте и беспрестанных полковых учениях, Гавриил Державин не имел возможности систематически заниматься своим любимым делом, рисованием и чтением книг. Только по ночам, урывая часы от своего сна, он читал случайно добытые книги. Временами Гавриил Державин сочинял стихи и записывал их в тетрадь. Заметив за чтением книг и видя его с пером в руках, солдаты и их жены стали обращаться к нему с просьбами, написать от их имени письма к родным. Державин охотно откликался на их просьбы. Писал письма, давал им взаймы по рублю или два из своих сбережений, полученных в Казани от матери ста рублей.
Вскоре солдатские жены уговорили своих мужей исполнять за Гавриила Державина службу и различные работы. Молодой солдат пользовался уважением всей роты.
Случайная встреча с бывшим учителем Казанской гимназии, Гельтергофом, чуть не изменило его судьбу. Но, к счастью, перевод его в офицеры голштинского полка не успел совершиться, и молодой солдат Гавриил Державин принял участие в событиях 28-го июня 1762 года в составе лейб-гвардии Преображенского полка. Однако, личное горе, случившееся накануне переворота, кража всех денег из под подушки, «сделало его совсем невнимательным к вещам посторонним». Впрочем, вор был вскоре найден сослуживцами Державина принявшими живое участие в его несчастии, и все деньги были возвращены.
Лейб-гвардии Преображенский полк должен был принять участие в торжествах по коронации 22-го сентября в Москве императрицы Екатерины II. Державин получил в канцелярии паспорт и приказ, отправится в Москву и явиться в полк в первых числах сентября, ко времени прибытия императрицы на коронацию. Находясь в Москве, Гавриил Державин узнал что на коронацию приехал его покровитель Иван Иванович Шувалов. Он отправился к Шувалову и, когда вельможа вышел в прихожую, где его дожидались многие просители, подал ему свою просьбу. Иван Иванович Шувалов остановился, прочитал письмо и попросил Гавриила Державина придти к нему через несколько дней за ответом. Об этом узнала его тётя, Фёкла Савична Блудова, двоюродная сестра его матери, которой было поручено присматривать за своим племянником во время его пребывания в Москве. Тётя, ярая противница всего нового, отругала своего племянника и крепко накрепко запретила ему посещать Ивана Ивановича Шувалова, пригрозив написать об этом проступке его матери, если Гавриил Державин нарушит данное ей слово больше не посещать Шувалова. Полученный от тетушки Фёклы Савичны нагоняй подействовал. Скрепя сердцем Державин вынужден был отказаться от своей мечты, и не пошел за ответом к своему покровителю. Впоследствии Гавриил Романович Державин считал, что он упустил единственный случай, который мог бы существенно повлиять на его судьбу.
Указом от 4-го марта 1763 года Ивану Ивановичу Шувалову был разрешен отпуск за границу, откуда он возвратился в Россию только в сентябре 1777 года. Гавриил Романович Державин не забыл своего покровителя, и возвращение его в Петербург приветствовал «Эпистолой И. И. Шувалову на прибытие его из чужих краев в Санкт—Петербург 1777 года сентября 17 дня»:
Предстатель Российских муз, талантов покровитель.Любимец их и друг, мой вождь и просветитель,Который, истину хвалу себе снискал,Что в счастье не одним лишь счастьем блистал,Любил отечество, науки одобряя,Художества и вкус изящный насаждая,Елизаветиных средь радостных годовБыл в младости министр, в вельможе философ,Природой одарен и просвещен ученьем!О ты, кто наполнял пиитов дух пареньемИ был их Аполлон и стал бессмертен сим,Что песнь Петровых дел под именем твоимЧрез Ломоносова в концы гремяща мираТобой одобрена, – хвала тебе та лира!Се славный памятник: не грады разорил —Садя училища, ты грады озарил!Се паки днес тебя отечество встречает;Как мать рожденного, на лоно принимает;Как начал прежде ты, Шувалов, так скончай.Родив ты был – суди; будь щедр – и награждай.Ты сердцем никогда не равен был железу:Уйми ты бедных вздох, отри ты сирых слезу.Питомец муз твоих и ими научен,Я ревностный тебе почтенья всех содетель.Не ведав ты меня, благодеянья лил:Не знай, друг общества, кто здесь тебя хвалил;Но да, гремит в твой слух та истина высока:Глас общий никогда не похвалил порока.С пределов булгарских, с отпадших стран Луны,Эдигиреев трон и род где попраны;Сумбекиных не вняв коварств, волшебств и стона,Где растерзал Орел треглавого Дракона;Воздвигнул Иоанн где крест для света мурз;Тобой Елисавет где водворила муз;Чрез горы, чрез леса, чрез реки, чрез стремнины,Где взор сиял Петров и взор Екатерины, —Оттоль сей идет глас, оттоль сей лирный звон;Из отдаленности к тебе усерден он.«Эпистола» эта, начатая в Петербурге, судя по смыслу последних строк, была окончена в Казани в 1778 года, когда Гавриил Романович Державин приезжал на родину к своей матери Фёкле Андреевне.
Вернемся вновь к жизни простого солдата лейб-гвардии Преображенского полка. Во время службы Гавриил Державин обязан был нередко разносить офицерам своего полка отданные с вечера приказы. Так как все офицеры жили в разных частях Москвы, то ему приходилось всю ночь разносить эту почту. А это, в те времена, было совсем небезопасное занятие. Один раз на Пресне Державин чуть не утонул в снегу. В другой раз на него ночью напали собаки, и он вынужден был с помощью тесака защитить себя. Такова была в те времена Москва. На всю жизнь запомнил Гавриил Романович случай, когда ему необходимо было отнести приказ прапорщику своей же 3-й роты князю Ф. А. Козловскому, известному своими литературными трудами и острым умом. Он писал, стихи и служил образцом, которому подрожал Державин. Жил он в Москве у своего друга, знаменитого писателя Василия Ивановича Майкова. Однажды вечером, когда Козловский читал своему другу вслух какую-то трагедию, чтение было прервано приходом вестового с приказом. Это был Державин. Отдав приказ, он из любопытства приостановился в дверях. Заметив это, прапорщик Козловский сказал: «Поди братец служивый, с Богом, что тебе здесь попусту делать? Ведь ты ничего не смыслишь». Бедный солдат, будущий знаменитый поэт, должен был смиренно удалиться.
Положение простого солдата тяготило Гавриила Романовича Державина. Многие пришедшие на службу в лейб-гвардию Преображенский полк молодые солдаты благодаря протекции обошли его и уже получили унтер-офицерский чин. Обиженный несправедливостью, Державин обратился с письмом к своему майору графу Алексею Григорьевичу Орлову. Жалоба его была принята, и Гавриил Романович был произведен в первый унтер-офицерский чин, в капралы.
В своем новом чине Державину захотелось показаться матери и своим родственникам в Казани. Он получил годовой отпуск и отправился на родину. Отправляясь в Казань, он нашел себе попутчиков. Это был сослуживец по полку капрал Аристов и молодая красавица «благородная девица, имевшая любовную связь с бывшим директором гимназии Веревкиным», который вновь возвратился в Казань и служил там товарищем губернатора. Капрал Аристов ухаживал за молодой красавицей. Гавриилу Романовичу тоже очень понравилась попутчица. Во время поездки он беспрестанно разговаривал с «благородной девицей», веселил её. Ветреная красавица проявила к веселому и разговорчивому капралу благосклонность. Несмотря на то, что Аристов постоянно чинил препятствия Державину и «благородной девице», он так и не смог помешать «соединению их пламени» в пути. Любовные отношения так повлияли на Гавриила Романовича, что он и сам не заметил, как взял на себя все путевые издержки молодой красавицы. Это было принято ею весьма благосклонно. Тощий кошелек Державина едва вынес эти непредвиденные расходы. Приехав в Казань, молодой капрал захотел почаще встречаться со своей красавицей. Но обстоятельства сильно изменились. Будучи небольшого чина и небогатым, Гавриил Державин не смог содержать ее и «благородная девица» вновь вернулась к Михаилу Ивановичу Веревкину. Она жила у него под одной крышей с его женой.
Недолго пробыл в Казани Гавриил Романович. Вскоре он по поручению матери поехал в Шацк. Ему необходимо было вывезти оттуда в свою оренбургскую деревню небольшое число крепостных, доставшихся Фёкле Андреевне от её первого мужа капитана Горина. Сама она выехала из Казани в оренбургскую деревню, чтобы подготовиться к встрече сына. Гавриил Романович благополучно выполнил поручение матери. Они вновь встретились в своей оренбургской деревне, где прожили остальную часть лета. В конце сентября Фёкла Андреевна отправила своего грамотного сына по делам имения в Оренбург. По пути в город с Гавриилом Романовичем приключилось неприятное происшествие. Сломалась колесо у коляски. Пока её чинили, он решил осмотреть окрестности ямской станции. К счастью, Державин прихватил с собой заряженное ружье. Углубившись в кустарник, он наткнулся на стадо кабанов. Внезапно один из них бросился на него. Гавриил Романович не успел отвернуться, и кабан разорвал ему икру. Второго нападения ему удалось избежать. Пуля, выпущенная из ружья, остановила кабана. Около шести недель пролежал Державин в Оренбурге, пользуясь попечением губернатора князя Путятина. Окончательно вылечив ногу, Гавриил Романович приехал к матери в Казань.
По возвращении в Петербург Державин получил в казарме место уже в помещении вместе с дворянами. В материальном отношении быт его несколько улучшился, но постоянные контакты с молодыми людьми, которые все свое свободное время играли в карты на «интерес» или придавались всякого рода разгулу, привели Гавриила Романовича на край пропасти. Несмотря на начавшееся падение в нем жило предчувствие, что талант выведет его в люди. Продолжая писать стихи, он начал изредка показывать их своим сослуживцам. Стихи о солдатской дочери Наташе хвалили все товарищи по службе и, особенно, братья Неклюдовы, из которых один был унтер-офицером, а другой сержантом. Однако, сатирические и непристойные стихи об одном капрале, жену которого любил полковой секретарь, надолго отодвинули его от производства с следующий чин. История эта была такова. Когда-то Державин нарисовал этому секретарю пером гербовую печать его и этим попал к нему в особую милость. Это было важно, потому что полковой секретарь был в великой силе у подполковника Бутурлина. Теперь же он из покровителя сделался лютым врагом Державина. Стихи стали известны в полку совершенно случайно. Один из офицеров постоянно носил эти стихи, переписанные им на бумагу, в своем кармане. Случайно он подал бумагу со стихами вместо приказа гренадерскому капитану, а тот рассказал об этом анекдотичном случае своим товарищам. Полковой секретарь сильно обиделся на молодого поэт. Он стал постоянно вычеркивал его имя из ротного списка, подававшегося к производству в чины. Таким образом, Гавриил Державин пробыл четыре года в капралах.