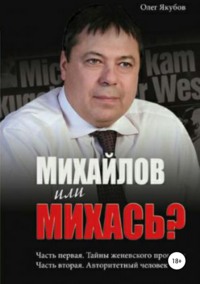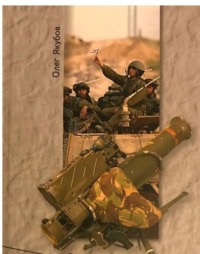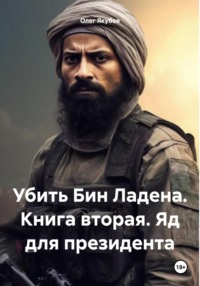полная версия
полная версияПривет эпохе
Но в баре, когда папы рядом не было, сынок – пресс-секретарь, мгновенно преобразился. Он заявил, что интервью никуда не убежит, а он, Риши, первым делом хочет отведать «рашн водка», о которой слышал так много лестного, но до сих пор не имел удовольствия попробовать. Переводчик с хинди, услышав это, сказал, что у него много своих дел, вы, мол, пока, ребята, водочки попейте, а я попозже подойду.
«Рашн водка» появилась на столе мгновенно и тут уж мы постарались проявить себя истинными знатоками родного тонизирующего напитка. С живостью людей, не понимающих языка друг друга, на пальцах объяснили гостю, что разбавлять водку водой или добавлять в нее лед – сущее кощунство и порча благородного продукта. Риши понял нас прекрасно, заглотнул без передыху рюмки три и глаза его цвета маслин собрались в кучку. Когда у нашего стола снова возник переводчик, он оценил ситуацию с первого взгляда.
– Если вы сейчас, немедленно, не зададите ему своих вопросов, то потом уже разговаривать будет не с кем, – твердо заявил переводчик.
Вняв голосу разума, мы стали расспрашивать Капура-младшего. Он отвечал достаточно подробно, но скороговоркой, явно стремясь как можно быстрее покончить с необходимой процедурой и вернуться к столь приятному занятию.
Описывать последующее застолье столь же скучно, как трезвеннику присутствовать за одним столом с пьющими. Была уже поздняя ночь, когда мы решили, что надо как-то транспортировать тело нашего гостя в номер. К тому времени один из собратьев по перу сошел с дистанции, исчезнув незаметно, за столом нас оставалось трое. Выяснив у администратора гостиницы, в каком номере остановился Риши Капур, мы, сообщив бармену, что скоро вернемся, подхватили восходящую звезду индийского кино под руки и поволокли к лифту.
Вернувшись в бар, узнали, что платить не надо, за все уже уплачено заранее, мы уж совсем было собрались уходить, когда увидели под столом какой-то предмет. Наклонившись, я поднял с полу увесистый бумажник. Задав коллеге идиотский вопрос: «Твой?», я сам же на него и ответил: «Конечно, не твой». Вполне очевидно было, что бумажник обронил Капур.
– А если не обронил? – высказал осторожное предположение коллега.
– А что же, оставил для того, чтобы мы за него расплатились? – съязвил я.
– Ты на самом деле такой дурной или только прикидываешься? – строго поинтересовался коллега и, округлив для вящей убедительности глаза, отчеканил по слогам. – Про-во-ка-ция! Вот, что это может быть.
Должно быть, демонстрация иностранцу методов потребления русской водки сказалась на наших голосовых связках, говорили мы, во всяком случае, довольно громко, чем и привлекли к себе внимание. К нашему столику подошел молодой человек с серьезным взглядом и поинтересовался, о какой это провокации мы здесь толкуем. Известная фраза Паниковского «А ты кто такой?» застряла, так и не вырвавшись – молодой человек праздно любопытствующим ну никак не выглядел. Мы объяснили, что проводили гостя в номер, а, вернувшись, обнаружили под столом чужой бумажник. Без слов забрав у нас находку, молодой человек открыл бумажник, извлек оттуда какую-то пластиковую карточку с фотографией и подтвердил мое предположение: «Его, Риши Капура, вещь».
– Замечательно, – попытался ускорить события мой коллега. – Значит, вы ему сами передадите?
– Ага, – язвительно подтвердил незнакомец. – Всю жизнь только о том и мечтал, чтобы с чужой валютой валандаться. Так, кто, собственно, нашел этот проклятый бумажник. Вы? Вот вы со мной и останьтесь, остальные свободны.
Обличенный определенными полномочиями молодой человек принял поистине «соломоново решение». Вызвав дежурного милиционера, он открыл дверь в номер Риши Капура, уложил на прикроватную тумбочку бумажник, а нам с милиционером велел остаток ночи сидеть возле дежурной по этажу и ждать пробуждения иностранца.
– Когда подтвердит, что из бумажника ничего не пропало, тогда и отдыхать пойдете, – заявил «товарищ из компетентных органов».
Утром, разбуженный специально пораньше вызванным переводчиком, Капур заявил, что он и знать не знает, сколько у него было денег. Удостоверившись, что кредитные карточки и водительская лицензия на месте, он быстренько состряпал заявление, в котором благодарил за находку и возвращение бумажника.
И тут Риши Капур обнаружил невероятное, учитывая его первое посещение нашей страны, знание.
– Я слышал, – сказал он, – что у русских есть замечательный обычай – утром выпить рюмку водки, чтобы не болела голова. Хотелось бы узнать, так ли это.
Сославшись на неотложные дела в редакции, я позорно бежал.
Х Х
Х
… Между тем, непосредственные мои обязанности в отделе писем и жалоб трудящихся, как он официально назывался, были поначалу скучны невероятно. Утром из экспедиции нам приносили мешок с письмами, мы раскладывали их по стопкам и начинали читать. У каждого сотрудника отдела на столе лежал тематический перечень – все письма были распределены на 42 тематики. В графе под номером 42 значилось: «письма умалишенных». Это была единственная категория посланий, на которые мы имели право не отвечать. Во всех остальных случаях трудящиеся имели право получить ответ в течение тридцати календарных дней. Задержка ответа приравнивалась к смертному греху и каралась безжалостно, дабы другим неповадно было. Ежедневно, с двух часов дня и до семи вечера в специальной приемной отдела писем на первом этаже происходил прием жалоб от населения. Если на «письма умалишенных» можно было не отвечать, то принимать всяких чокнутых в редакции мы были обязаны. Когда псих начинал буянить, следовало нажать тревожную кнопку и вызвать дежурного милиционера. Один раз то ли кнопка не сработала, то ли дежурный отлучился, но пришлось мне какого-то буяна выставлять самостоятельно. Наша заведующая Ляля Исамухамедова, всячески прикрывающая нас от начальства, заметила мне сварливо, что прощает меня только на первый раз.
Впрочем, буянили нечасто. И «своих», так сказать, штатных сумасшедших мы знали наперечет. Приходил почти ежедневно тихий дедушка с всклокоченными седыми волосами и безумным взглядом. Из авоськи он вынимал толстую общую тетрадь и начинал зачитывать: «На улице Каракумской кран водопроводный не закрыт, вода течет», «на улице Есенина мальчишки арык запрудили», «на Алайском базаре от общественного, пардон, туалета, скверно пахнет». Закончив отчет, интересовался: «Накажете?» Мы отвечали, что непременно накажем и дед, злорадно хихикая, удалялся. Еще приходил безумный изобретатель. Зимой и летом он вешал на себя самодельный вентилятор. Работающий на батарейках, с лопастями, вырезанными из консервной банки, вентилятор издавал противные скрежещущие звуки. Этот тип уже давно изобрел вечный двигатель, но все чертежи у него украл Лаврентий Берия и потому он никак патент на свое изобретение не может получить. Тот неприятный факт, что Берия был расстрелян в том самом году, когда изобретатель родился, его раздражал. Он утверждал, что нас всех обманывают, Берия до сих пор жив, вредит нам всем из кремлевского подвала, где у него тайный кабинет. Обычно встреча с ним заканчивалась одинаково: изобретатель обещал завтра же принести копии чертежей вечного двигателя, просил пять копеек на автобус, спрашивал разрешения «испить водицы» из бесплатного автомата газ-воды в нашем вестибюле и, учтиво попрощавшись, уходил.
Запомнил я и «учителя Сергея Королева», кем себя мнил этот средних лет господин. Тот, по его заверениям, до сих пор осуществлял космические полеты, но предпочитал отправлять на орбиту не людей, а котов. Коты, все как один, слали ему из космоса сообщения о успешном выполнении программы полетов, о своем самочувствии и утверждали, что околоземное облучение на их, то бишь котов, потенцию не влияет. Немало хлопот доставляла нам некая любвеобильная дамочка. По дороге в редакцию она непременно заходила на почту, я сам ее там не раз потом встречал, брала у стойки с десяток телеграфных бланков и на обороте писала письма своим многочисленным мужьям. Все до единого письма начинались одной и той же стереотипной фразой; «Ты болтаешься по жизни, как говно в проруби». Сразу после этой фразы шли объяснения в неземной любви. Дамочка требовала, чтобы редакция мужей немедленно разыскала и вернула их в ее любвеобильное ложе.
Вскоре я сообразил, что некоторые письма – это просто кладезь народного юмора, стал выписывать наиболее нелепые и оттого смешные, на мой взгляд, фразы, которые охотно публиковались впоследствии на 16-й, юмористической, странице «Литературной газеты». Кое-что из тех фраз, неопубликованных, по понятным для того времени причинам, запомнил. Вот, например: « Украшенный плакатом «Слава КПСС!», стоял забор, близкий к падению», «Они били меня по зубам, а от них щепки летели», «Гады из «скорой помощи» дали мне таблетки, а я от них рвал и метался», «Для блядства я уже стара – не могу поднять ни руки, ни ноги, ни зада»… А еще запомнил, обращенное лично мне письмо, в котором мою должность обозвали так: «литросотруднику отдела писем»… Хотя доля истины в таком обращении, признаться, была.
Наши дамы из отдела быстро смекнули, что чтение писем я воспринимаю, как наказание судьбы и быстренько приспособили меня к делу. Была категория писем, которые следовало проверить на месте. Им самим эти проверки были как нож острый, вот они меня и мобилизовали, чему я был несказанно рад – хоть какая-то живая работа, а не протирание штанов в кабинете. К тому же, постоянно обращаясь в различные официальные организации, я довольно быстро приобрел множество полезных для газетчика знакомств, так что тематического голода не испытывал. Так, благодаря своим новым знакомствам, удалось мне попасть на Ташкентский авиастроительный завод в тот день, когда туда приехал лично «наш дорогой Леонид Ильич». Завод выпускал в то время могучие ИЛы, возглавлял это самое крупное в республике предприятие крутого нрава директор по фамилии Сивец, про которого работяги говорили, что у них на заводе не советская власть, а сивецкая власть. К приезду генсека на заводе готовились тщательно, но вдруг поступило сообщение, что Брежнев приехать не может. Все разошлись по цехам.
Уже позже выяснилось следующее. Утром Леонид Ильич почувствовал недомогание, но через пару часов, после врачебных манипуляций, взбодрился и спросил, что намечено в этот день по программе. Ответили, что планировалась встреча на авиазаводе, но она отменена. Брежнев возмутился: как так, кто посмел лишать рабочих счастья встретиться с любимым генеральным секретарем компартии? И повелел немедленно ехать на завод. Тщетно пытались его отговорить, он уже решительным шагом направился к «членовозу», как в те годы называли правительственные лимузины. Короче, на завод Брежнев прибыл нежданно, успели оповестить только директора. Но людская молва разнеслась быстро. Узнав, что Брежнев все же приехал, рабочие хлынули из цехов. Заводская площадь заполнилась мгновенно, те, кому уже ничего не было твидно, стали карабкаться на металлические самолетные стремянки с площадками наверху. Вскоре стремянки облепили гроздьями и тут случилось непредвиденное и ужасное. Лестницы, не выдержав тяжести, рухнули и люди попадали вниз, да не просто вниз, а прямо на любимого генсека, которого ушибли весьма чувствительно. Но тут уж охрана, опомнившись, взяла Леонида Ильича в кольцо. Митинг явно был сорван. Пытались потом это дело раздуть, как некую враждебную акцию, но вскоре убедились, что винить тут некого.
А вот приезд председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина безнаказанным не остался. Мне об этом рассказал Михаил Родионович Литенецкий, директор городского треста автодормехбаз, или говоря попросту, командир всех мусорных, поливальных и уборочных машин Ташкента.
Как-то раз обрушилась на Узбе5кистан снежная неделя, что приравнивалось к стихийному бедствию. Город был завален снегом, убирать его было особенно нечем и некому. Литенецкий отдувался за всех, а мне поручили срочно подготовить репортаж о том, что предпринимается для скорейшей уборки снега. Вот в долгой поездке по ночному Ташкенту и поведал мне Михаил Родионович невеселую для себя историю официального визита Косыгина в столицу Узбекистана.
Едва выйдя на привокзальную площадь, Косыгин приехал в Ташкент поездом, предсовмина недовольно сморщился: «В стране люди месяцами мяса не видят, а у вас тут повсюду шашлыки дымят». На следующий день Алексей Николаевич должен был ехать в духовное управление мусульман Средней Азии. Литенецкий, в ту пору начальник ГАИ города, лично проехал по всем окрестным улицам, следя, чтобы ни один мангал не дымил, а запаха мяса и в помине не было.
С муфтием Косыгин беседовал довольно долго, потом направился в резиденцию. Его путь к основной магистрали пролегал в старом городе через узкую улочку с односторонним движением. Начальник ГАИ дважды поехал улицу взад и вперед, освободив ее от всех машин и, наглухо перекрыв какое-либо движение. Заняв пост у выезда на шоссе, Литенцкий дал зеленый свет правительственному кортежу. По пути Косыгин обратил свое внимание на глинобитные дома с непонятными ему надстройками. Сопровождающий объяснил, что это традиционное узбекское жилище, а надстройка сверху называется – балхона.
– Любопытно, – произнес глава правительства. – Остановитесь, мне интересно посмотреть.
Повиновались. Кто-то из сопровождающих заскочил во дворик, на который указал Косыгин, и с облегчением вздохнул. Двор был идеально выметен, видимо, только что его полили водой. Хозяин, когда его предупредили о нежданном визите, с робостью, но радушно встретил высокого гостя. Тот стал задавать вопросы хозяину дома. Выяснилось, что живет здесь водитель автобуса, работавший в этот день в вечернюю смену и потому оказавшийся дома. Косыгин совсем уж было собрался уходить, когда хозяин обратился к нему:
– Товарищ Косыгин, сегодня четверг, а по четвергам у узбеков принято плов готовить. Я как раз несколько минут казан открыл с готовым пловом. Если вы хоть ложку отведаете, мои правнуки тоже об этом вспоминать будут. То ли слова хозяина дома показались Косыгину подкупающе искренними, то ли плов любопытно было попробовать, но Алексей Николаевич согласился. Он присел к столу в тени виноградной беседки, несколько ложек плова отведал, похвалил кулинарное искусство хозяина и, попрощавшись, уехал.
– Все то время, что он дом осматривал и плов ел, – я места себе не находил, – рассказывал мне потом Михаил Родионович. – Поначалу я просто недоумевал, куда машины делись, им же до меня не больше пяти минут по пустой улице ехать было. Потом мне по рации передали, что Косыгин зашел какой-то дом осматривать. Но наконец показались машины и дальше мы уже от маршрута не отклонялись. Но это были пока еще цветочки, ягодками меня на следующий день накормили до отвала. Приехав в резиденцию, Косыгин отдохнул, после отдыха выпил стакан молока, а потом до самого вечера врачи лечили его от расстройства желудка. Видно, плов по всем правилам был приготовлен – на курдючном жире, вот и пошла реакция на молоко, тебе более, что к такой пище Косыгин явно был непривычен.
– Что-то я не пойму, вы-то здесь, Михаил Родинович, при чем?
– Вот то-то и оно. Стало высокое начальство искать, кого же наказать за то, что у высокого гостя желудок болел, ну и нашли крайнего. Меня, начальника ГАИ. Отстранили от занимаемой должности, как не обеспечившего беспрепятственного прохождения правительственного кортежа. Теперь вот сюда сослали, мусорками командовать…
– Какая нелепая история, хотя и интересная – прокомментировал я.
– Э, брат, да ты при своей работе еще не такого наслушаешься, да и сам увидишь, – напророчил Михаил Родионович.
«ДЕЗЕРТИРОМ ПРОШУ НЕ СЧИТАТЬ»
Есть в отрогах Памиро-алая дивное место под названием Шахимардан. Местные называют его ферганской Швейцарией и, в данном случае, отнюдь не преувеличивают. Здесь даже в знойный летний день прохладно, горный воздух прозрачен так же, как прозрачны ручьи. К подножью одной из гор Шахимардана прислонился маленький кишлак, названия которого, право, теперь и не вспомню. А вот историю, произошедшую. В кишлаке, помню отчетливо, до мельчайших деталей, хотя и минуло с той поры ровно двадцать лет.
Впервые я попал в этот кишлак случайно. Ехали с друзьями в Шахимардан, проезжали мимо и приятель мой остановил машину.
– Привал, – провозгласил он и уточнил. – Вернее, обед.
Никакого обеда мы по пути не планировали и от того недовольно заворчали. Но приятель был непреклонен, к тому же объяснил нам доходчиво, что ехать дальше – себя не любить:
– В этом кишлаке есть чайхана, где работает самый знаменитый на весь Узбекистан мастер по плову (по-узбекски – ошпоз). Если кто-то приезжает к нам, в Фергану, в командировку, то сюда непременно наведывается, а есть такие любители, что выбирают свободное время и специально из других областей едут, чтобы отведать плов этого ошпоза.
Одним словом, он нас заинтриговал. На местном базарчике мы купили свежей баранинки, хорошего рису и всего, что необходимо для приготовления плова. Старик-чайханщик принял нас приветливо, забрал продукты и без лишних слов удалился к очагу. Те два часа, что он колдовала возле казана, пролетели для нас незаметно – после изнуряющего зноя долины, мы просто опьянели от свежего горного воздуха и сладко дремали, удобно облокотившись на узбекские национальные подушки-валики. Разбудил нас невероятный аромат, а когда мы окончательно проснулись, то увидели перед собой истинное произведение кулинарного искусства. Описывать еду – дело зряшное. А посему поверьте на слово – те, кто не бывал в той чайхане, о настоящем плове и понятия не имеют. Покидая чайхану, я протянул деду свою визитную карточку, пообещав при случае непременно еще раз сюда заехать.
– Приезжай, сынок, – согласно заулыбался чайханщик. – Обязательно приезжай. Я люблю, когда людям хорошо.
Как-то раз в мой редакционный кабинет позвонил из проходной дежурный милиционер и доложил:
– К вам тут какой-то старик просится. Говорит, из Шахимардана приехал и вас, вроде, знает.
С кем только не приходится встречаться в командировках. Я не стал напрягать память и вспоминать пока неведомого мне старика, а просто попросил дежурного проводить приезжего в кабинет. Через несколько минут на пороге показался старик, в котором, хотя и не без труда, признал я знаменитого чайханщика. К старикам в Узбекистане всегда уважение особое, обычаи требовали угостить человека с дороги чаем, расспросить о здоровье. Он в свою очередь тоже должен был поинтересоваться подробно о моем самочувствии, успехах в работе, благополучии семьи. Но дед, едва присев на краешек стула, произнес с непередаваемой болью: «Беда у меня, сынок, помоги», и по старческим щекам его потекли крупные, как горошины, слезы.
Как мог, успокоил я старого Яхшибая, а потом долго выслушивал его горестную историю. Его внука, Эргаша, минувшей весной призвали в армию. Дед отправился на вокзал, в город, провожать своего любимца. На перроне сунул внучку свернутую в трубочку пятирублевку. Эргаш отказывался, зачем, мол, в армии деньги. Дед настаивал – пригодятся. Эх, знал бы старый, сколько горя принесут эти несчастные пять рублей всей семье, и какие страдания придется пережить из-за них Эргашу.
Не успел паренек преступить за ворота стройбата одной из Подмосковных частей, как к нему тут же подошли трое «стариков», среди которых был и один узбек. Эргаш было обрадовался, вот здорово, земляка встретил, не так одиноко будет. Но земляк и не думал интересоваться о доме. Деловито спросил: «Деньги есть», и, увидев, что мальчишка замялся с ответом, молча стал обшаривать карманы. Обнаружив злосчастный пятерик, «старики» недолго посовещались и вынесли вердикт: после отбоя явишься в умывальную. Не смея ослушаться, Эргаш после отбоя поплелся в назначенное место. Плохие предчувствия его не обманули. С порога он получил оглушительный удар пряжкой по голове и упал, как подкошенный.
Его жизнь превратилась в сущий кошмар, кромешный ад. Каждую ночь, после отбоя, его вели в умывальную комнату и били. Да что там били, попросту истязали, в самом буквальном смысле этого слова. Он утратил ощущение реальности. Днем на него орали сержанты, офицеры – оглушенный от истязаний он ничего не мог понять, окрик «ну ты, тупой» теперь даже как оскорбление не воспринимал. Никто вокруг, ни офицеры, ни солдаты и сержанты, словно и н6е видели, что у новобранца Яхшибаева каждый день появляются все новые синяки, кровоподтеки, ссадины. А ведь так продолжалось, ни день, ни два, Три месяца!
Каждую ночь мучители совершенствовались в своем садистском мастерстве и наконец придумали очередное «наказание». Как-то ночью сержант объявил Эргашу;
– Вот у нас, шестерых, скоро дембель. До утра ты должен начистить шесть пар наших дембельских сапог и до блеска надраишь пряжки ремней. Когда закончишь, позовешь нас. Каждый «дембель» на прощание ударит тебя по разу и, если выживешь, – живи.
Как ни странно, он обрадовался: сам себя утешил тем, что осталось всего-то навсего перетерпеть шесть ударов тяжелого солдатского ремня и на этом мучения закончатся. Эх, кабы знал бедный, что ждет его впереди. Он чистил сапоги, надраивал пряжки, стараясь как можно дольше оттянуть миг очередного унижения, боли. «Дембеля» заявились в умывальную комнату сами. Придирчиво осмотрели сверкающие до блеска сапоги и недовольно проворчали:
– Плохо почистил, засранец. В таких сапогах и в родную деревню ехать – стыдоба одна. Так что битьем не отделаешься. Они лениво ударили, каждый по разу, а потом соорудили из ремня петлю и велели Эргашу… вешаться. В этот как раз момент и заглянул в умывальник один из прапорщиков. Моментально поняв, что здесь происходит, он лишь пожурил «дедов»:
– Это вы, конечно, зря. Такие вещи в части делать негоже. Ну, вывели бы за ворота, а то ведь надо, что придумали…
Тем ни менее, Эргаша он забрал с собой и по дороге в казарму сказал наставительно:
– Забьют тебя, чурка, как пить дать забьют. Ты вот что, ты поутру тикай к командиру роты и просись, чтоб тебя в другую часть перевели. Здесь житья не дадут.
Едва прозвучала команда «подъем» Эргаш побежал к командиру. Путаясь, то и дело вставляя в русскую речь узбекские слова, он попросил о помощи. Старлей в ответ лишь кивнул и царственным жестом указал солдату на дверь. Ночью Эргаша выдернули из теплой постели, в одних трусах и майке выволокли из казармы и заволокли в какой-то сарай. Здесь ему зачитали «приговор»: за попытку утаить деньги, за непослушание «дедам» и за «стукачество» рядовой Яхшибаев приговаривался «к смертной казни через ток высокого напряжения». Руки и ноги Эргаша обмотали проводами, стали колдовать возле электрощита, но в этот момент что вспыхнуло, запахло паленным и все вокруг погрузилось во тьму. «Деды» чертыхнулись, сказали, что «казнь переносится на завтра» и, гогоча, удалились.
Терпеть и ждать смерти он больше был не в силах. В ту же ночь рядовой Яхшибаев, как писали потом в официальных бумагах, дезертировал из воинской части. Не зная дорог, шел неевсть куда. К утру забрел в какую-то деревню. Пожилая сердобольная женщина покормила его, смазала раны йодом, как смогла, перебинтовала. Соседские мальчишки, по ее просьбе, живенько собрали и принесли тапочки, бриджи, рубашку. Даже еды и немного денег, на проезд в общественном транспорте дали ему с собой, объяснив как добраться до Казанского вокзала.
Сжалился над бедолагой и проводник скорого поезда «Москва-Ташкент», взял безбилетного пассажира, в служебном купе устроил на верхней полке, всю дорогу кормил, да, в основном, зеленым чаем отпаивал, который, как считал сердобольный проводник, от всех болезней – лучшее снадобье. Не стал скрывать железнодорожник от Эргаша, что мытарствам его вряд ли конец пришел:
– Теперь тебя воинское начальство дезертиром объявит, искать начнут, потом судить будут. Но ты сильно-то не переживай, теперь за дезертирство не расстреливают, так что, скорее всего, просто в тюрьме пару лет отсидишь, – своеобразно утешил проводник беглеца и посоветовал, на всякий случай, домой идти ночью, когда никто не видит.
Так он и поступил, добравшись, наконец, до родного кишлака. Выждал, когда наступит ранняя в горах темнота, зашел в родной дом и рухнул на пороге. А через сутки, поздней ночью, отец отвез сына высоко в горы, где в полуразвалившейся хижине стал лечить травами, да собственного изготовления настоями. Дед же, никому из односельчан ни сказав ни слова, отправился искать правду в Ташкент. В дорогу взял с собой лишь небольшой рюкзачок, где наиболее ценным, как сам считал, были многочисленные визитные карточки гостей, бывавших в его чайхане и произносивших в честь волшебника-ошпоза по-восточному цветистые хвалебные тосты и обещавшие, в случае чего, любую помощь и содействие.
Для начала побывал старый Яхшибай в республиканском военкомате, где выслушал суровые слова о том, что внук его не пожелал с «честью выполнить священный долг перед родиной» и его-де судить и примерно наказать надо, тем более, что уголовное дело уже возбуждено и из части пришел соответствующий запрос. Почерневший от горя старик долго сидел на ступенях военкомата, а когда поднялся, увидел прямо перед собой газетный киоск.