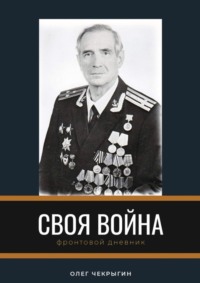Полная версия
Современный шестоднев
Войдя под своды полупустого храма, он заозирался на стоявших по стенам немногих богомолок, среди которых, однако, не находилось подходящей ему по возрасту, лет меньше тридцати. Он был разочарован в своем наивном ожидании, увидев, самому узнать свою избранницу, которой, выходило, что здесь нет. Дождавшись очереди к покаянию, он, споро перечислив список привычных бытовых «грехов и прегрешений», и принимая отпущение, заерзал было под епитрахилью, торопясь спросить, но услыхал: «Терпение, мой сын, и соблюдя приличия, дождись смиренно окончания службы, Богу помолясь».
Когда свершился отпуст, и достоявшие томительную, без сокращений, службу, разошлись, покинув храм, священник-старец, выйдя пред царские врата, поманил его к амвону, и в сторону кивнул, где у окошка, вполоборота к ним, лицом к иконам, она стояла, и лишь в полутьме ее маячил темный силуэт на фоне тающей зари в окна проеме.
– Вот, видишь, сын мой, жертву приношу, тебе ее я с клироса снимаю. Софья, подойди.
– Благословите.
– Тебе он мужем будет, и отцом духовным, ты ж ему женою верной и матерью ему и вашим детям. У вас их будет двое – девочка и мальчик. Тебе она помощник верный будет, не только дома, но и на приходе. Венчанье ваше завтра, ровно в полдень, как служба отойдет, за ней обоим вам надлежит принять Святое Причащенье. А в понедельник – так договорился для вас Владыка Ректор, наш отец – вы в Загсе будете расписаны немедля, без очереди и срока ожиданья, чтоб приготовить к дате посвященья положенные вовремя бумаги. Ступайте с Богом, Бог благословит.
Тогда все это – странноватый, нараспев, речитатив в соединении с мистическою полутьмой старинного намоленного храма – его немного даже напугало. Во всяком случае, тогда все это пророчеством звучало для него. Позже, по выходе из храма, под светлым небом вечера весны рассеялись те страхи, потеснились нетерпеливым интересом близкого знакомства с будущей женой, и желанием жадным первого сближения.
– Как зовут вас?
– Софья.
– Мне руку дай.
– Зачем же сразу руку?
– Завтра ты всем телом будешь мне принадлежать. Сегодня ж только руку я прошу. И губы протяни для поцелуя.
– Стесняюсь я.
– Стесняемся мы оба. Я женщину не знал.
– А я – мужчину.
– Все узнавать самим придется нам. Все тайны сладкие супругов тайной жизни. И надо нам сегодня хоть начать, хоть приступить к познанию друг друга.
– Страшно.
– Ты слышала? Нас Бог благословит. За шею обними меня руками, и губы дай…
Оказалась Сонька хорошенькой девчонкой-непоседой, а в дальнейшем – страстной и ненасытной любовницей. И пророчество забылось на много лет. Но вот – сбылось, однако. И порой Полипий ловил себя на сожалении, что не решился батюшку-пророка расспросить подробнее, что дальше с ними будет: вот было б интересно тогда узнать – да даже и теперь. Да только ни теперь, ни вскоре после это стало невозможно: «венчальный» помер, и преставился он Богу. Сонька сильно тогда переживала, так как почитала его своим отцом духовным, и искренно уверена была в святости его еще при жизни.
Однако, хоть и женились, как говорится, без любви, а зажили неплохо: постепенно – хотя не сразу – и стерпелось, и слюбилось. Он Соньке никогда не изменял – не грешен, Слава Богу. Свою ей верность он всегда хранил – по вере в Бога, согрешить боялся. Ведь как потом служить? Как потом – с какою рожей – перед Богом встанешь? И хоть за жизнь наслушался досыта, и достоверно вдоволь знал историй про женатых на женщинах монахов, про архиерейских женщин и детей… Да что там жен – а «мальчиков» хотите? А засилье «голубых» в верхах церковной власти, без одобрения которых ни одного вопроса нынче в Церкви решить теперь и нечего пытаться? А «содомский грех» в монастырях, который монахи втайне оправдывали, как возможную замену безбрачию, обещанному Богу? Что, бесспорно, кощунством было страшным, даже большим своей циничностью, чем самый этот грех. «Ну хватит, хватит», – он себя одернул. Коль дать подобным мыслям волю – того гляди, чтоб веры не лишиться, на верующих глядючи дела. А между тем, все это было спокон веков. Тем более – теперь, когда в священство, в освобожденную от коммунизма Церковь, понабралось и понабилось сброду случайного, пришедшего «наесться». А он вот не таков. Воспитан в церкви, в семье с традицией из рода в род священства, он, сколько знал себя – боялся Бога. Давным-давно, и как-то незаметно утратив веру и доверие к людям, а вместе с тем – и интерес к ним, к их уникальным человечьим судьбам – считал он, что, в отличие от многих, ему, как прямо избранному Богом – Бог может не простить того, что, может, всем этим грешникам презренным Он прощает. Поэтому старался не грешить он – и даже мысль о близости возможной с другими женщинами, если приходила, – ее он с возмущением гнал, а после на исповеди каялся пред службой.
– Полик, да ты что, заснул там, что ли? Довольно нежиться, – донесся Сонькин голос сквозь шум и плеск воды, – Иди быстрее. Готов уж завтрак – кофий простывает.
Однако – был грешок когда-то – он порою не мог, коль случай представлялся, от удовольствия такого отказаться, чтоб наготу красивых женщин видеть. А случай этот представлялся регулярно – в течение многих лет ему вменялось в служебную обязанность нередко крестить и взрослых женщин, и девчонок. Многие потом к нему годами ходили в церковь, и завлечь его пытались. Но он, один раз только насладившись, как он считал, своей духовной властью над ними – всякий интерес терял к ним. За податливость он женщин тех презирал, да и вообще всех – они готовы были все ему отдаться, и тем неинтересны и противны все оказались до одной ему. Вот так он веру в святость материнства и в целомудрия стыдливость потерял, и женщине не верил ни одной, и верность женскую давно ни в грош не ставил.
Однако, хоть и слабостью невинной казалось это, он с годами постепенно к забаве этой интерес утратил – благо, что сам теперь почти уж не крестил. И он уж больше не настаивал на погружении, а, напротив, своим помощникам давал распоряжение во избежание всяких искушений, не мудря, крестить всех скопом, кропя им головы святой водой с кропила.
«В общем, что ни говори тут, а мы – грешнее всех – Господь, прости нас», – привычно подытожил он нежданно нахлынувшие воспоминания – и с тем завтракать пошел.
Наваждение
Собралось в бане эдак человечков двадцать, своя компания – чужие здесь не ходят. Солидные все люди, с положением: два генерала (милицейский и военный), прокурор, налоговой инспекции начальник, губернский строитель главный, производитель местной водки, и банкир; Олег Иваныч, депутат Госдумы, и лёнин друг, из богачей московских (не помню, как по имени его); конечно, батюшка – он первый друг хозяев, их благодетель – как же без него? Все с женами почти без исключения, и в основном, все – верующие в Бога. Многое открылось после отмены вместе с самой партией партийного запрета на веру и участие в служении, в церковных тайнах и обрядах, как, например – в крещении детей. Оказалось, что не только жены ходят в церковь, а дети всех партийцев крещены, но и сами многие из них, коль не решались крест носить открыто, носили тайно, в ворот вшив рубахи, иль пиджака, и уж на крайний случай – хранили дома свой крестильный крест. На Пасху, также и на Рождество, ходили тайно в церковь, уезжая, чтоб не прознал никто, да не донес, в другие города, что по соседству. Водой крещенской все дома кропили, на Пасху ели яйца и кулич. Теперь же в церковь шло начальство вместе, места почетные по чину соблюдая, а губернатор в Алтаре стоял, благословеньем самого Владыки.
Разоблачались порознь, конечно. Сперва мужчины – в предбаннике разделись наголо, и разобравши войлочные шляпы, пошли испробовать в парную первый пар. А женщины тем временем с хозяйкой ревизию припасов учинили, чтобы из них составить угощенье на праздничный, в честь Новолетья, стол. Потом сменились. Вышедши, мужчины, кто простынью накрывшись, кто на бедра их намотав, прикрыв живот и ноги, прошли в гостиный зал, и там на креслах присели отдохнуть и отдышаться, воды хлебнуть, пивка, а кто – и водки, на скору руку, просто, без затей. С расставленной закуской самой легкой: огурчик, рыбка, бутерброд с икрой, а то с ветчинкой, кто что пожелает. Дамы ж, в очередь свою, прошли в парную. И там недолго усидев от жара, пошли кидаться наголо в бассейн. А кое-кто, как были, мимо двери, где мужики сидели, отдыхая, бежали нагишом на двор валяться в снегу пушистом – и опять в парную. Никто мужчин особо не стеснялся – знакомая, привычная компания. Когда напьются – лезут все в бассейн купаться вместе. И балуются, щиплются… Как дети. «Нудили» вместе так помногу раз. Ведь девки коли вместе соберутся – заводятся все больше друг от дружки и стыд теряют вовсе тот же час. Однако, за столом, или в гостиной, на отдыхе, где вместе собирались, приличья были все соблюдены. До пояса мужчины, а по грудь – все женщины – одеты были строго закрученными туго простынями. И батюшка ту вольность не любил, забав нагих совсем не одобряя. Но матушка, не слушая его, со всеми вместе тела не скрывала. И тут уж уступить пришлось ему: с чужим уставом в монастырь не суйся. Коли не хочешь сам – не порть другим веселья, и настроения хмельного.
Между тем, момент в разгар веселья улучив, когда мужчины потянулись вслед женщинам кто к ним в бассейн кунаться, кто вместе париться, кто в сауну потеть, с своими и чужими вперемешку, хозяин с батюшкой, тихонько отлучась, делили деньги.
– Декабрь был удачным в этот раз. На Украину за год продали икон мы вдвое больше, чем о прошлом годе. Доход за месяц двести тыщ «зеленых». А прибыль – немногим более, чем пятьдесят. Вот ваша доля, как договорились: здесь десятина – пять, и семь – доход, согласно доле. Три еще – Владыке. И губернаторовых две – всего семнадцать. Все правильно?
– Считать сейчас не буду. Ты разложи в конверты, и пометь. И в сейф запри, отдашь, когда поедем. А что по золоту?
– Пока еще не знаю. Не успел в Москву доехать. Беда с сестрой, пришлось племяшку сразу забрать к себе, я только из Ростова.
– Что стряслось?
– И не поверите. Сожителя убила. Застав его на бабе, не думавши, всадила в спину шило, ей под руку попавшее некстати. Из-под лопатки – в сердце, сразу насмерть. Ее в тюрьму, а девочку забрали сперва в больницу: не в себе была. Все видела, сказали мне врачи, и оттого, наверно, впала в ступор. Молчала всю дорогу. И теперь – молчит, тиха, покорна, очи долу. Ни слова от нее мы не слыхали, а на вопросы – лишь глядит с укором, и будто не поймет, чего нам надо. А вот бы с нею вы поговорили.
– Какой кошмар. Однако, некстати нынче. После привезешь ее домой, а лучше – в церковь. На службу. Божья благодать врачует душу там, где дышит Дух.
– Спасибо вам за вашу доброту Она ведь не крещеная, однако.
– Да быть того не может, да неужто? Ну что ж, вот и покрестим заодно. А там, глядишь, поправится – бывает. Крещение нередко исцеляет недуги неисцельные подчас. Однако, мы с тобой заговорились. Я денег жду за золото не меньше, чем в прошлом месяце. И ты – поторопись. Упустишь время – это те же деньги. С тебя взыскать придется за потери. Ведь делу – время, а потехе – час. Еще хочу я просмотреть отчеты за год. Ведь доверяя – нужно проверять. Пора, однако, нам к гостям вернуться. Уж скоро полночь, праздновать пора.
– Алло, я слушаю, да-да. Скажите – к бане. Пусть подъезжают, мы идем встречать. Идемте, батюшка, звонили от ворот. Сам прибыл губернатор к нам с супругой. А с ним в машине – пожаловать изволили Владыко с келейницею-матушкой своей.
На двор и вывалили всей толпой веселой, почитай, в чем мать их родила: кто простыню успев накинуть, а кто и наголо. Все обниматься лезут, гогот, шум. Владыка с губернатором из джипа едва сумели выбраться, настолько они уж тоже были оба хороши.
– Петр Петрович, где ж так набрались вы, – пьяная его ничуть не меньше из женщин кто-то лезла целоваться. Ей вторила другая, – И Владыку – вы посмотрите – напоил отменно. Владыка, душка, как мы любим вас. А вы, Владыка, нас благословите, – и навалясь грудями на него, не сбила с ног едва она обоих. Вот было смеху. Между тем мужчины полны вниманья были к новым дамам: губернаторшу под руки с двух сторон, а матушку поднявши на руках над головами, вперед ногами, несмотря на крики, повлекли их, минуя раздевалку, прямо в баню. И так и затащили их в одежде в парную, прямо к голым мужикам. Смеяться уж устали наши дамы, и отбрыкавшись от пьянчуг веселых, разделись, не стесняясь, прямо там.
Полипий наш, меж тем, к Владыке сбоку пробрался под шумок, и тихо, степенно так сказал: «Святый Владыко! Благослови, и Богу помолись», – и руки лодочкой сложил, как полагалось.
– Дурак ты, Липка, с церемоньем этим, – святитель ласково сказал, его благословляя рукою, снятой с женских тел, которых всех Владыко, скопом, достав, сколь мог, до кучи, обнимал, – пойдем-ка, лучше выпьем, да в парную. Ты веничком попотчуешь меня? Чего ты в рясе? Ты б крест еще надел с епитрахилью, и службу щас затянем тут вдвоем. Ты, братец, скушен мне, а ну-ка – веселись! Хватайте, бабы, скучного попа за все что есть мужского у мужчины.
– Помилуй Бог, Владыка, весел я изрядно. А что до рясы – это же халат, надетый наголо – смотри, Владыка. Отстаньте бабы, руки прочь от нас. С Владыкой мы скорей идем в парную. А вы, бесстыжие, отстаньте от меня. Марш одеваться! Скоро Новый Год. Пора за стол садиться будет скоро, – и по задам пришлепнул их маленько. Завизжав, они удрали, задами голыми сверкая вполутьмах.
Меж тем в парной была у них беседа. Владыка спрос надумал учинить. Полипий отвечал без подготовки: «Машины вышли. На границе будут к вечеру в четверг. Две фуры под завяз забиты спиртом, а в документах значится – военный груз. С таможней Аристарх договорился – пойдут через таможню без проверки. А завтра выезжает на границу патруль ГАИ из двух машин сопровожденья, а также отделение солдат в машине с командиром – и приказ им оружие, если надо, применять. Потом, на месте здесь уже заменим бумаги – на „гумпо“ на нужды церкви. Спирт – на завод, где будет без учета разлит на водку. Марки – есть, наклеют. И – на продажу, деньги – на „помойку“. Милиции, военным и таможне, а также налоговикам – по десять тысяч. За водку четверть – директору завода. Мне, вам и губернатору – по сотке, плюс десятина Вам на нужды церкви, еще банкиру за отмывку пять процентов». – «Ты что, с ума сошел? Трех для него довольно. Да и Колька пусть нас не грабит. Четверть ему! А может, сразу половину, или все? Ты вот что – завтра утром собери в епархии их всех на совещанье. А щас – покличь Петра», – «Я мигом. Петр Петрович! Пожалуйте в парилку, вас Владыка желает видеть и зовет сердечно». – «Да жарко там. Я лучше тут, при бабах. Идите лучше к нам сюда, в бассейн». – «Петр Петрович, на минуту. Владыке нужно кое-что спросить». – «Иду. Ну что?» – «Закрой-ка, Липка, дверь. Ты вот что, Петь, скажи, когда подпишешь лицензию ты нам на казино?» – «Да подписал уже, она в работе. Управделами выпустит на днях. Так что гоните бабки». – «Ты в деньгах не зарывайся, все получишь, и долю, но – с дохода только». «Какой Владыко жадный». – «Не жадный я, а просто экономный, ведь денежки, известно, любят счет». – «Пошел я, жарко тут у вас – как в бане». Петрович вышел. За ним Полипий было, но Владыка его остановил: «Послушай, Липка. Что же делать с ним – с „писателем“, имею я в виду? Я покажу тебе последний пасквиль. Его мне переслали из газеты. Название, гад, придумал: „Джип небесный“. Я как-то говорил в кругу поповском, что новый „Лексус“ епархии подарен от „Газпрома“, за освященье храма, построенного ими для себя. И вишь ты, он там нравы критикует: живем мы, мол, в отрыве от народа, и к власти льнем, а деньги у богатых берем бандитским нажиты путем. Что скажешь?» – «Ничего теперь, Владыко. В руках у нас он. Смерть дочери его, хотя, случайна, но не было б ее – придумать нужно такое вот, и – Господи, прости! По правилам церковным должен он извергнут быть из сана, как убийца. И суд церковный пусть решает это, а Патриарх решенье утвердит». – «Но не усмотрится ли в этом месть, расправа? Формальный повод есть, но впрямь тут горе… Не знаю, право, как теперь и быть». – «Враг церкви он, и подлый соблазнитель. Бог наказал его за то, что стада нашего он вредный расхититель. Ему сочувствовать мы можем, но должны пресечь соблазн. Пускай один погибнет спасенья ради остальных – в том долг Первосвященника, Владыко, который за народ в ответе перед Богом». – «Быть посему. Ну что ж, пора за стол».
За стол садилися, в чем были – в простынях. Веселья гомон, стук ножей и звон посуды. Вот пробка хлопнула, другая – ударила шампанским в потолок. Веселье пьяное, на красных лицах, распаренных телах – пот бисером, а то ручьями. Жарко. И пить так хочется шампанское со льда.
– Минуточку внимания! Владыко! Прочти молитву нам, и стол благослови!
– Здорово, други и другини, всем вам. За стол садясь, молитву сотворим. Однако, нет доходчивей до Бога молитвы, сотворенной на грудях. Ведь женской грудью той не то, что люди – Сам Бог не брезговал, известно, грудью Девы. Женщины – ко мне! В ряд места займите. Откройте грудь, молиться будем вместе. Мужчины – лоб крестите на икону, а не на женщин пяльтесь, срамники. Итак, благослови нас, Отче наш.
За стол садились, стульями гремя, спешили наливать себе, соседкам, которые присели без разбора – к своим или чужим мужьям, кто как попали. Ухаживать за дамами сердечно всяк рад был, и обнять их, и погладить. Никто из жен, мужей, забаву эту, невинную, заметив, не сердился, но забавлялись тем же с тем, кто рядом. Однако, здесь измен не одобряли, распутство было не в чести, и каждый, если изменял (иль изменяла) – то только на сторону, но не в кругу привычном.
– Налили всем? Куранты бьют на Спасской. Всех с Новым Годом, выпьем же за счастье, что есть у нас – и нового не надо, – так губернатор поздравлял собранье, с монашкой обнявшись вполне по-братски, в то время как Владыка рядом с ними рукой свободной обнял плечи «леди».
Полипий встал.
– Внимание, господа. Налейте дамам. Тост второй поднимем вслед за первым так, чтоб пуля не успела пролететь меж ними – наш таков обычай. Итак. Прошу взглянуть на герб российский, который украшает стену ту, что во главе стола, и под которым видим двух мужей достойных в окружении не менее достойных милых их подруг. Я в виду имею тех из нас, кто титул превосходный носит: Вас, Преосвященство, а также – Само Превосходительство. Две главы герба – двуединство власти, духовной и мирской – зрим пред собою за столом сегодня. Их любовь взаимная связует, а преданность обоим этих женщин воистину скрепляет власть в едину плоть, которой на гербе мы видим символ. Так выпьем за Россию, все которой мы часть такая же, как плоть от плоти – дети. Спаси вас, Боже, божьи детки все вы.
– Алаверды позвольте мне, отец, – монашка поднялась ему навстречу, идущему, чтоб лобызаться с ними, – тост третий за родителей положен. Заметить я должна, что наш Святитель – монах, как быть должно согласно чину. Он Богу в жертву себя принес, и обещал не заводиться семьей с ее утехой чадородства. Он истый наш отец, а все мы – дети. Служить должны отцу мы все с почтеньем, всяк отдавая лучшее ему – до жизни, как свою он предал Богу. И для меня, монахини, нет лучше, почетней и важней ему, как Богу, служить собою всей. И всей собою ему принадлежать, душой и телом. И то же быть должно мечтой всех женщин. Ты, милая подруга – обратилась к «первой леди» сидевшей на коленях у Владыки, – со мною разделяешь этот крест. Я ж, утешая мужа твоего, служу Владыке, как Богу, послушаясь по обету во всем, что он прикажет, как собака. И не стыжусь того, и не ревную, как женщины другие, что считают своею личной собственностью мужа. И в этом – сила власти, во едину плоть слившая всех нас – ей служим все мы. Ведь наша власть – от Бога, прав Апостол. Я батюшку благодарю за тост – и, право, его я поцелую, как в Писании – лобзанием духовным и невинным. Ты, Сонька, не ревнуй, – и пала Алипию на грудь, чтоб целоваться. Тут все друг с другом стали лобызаться, и пить тот тост, и здравицы кричать не в очередь, без всякого порядка.
– Гасите свет. Пускай зажжется елка, – и елочка зажглась, а также свечи, при которых в неверном теплом и дрожащем свете продолжился веселый шумный ужин.
За шумом не заметили, как двери тихонько открываются из залы, которая на улицу выходит. Полипий в это время, случайно оглянувшись, обомлел: от двери шла фигура, будто призрак – в островерхом, белом, как саван, балахоне, лицо скрывавшем, и на плече с косою, блеснувшей мрачным красноватым светом. Невольно он перекрестился, вспомнив сон. Спросил, наверно, через сотню лет, не меньше, и с голосом не справившись, хрипато: «Кто это?», – у своей соседки Тони, лёниной жены, сидевшей между ним и генералом, все норовившим пальцами забраться куда не нужно ей, и в этом смысле козой, состроенной из пальцев, ей грозившим. Все застыли, молчанье вдруг повисло над столом. В тишине фигура бесшумно подплывала ко столу, а Тоня, вставши вдруг, пошла навстречу. И – обняла бесстрашно балахон.
В это время, испуганный явленьем, вспыхнул свет. При свете все нестрашно стало сразу. Балахон халатом оказался не по росту. А коса вид приняла естественный той палки, на которой прибита стрелка жестяная с надписью «гараж» (в снег воткнута слугой была у въезда для шоферов – на случай, если кто сюда впервые привозил хозяев). За руку, небольшую, в не по росту халате, фигурку Тоня, подтащив к столу буквально, сказала всем:
– Знакомьтесь, господа. Племянница родная, из Ростова, дочь лёниной страдалицы- сестры. Еще подросток, но уже девица. Соскучилась одна, и вот – пришла.
– Мне было страшно, тетя.
– А откуда эта палка?
– Из снега дернула, отбиться от собак. Я испугалась, – и лицо открыла, отбросив на спину вначале капюшон, а вслед за ним – мешающие волосы с лица, движеньем женским, грациозным и привычным, которые, взметнувшись цветом меди, на плечи пали огненной струей, лицо открывши, все в веснушках нежных. И Полипий оторопел вторично – как будто перед ним явилось воскресение из мертвых. То нежное лицо являло лик столь дорогой, желанный – и точной копией того лица являлось. Лишь волос огненный являл собой отличье, да веснушек россыпь, а также и глаза – у этой были зелены, как море – у ведьмы, воплотившейся из сна. И снова страх волною окатил, в которой были вместе лед и пламень. «Погибель, вот она – ведь это смерть с косой, знаменье Божье, Господи, помилуй!». А гости, зачарованы красою девицы юной, как один молчали. Наконец, тишину нарушил, поднявшись с места, Господа Святитель. «Девица, подойди», – промолвил он, и неревнивая монахиня взглянула на него всем женщинам понятным молниеносным взглядом, а затем, в упор – на то дитя, как будто бы не взор, а в грудь метнувши ей булат смертельный.
Куда девался страх – свободно шла, и улыбалась всем гостям приветно: «У вас так весело, а мне одной так грустно…».
– Откуда ты, прекрасное дитя? – Я с мамою жила, теперь – у дяди. Лет мне шестнадцать, я в десятом классе училась в школе.
– Вдалеке живем от школы, Владыко, мы теперь в своей деревне. И потому просила я подругу принять ее до лета у себя, где школа рядом с домом, и отменный притом лицей для избранных детей. Согласен муж ее – отец Полипий – по доброте своей он нам не отказал. Еще не говорил с ней, но крестить собрался ее он.
– Владыко, я ведь…
– Погоди, отец. Девица, ты желаешь, крестившись, и веру православную приняв, стать дочерью названой в том семействе, где будут рады полюбить тебя, как дочь? У батюшки и матушки есть сын, который, семинарию закончив, жениться должен для принятья сана – и Бог жену ему послал сегодня, красавицу отменную притом. Согласны все?
– Владыко, я согласна, – лобзала на коленях Сонька руку, когда родные, видно, сомневались («ведь молода еще, шестнадцать только»)
– А ты, девица?
– Я ж его не знаю, не видела пока – и сразу замуж?
– С Святителем не смей так говорить. Иди под благословенье, дура, упустишь счастье – после не вернешь, – шипела в ухо ей монашка, и покорно сложив ладошки нежные крест-накрест, она склонилась, крест принять согласна, и он, ее крестя, не удержался как бы нечаянно грудей ее коснуться, и в пазуху поглубже заглянуть, когда она к нему главой склонялась.
– Ты что, отец, сказать все порывался? Иль, может, нехорош тебе мой выбор для сына твоего, для Александра? Иль недоволен, чай?
– Премного благодарен я, Владыко, такую милость получив нежданно. Пророчество святительское свято. Но я, – хотел сказать он «откажусь», да губы будто одеревенели, и только смог произнести «согласен», хотев бежать, куда глаза глядят.
И был вечер, и было утро – день второй
Беда
Если бы лет десять назад Сергею Ставродьеву сказали, что он будет когда-нибудь священником – да что священником! – хотя бы просто в Бога уверует и в церковь станет ходить молиться – он бы просто в ответ, конечно, рассмеялся. Однако, сегодня это уже не только не казалось ему смешным – ему вовсе было не до смеха.