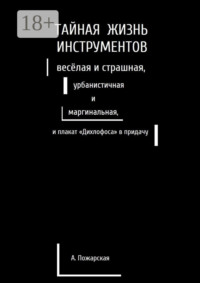Полная версия
Записки с Белого острова

Алина Пожарская
Записки с Белого острова
Пускай биографы дуют пожар мировой,
под микроскопом изучая нас с тобой.
К. МоревПосвящается Олесе Леонидовне Егоровой
Часть 1. Сторона «Б»
Новая жертва
Остров отделён с востока поймой, с юга и севера рекой, а с запада МКАДом. Почему не Полуостров, а Остров? Потому что МКАД – это та же вода. Посмотри, и убедишься.
(Да и звучит «Остров» более гордо.)
* * *– Я тебе кассету принёс, – сказал Седов. – Там, правда, плёнка помята на седьмом риффе седьмой песни на стороне «Б».
– То есть, – сказала я, – мой магник её зажуёт?
– Не боись, – ответил Седов. – Может, так всё и начинается.
Я принесла кассету домой и вставила в магнитофон. Олег, мой семилетний брат, в это время плавал в бассейне. Скоро он вернётся с недосушенной головой, поставит себе ирокез на тоненьких среднерусых волосах и будет говорить, что попсу не слушает.
Я лежала на красно-белом матрасе и чувствовала, что меня куда-то уносит. В голове это так и нарисовалось: какие-то вулканы, пучина бездны, космос над головой и я, как дура, на красно-белом матрасе.
Я думала о том, как случайно промахнулась на «бутылочке». До этого года мы играли в «казаки-разбойники», но Толя Рахматуллин знал болевые точки, и победить его не было никакой возможности. Тогда появилась «бутылочка». Однажды мне выпало поцеловать Седова в щёку. Я подпрыгнула: Седов меня на голову выше.
«Э-э, – сказал Седов, – Акела промахнулся».
И вытер мизинцем рот.
«Знаете что? – сказала я. – А ну вас всех. Лучше в футбол давайте».
…Я встала, достала пустую кассету, вставила во второй кассетник и нажала «запись». Записала сторону «А» и спрятала свою кассету под кровать.
Щёлкнула дверь. Дедушка Женя привёл Олега.
– Что ты там слушаешь, Алинька? – спросил он. С ударением на первый.
– Ничего, – ответила я.
– Это, – сказал Олег, – грайндкор какой-то!
– Сам ты грайндкор, – сказала я. – Это группа «Ария»!
Олег пригладил было волосы, потом спохватился, взъерошил их обратно и многозначительно посмотрел в сторону комнаты.
Почему грайндкор-то? И что это так шумит?
Тут до меня дошло. Я кинулась к магнитофону.
– Женщина имеет право на нежность, – сказал дедушка. – На эгоизм. На многое. Алинька, ты чего?
Я выдернула вилку из розетки. Олег взял со стола буклет.
– «В поисках новой жертвы»? – Кассета была пиратская, но все тексты песен на буклете имелись. – Вот тебе и жертва.
– Кто жертва? Магник?
– Дура, при чём тут магник?
– Ну и сам дурак, – ответила я. – Лучше тащи отвёртку.
– Алинька, – сказал дедушка. – Я пойду. Не забывай про нежность. Отвёртку Олегу оставь.
Дедушка ушёл, а мы принялись извлекать кассету из пасти старого магнитофона.
* * *В школе Седов подбежал ко мне с альбомным листом, где его корявым почерком, с продавливаниями, был выведен заголовок его новой поэмы: «Шайтан-мышиная возня». По периметру листа шли жёлто-красные линии, призванные изобразить, наверное, огонь. Даже в этих линиях безошибочно угадывался седовский почерк.
– Свежак тебе принёс почитать, – сказал он. Но я была совершенно убита.
– Тим, – сказала я. – Вот твоя кассета.
В коробочке рядом с кассетой лежал аккуратный моток блестящей коричневой ленты. Олег вчера предлагал завязать бантик, я зашикала на него и отказалась.
Седов по-старушечьи всплеснул руками, забрал кассету и со всей дури меня о́бнял.
– Ты чего? – спросила я. – Я зажевала твою кассету!
– Ты дослушала до седьмого риффа! – ликовал Седов. – До седьмого риффа седьмой песни стороны «Б»!!
– Ага, – сказала я. – Седьмой рифф седьмой песни стороны «Б». Седьмой урок седьмого «Б» класса. Прямо про нас с тобой.
Седов не слышал, он задыхался от счастья и махал «Шайтан-мышиной вознёй» у себя перед носом, как будто веером. «Сие полночный бред воспалённого разума», – успела я прочесть в самом верху листка.
Придя домой, я достала из-под кровати кассету, на которую записала сторону «А», и поставила на видное место. Потом сгребла со стола другие кассеты и спрятала под кровать.
Два Евгения
Когда говорят «пошли вниз», то ясно, что имеют в виду. «Пошли вниз» – значит пошли к полю, к пойме. Пойма для Острова – это море. От неё идут метры в высоту.
В любой непонятной ситуации иди к пойме. Сядь у берега, вдохни запах подтухшей водички, полюбуйся на пиявок и людей. Пойма – твоё место силы. Она фигни не посоветует.
* * *Сегодня знаменательный день. Наш класс проявил редкое чувство коллективизма.
Мы коллективно провинились.
После второго урока предстояла уборка школы и двора. Мы спросили классную: можно ли прийти сразу в рабочей одежде?
– А бог с вами, – ответила Елизавета Ивановна. – Приходите.
А на пороге оказалось, что нельзя. Директриса, одной рукой подперев мощный бок, другой рукой отлавливала каждого нашего.
– Кто разрешил? – долетало с первого этажа до старшаков на третьем. – Почему девочки в штанах? Почему мальчики в джинсах?! Это вы на урок собрались? Бестолочи!
Диреша орёт даже тогда, когда хвалит. «Молодец, Петя Шпулькин! Вот это правильно!» – к примеру, говорит она, и Шпулька от страха держится за пуговицу на воротнике.
…Мы сидели рядком на скамейке позора на первом этаже. Надя Беркут расплакалась от несправедливости.
Толя присел рядом на корточки и сказал:
– Ну ладно тебе. Давай анекдот расскажу? Тошнилку! Короче. Входит стюардесса в салон и видит: один блюёт, все смеются. Что случилось? Да вот, видимо, съел чего не то. Ладно. Через пять минут снова заходит и видит: все блюют, а тот смеётся. Что случилось? Да вот, пакет заполнился, ну я и отхлебнул маленечко.
Надя засмеялась сквозь слёзы. За окном начало светать.
* * *– А пойдёмте тусить! – первой предложила Маринка, наша староста. Маринка, будучи главной общественницей, всегда чувствует веяния. И сейчас ничего лучше она предложить не могла.
– Правда, погнали. Пошли они со своими претензиями.
– Пусть баба Фрося школу моет!
Мы встали и вышли из школы. Диреша уже была в учительской.
Я ещё успела постучаться к Наталье Петровне, литераторше. Мы начинали с ней смотреть «Гамлета» Дзеффирелли, а сегодня перед уборкой собирались продолжить. Наталья Петровна высунула в дверь светло-жёлтую стриженую голову и сказала:
– Погоди, Алинка.
Скрылась и появилась снова, с кассетой.
– Это чтоб вы чего другого не делали, – пояснила она, – а посмотрели кино.
– Спасибо, Наталья Петровна, – ответила я.
Но перед фильмом мы всё-таки свернули к Малой косе. Там сейчас было хорошо.
Я только сейчас заметила, что Большой Женя носит костюм и галстук. Так он всегда ходит в школу и даже гулять.
– Жек, – сказала я, – ты совсем обдолбанный, что ли?
Большой Женя внимательно глянул на меня с высоты роста, устроил могучие плечи поудобнее в пиджаке и спросил:
– Беляева, тебе чего?
– Слушай, – сказала я. – Ладно на уроках. Ладно даже на тусе. Это, в конце концов, необычно. Но убирать-то как?
– А я и не собирался так убирать, – спокойно ответил Большой Женя. – Я рабочий костюм с собой взял.
– А чего с нами сидел? Ты-то не нарушал внешний вид!
– Мне одному скучно, – сказал Большой Женя тоном, дающим понять, что дискуссия окончена.
* * *Над Гамлетом мы тоже рыдали коллективно. Завалились к Наде и пырились в телик не отрываясь.
– Ладно вам, – сказал Большой Женя. – Очередная голливудщина. Пойду с молочным пакетом поговорю.
Я пошла вслед за ним. Большой Женя умиротворяет, а его беседы с молочным пакетом наполнены светским лоском и пищей для ума.
Он достал из мусорки пустой молочный пакет, взял ножницы, отрезал пакету дно и просунул туда руку.
– Привет, молочный пакет, как дела?
– Всё просто замечательно, – шевеля губами, ответил молочный пакет голосом, подозрительно похожим на Женин.
– Какая ж это голливудщина? – сказала я. – Франция, Великобритания. Итальянский режиссёр и Гибсон, считай, ирландец.
– Беляева, – ответил молочный пакет, – не говори ерунды. Голливудщина – не в стране она, а в мозгах.
– Жек, а почему ты только с молочными разговариваешь? – спросила я. – Почему не с кефирными, например?
Большой Женя и молочный пакет переглянулись и оба воззрились на меня с немым укором.
– Беляева, – сказал, наконец, Большой Женя. – Ты думай, что говоришь. Кефирные пакеты наглые и циничные. И в политике ни черта не разбираются.
* * *Дома я рассказала обо всём дедушке Жене. О том, что заставляют убирать школу, но при этом надо прийти нарядными.
Дедушка пристально посмотрел на меня тёмными раскосыми глазами. Цвет я от него не унаследовала – у меня серые, – а вот раскосость, пожалуй, немного есть.
– Во-первых, – ответил он, – женщина должна быть нарядной всегда.
Дедушка Женя военный в отставке. Со мной и Олегом он сидит, пока мама в редакции. Читает нам Гоголя, Сент-Экзюпери и Искандера на разных голосах. Ещё мы играем в буриме и стихи по первой строчке.
Одно такое стихотворение получилось у меня особенно удачно. Одно такое стихотворение начиналось со строчки: «Бежит по улице корова». У меня получилось вот что:
Бежит по улице корова,Пятнистая, рогатая,Кричит нам: Девочки, здоро́во!Как вас зовут? Агата я!Сейчас дедушка готовит к печати книгу стихов и поэтому нервный. Караулит меня из окна, ругается, если иду через гаражи, кормит маковыми рулетами и рассказывает про политоту.
– А во-вторых, – продолжал он, – виновата не классная. И не директриса. А виновато государство.
Я разогревала ужин и слушала дедушку. Чувствовала себя молочным пакетом. Благо дедушка тоже Евгений.
Давай не поедем на радиорынок
Мы с Седовым продолжали обмениваться кассетами. Однажды, это был четверг и альбом «Айрон Мейден», я вырвала из тетради лист в клетку и начала писать.
«1. Moonchild. Перепиши текст в тетрадку и напишешь потом хоррор-поэму по мотивам.
2. Infinite Dreams. С 1:45 начинается качалово. Заранее возьми в руки валик, как раз окно помоешь, пока руки танцуют.
3. Can I Play With Madness. Вот тут валик лучше отложи, а то есть риск вывалиться во двор.
4. The Evil That Men Do. Можешь поздравить: у меня появилась Самая Любимая Песня. Которую можно забрать на необитаемый остров вместе с перочинным ножом и одеялом.
5. Seventh Son of a Seventh Son. Ну ты всё понял. Седьмой урок седьмого класса.
6. The Prophecy. Тут, к сожалению, звук как из сортира, но эстетических достоинств песни не умаляет.
7. The Clairvoyant. Расколбас – с 2:00.
8. Only the Good Die Young. Грустная песня. Ну ты по названию видишь.
Слушай, дерзай и жги!»
После этого я аккуратно сложила листок и сунула его в коробку из-под кассеты. Утрамбовала саму кассету и всё это назавтра принесла Седову.
На следующий день он, ни слова не говоря, вручил мне альбом Сагадеева. Хотел что-то сказать, но почесал ручкой за правым ухом, на мгновение сделав его почти таким же оттопыренным, как и левое, улыбнулся и ушёл.
Дома я нашла рядом с Сагадеевым бумажку.
«Каменты огонь! – было написано невыносимым седовским пером. – Вот этот может показаться грубым, но концепцию чувак тянет!»
Я улыбнулась.
– Что за фигнюлька? – спросил Олег, зайдя в комнату и посмотрев мне через плечо.
– Фигнюлька, – ответила я, – это ты. А мы новый способ коммуникации изобрели.
Олег на «фигнюльку» не обиделся. Я сказала это очень нежным голосом.
– А как же аська? – уточнил он.
– Иди домашку делай! Много ты понимаешь! Аська…
* * *С тех пор у нас началась Великая Кассетная Переписка. Помимо комментариев к трекам, там было ещё много чего.
«А мы со Стасом у меня зависли, жаль, тебя не было».
«Слыхала? Витю-панка побили рэперы! Но вроде не так прям чтоб жесть была».
«А мы Металлику на кастрюльках сыграли! Чем богаты, тем и рады!»
«Моей маме Мейдены понравились! Моя мама тру!»
«Купил казаки, а они жмут, заразы. Красота требует сами знаете что!»
Однажды после школы я зашла за Седовым: мы с ним, Федей-ботаном и Стасом Неотмиркиным собрались на наш первый концерт в Лужники. Седов волновался, как Наташа Ростова перед первым балом. Долго выбирал футболку и причёсывал то, что в будущем должно стать бакенбардами в стиле Хэтфилда.
– У меня для тебя кассета, – сказал он, – но давай как вернёмся. А то шмонают.
– И что? Кассету зачем отбирать? А отберут – доброе дело сделаем. Охрану к музыке приобщим.
– Ну нет, – ответил Седов и почему-то побледнел.
* * *Мы прошли кордоны и забились на верхотуру. Там были сидушки, но нас это, разумеется, не волновало. Мы стояли и радовались тому, что денег у нас было только на галёрку. А то бы мы были внизу, а так – наверху.
– Девочки! – раздался сзади голос. – А ну-ка сядьте! Не видно из-за вас ничего!
Через два пустых ряда от нас сидели три тётки. У них были химические кудри и строгие лица.
– Хорошо, – ответил Федя-ботан, поправил очки и улыбнулся пухлой нижней губой.
– Как скажете, – ответил Седов.
– Они ещё и вежливо аплодировать будут, – сказал Стас Неотмиркин. Больше он ничего обличительного сказать не успел, потому что вышли музыканты. Стало темно в зале и светло у людей в головах.
К Кипелову у меня нежные чувства, без всякой гендерной ерунды. Почему-то он успокаивает. С остальными покажет время: дай бог, концерт не последний.
Я вдруг поняла, что знаю наизусть все песни: «Мёртвая зона», «Кастельвания», «Следуй за мной» и так далее.
– Молодые люди! – крикнули сзади на «Смутном времени». – Сказали же! Сядьте!
Поскольку тётки в этот раз сказали «молодые люди», ответить решила я:
– А вы сами встаньте!
Больше мы ничего не слышали. Я трясла хайром и ждала, когда же за нами придут. А на «Пути наверх» Федя тронул меня за плечо и мотнул головой назад.
Я оглянулась. Над нами возвышались тётки. Они стояли, танцевали руками, сжатыми в кулаки, и трясли химической укладкой. Одна сняла пиджак и была в кружевной маечке на бретельках.
* * *На обратном пути Федя-ботан предложил сесть, а Седов, Неотмиркин и я ощутили потребность полежать на брусчатке.
– А хорошо, – сказал Федя, – что наши больше с нашими не дерутся. Это мне брат про Алису рассказывал. Наше, говорит, поколение более удалое. Без «розочки» на концерт опасно было ходить.
Я вспомнила наших соседей сверху. Они ведут себя примерно так же, только «Алису» не слушают.
– Теперь это так называется? – спросила я. – Удалое?
– Ага, – сказал Седов. На слове «Алиса» он почему-то побледнел опять. – Мало нам рэперов что ли?
– Тебе бы хайр пришлось отращивать, – сказал Неотмиркин Феде. – Насилие над собственной личностью, все дела.
– Айрон Мейден, – сказал какой-то парень в камуфле, глядя на картинку у меня на груди. Показал «викторию» и пошёл дальше.
Вечером я сняла айронмейденовский балахон, надела сиреневую ночнушку, села по-турецки на кровати и раскрыла листок из кассеты, которую я только что забрала у Седова. Первым, что бросилось в глаза, было количество многоточий. Как будто путник шёл через весь лист и оставлял следы. И время от времени выводил корявые буквы длинной левой ногой.
«Ну да ладно, – писал Седов, закончив со всеми сплетнями и обсуждением наушников и косух. – Как там поётся у классика, мне по барабану вся эта муть. А мне сейчас всё муть, кроме одного… Короче… что хочеш со мной делай… можеш убить… Но люблю я тебя, и всё тут!»
Последняя фраза была несколько раз обведена синей ручкой, чтобы получился как будто жирный шрифт. Читать я продолжила через минуту.
«…И если тебе есть что мне ответить, то просто скажи, что поедешь со мной на Митьку – примочку выбирать…»
Митинский радиорынок – открытый, борзый и бесконечный. На Черкизон ездят за одеждой, а за всякими запчастями туда.
– Чего в глаз светишь? – спросил из-под одеяла Олег, зажмурился и действительно посмотрел на меня одним глазом, как моряк Попай.
– Ты прав, – сказала я и выключила лобный фонарик. – Аська всё спасёт.
Я пробралась в мамину комнату и включила комп, мысленно ругаясь, чтоб он не гудел. И написала Седову вот что:
«Не знаю, что тебе и сказать. Но на Митьку поехали. Мы ведь друзья».
Ответил он там же, рано утром, ещё до школы.
«Нет… Тогда вообще не надо никуда ехать… И никуда идти…»
В школе мы не разговаривали. Началась тишина.
Кровавый синдром
Все говорят – море, море… А тебе у моря одиноко. Впереди только скучная прямая линия. А тут сидишь – и многоэтажки тебе, и лес на горизонте. Всё вместе похоже на звуковую дорожку. Или на кардиограмму, раз уж такие у вас дела.
Пусть аритмия, но только бы не прямая, только бы не прямая, только бы не прямая линия.
* * *Я аккуратно сложила тетрадки на угол стола, взяла рюкзак и вышла из дома. Прошла гаражи и отправилась в сторону, противоположную школе. Я шла к воде.
На мне были драная юбка и балахон с Эдди. Облачение, которое директриса всё равно бы не поняла.
На полпути я сделала привал: уселась в детские качели и открыла «Отверженных» Гюго на французском.
Когда Жан Вальжан удочерил Козетту, я встала с качелей и отправилась вниз.
Дошла до того места, где дальше – только вплавь. Там узенький пролив, за которым начинается Серебряный бор. Люди несведущие говорят: поехали в Сербор, он же у вас под боком! Ага, отвечаем мы, шлюпку нам пригоните.
Здесь темно, пахнет мокрым сеном и видно дебаркадер.
Я думала о Седове. Как так получилось, что я потеряла друга.
Седов сам принёс в мою жизнь такое явление, как френдзона. Принёс и сам торжественно вписался первым.
И первым оттуда ушёл…
Со стороны дебаркадера смеялись. Там иногда собираются компании – для изучения английского, кабинетных ролёвок и прочих важных дел.
Я смотрела на воду.
В два часа пришли какие-то люди и устроили у пролива пикник. Я нашла в сене большой камень, встала и с камнем в руке вышла из зоны пролива.
* * *Вернувшись, я застала маму в истерике.
– «Кровавый синдром»! – повторяла она сквозь слёзы. – «Кровавый синдром»! Я просыпаюсь, а её нет!!
– Какой кровавый синдром? – переспросила я и только сейчас увидела, что стопочка моих тетрадок в углу стола раздербанена.
– Это текст песни, блин, – терпеливо пояснила я. – Брала у Стаса переписать. А то, что прогуляла, – так это просто совпало. Чего нагнетаешь?..
Со Стасом Неотмиркиным у нас френдзона, по счастью, взаимна.
…Олег обнимал маму и таращил на меня левый глаз. Видимо, думал, что так получается устрашающе.
К вечеру мама успокоилась.
– Аля, иди нафиг, – сказала она. – Я всё же куплю тебе телефон, и ходи с ним, как дура. Если не можешь по-хорошему.
От телефона я отбрыкивалась до последнего. Мне он казался чем-то вроде гирь на ногах. Нагнетанием атмосферы в драме жизни. Тучей над хайрастой головой.
На следующий день выяснилось, что Седов собирается валить из школы в лицей.
– А сам ты не мог об этом сказать? – спросила я. Седов был небрит и неприступен.
– Ну тебе же передали? Человек восемь?
– Ясно, – ответила я. И пошла домой. Там меня ждал дедушка, строгий и грустный.
– Я всё знаю, – сказал он. – Ты уже начинаешь портиться.
– Никуда я не порчусь. Седов в лицей уходит.
– Я тоже скоро уйду, – сказал дедушка. – И что теперь?
– У тебя дела? – спросила я. Дедушка Женя отмахнулся.
– Уйду, – сказал он, – я не об этом.
Философы со двора
Между поймой и дворами – поле. Промежуточный пункт. Перепутье.
Место, где можно бегать и орать.
* * *В чеканку мы Стопаря ободрали.
Началось лето, а летом у нас начался футбол. Благо Седов в него не играет.
У девчонок с чеканкой оказалось лучше, чем у парней. Мы с Марой и Таей чеканили раз по девяносто: Мара в узких тёмных джинсах, Тая в голубых джинсах брата, я в старых физкультурных штанах. Один не в моде, девять сгорает. Стопарь с трудом дочеканил до девяноста восьми.
– Видали? – крикнул он и торжественно пульнул мячом в небеса.
– Э-э… – сказала Мара.
– Ты что сделал?! – спросила Тая.
– Стопарь, – сказала я, – девять вообще-то сгорает.
Настала тишина. Где-то далеко от нас мяч шлёпнулся о землю.
– А-а-а! – донеслось до другого конца Острова.
– Нафиг ты девяносто девять чеканул? – допытывалась я.
– А-а-а-а-а! – орал Стопарь. В этот момент он был выше самоанализа.
Так вот: в чеканку мы его ободрали. – Зато я вас в футбол сделаю, – причитал Стопарь и танцевал на тощих ногах великий танец досады.
Но горевал он недолго: мы сжалились и согласились на навес, квадрат и прочее. Стопарь воскрес моментально.
– Давайте! Навес! Опа-па! Это называется «полное незнание техники футбола»! Анри! Не спи! Канделя! Прими на́ бошку! Бартез Косая Нога! Зида-а-ан!
Мара у него была Канделя, Тая – Анри, я Бартез Косая Нога – глазомер ещё не выработала, – а сам он, конечно, Зидан. Иногда, в моменты скромности, – Нигматуллин[1] .
* * *Так у нас воцарилась гармония во дворе. Но Мачо Ермоленко с другого двора это не нравилось.
– Ну что вы можете? – сказал он мне, когда шёл домой через наш двор. – Вот я, например, в секцию хожу.
– Ну и ходи, – ответила я. – Микроскоп дать? За нами, инфузориями, наблюдения вести.
– И вообще это, – добавил Мачо, – не бабское дело. Это я тебе доверительно говорю. Как товарищ.
Я наклонилась к Мачо вплотную. Доверительно. Как товарищ.
– А помнишь, – сказала я, – как ты пришёл к нам в третьем классе?
Мачо тут же сник и замолчал. И превратился обратно в Димочку-ребята-познакомьтесь.
А дело в том, что в третьем классе завуч привела к нам пацанёнка Диму с серыми волосами и высоким лбом. Дима приехал с родителями из Ленинска-Кузнецкого, перескочил к нам сразу из первого в третий класс и весь день горько плакал от стресса, вызванного внезапной сменой детского коллектива. Мачо он стал далеко не сразу. И то благодаря тому, что, к примеру, Ирка-модель, которая пришла в пятом, об этом не знала.
– Беляева, – с достоинством сказал Мачо, – ладно, оставим этот разговор. Но не потому, что я испугался. А потому, что это запрещённый приём.
И шмыгнул носом.
* * *Из ржавых хоккейных ворот под липами мы выросли.
– Спасибо вам, родимые, – сказал Стопарь, – Беляева, и ты пару слов скажи!
– И простите, – добавила я. – За то, что столько через себя пропустили.
Стопарь два месяца тренировал меня в воротах. «Замену себе готовлю», – важно пояснял он, втягивая и без того тощий живот. Штрафные Стопарь называл почему-то буллитами – видимо, хоккейные ворота способствовали. А иногда мы шли в поле, где он показывал, как подать через голову. «Для этого надо упасть. На спину!» – орал он, задирал ногу, делал подачу и с видом храброго воина бухался на траву.
– И что же теперь? – спросила я, когда мы закончили все церемонии.
– Да вот же, – сказал Стопарь, – два дерева стоят. Всяко на футбольные больше похоже.
Мы со Стопарём сразу встали каждый в свои ворота. Мара пошла к Стопарю, Тая ко мне, и в довесок – Санька Идрисова, с прозвищами «Арка» за длинные ноги и ещё одним по фамилии, не очень вежливым.
– Я не могу больше! – крикнула Санька на счёте 7:7, когда Стопарь в седьмой раз натянул футболку на лоб и пробегал по полю круг радости. – Играйте без меня!
– А ну стоять! – Стопарь выглянул из горла футболки, став похожим на Таину черепаху. – Арбитром будешь!
– Я не умею!
– Бегай, свисти с умным видом и счёт объявляй!
На том порешили.
– Что, гол, что ли? – кричала Санька, делала рукой козырёк от солнца и вприпрыжку бежала к нам.
Потом она научилась подслушивать, что говорит Стопарь, и дело пошло куда лучше.
– Что, угловой? Угловой! – громко объявляла она для всех.
Тут на пригорке показались белые шорты, футболка с чёрно-красным узором и соломенная шляпа. Но это всё были разные люди.
– Это что за самодеятельность? – спросил Рыжий с чёрно-красным узором. Да, он тоже носил Айрон Мейден на своей рыжей груди.
– Это наши в футбол играют, – пояснил Мачо и подтянул белые шорты.
– Может, мы с ними? – спросил Гроб и снял соломенную шляпу. Очевидно, все они шли на пойму купаться.
– А, интеллигенция припёрлась! – заорал Стопарь. Гроб поздоровался с ним за руку.
– Короче, – сказал Гроб, – вы уплотняетесь, а мы втроём против вас.
Гробу и Рыжему по двадцать лет, поэтому они помнят слово «уплотняетесь» и могут играть против нас в одиночку, хоть в секции отродясь не ходили.