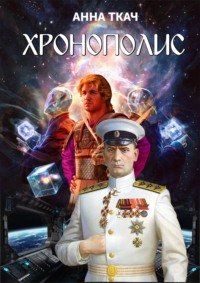Полная версия
Санчо-Пансо для Дон-Кихота Полярного
Вот что на это им ответить?.. Не подскажете?
– Правда?.. – без обиды на несправедливость судьбы, с одной готовностью поверить в чудо заглянул мне Виктор в глаза – У папы было ранение в голову… Вы бы правда… Смогли?..
– Наверное, тогда бы не смог, – повожу плечами. Не хочу знать, откуда явилось твердое понимание, что сейчас – сумел бы вне сомнения… И какой характер носило смертельное ранение капитана Колокольцева, догадываться не желаю тоже. Потому что знаю, что могу догадаться…
Словно чья-то ободряющая рука лежала на моем плече, а другая подносила к глазам Великую Книгу! И я уже учился читать Письмена, начертанные рукою Бога.
– Ты дал мальчику подержать хирургический нож?.. – еле слышно спросил у меня Колчак.
– Я его ему подарил… – развел я руками виновато.
Он покашлял в странной какой-то задумчивости, я подумать успел: не одобряет баловства. Да и понятно ему, что такое для хирурга нож… Сухие горячие пальцы, в темноте нащупав, жарко стиснули мне запястье:
– Тонняга (классный парень. Офицерский жаргон)… Знаешь, Самуил, когда меня к штурвалу впервые подпустили?.. Я чуть старше мальчика Жени был – двенадцать лет… Отец в Севастополь ездил к друзьям и меня взял… А на пароходе капитаном товарищ отцов оказался. Пароходик колесный, кливер еще при ветре подходящем распускал, представляешь… Гаджибеем звали… Как сейчас помню. Тяжеленько мне было его на курсе удерживать, взмок гимназистик…
– И… Что?.. – прервал я адмиральские воспоминания.
– И то… Пошел я в следующем учебном году на шкентель, – усмехнулся Колчак – поступил в Морской корпус то есть… Шкентель – это, братишка… – примолк выжидательно.
– Конец строя корабельной команды… Для юнгов, – не подвел я его. И взмолился: – Выбрось из головы тоску, а, Александр Васильевич?.. Душой прошу… Я уж ни о чем не говорю, что за жизнь будет хорошая… Пустыни садами процветут, на север теплые реки хлынут. Станет так, верю в это… Ты посмотри, какие мы с тобой! Знаешь, что с нами случилось?.. Наши души срослись неразнимчато… Куда ж я без тебя?.. Пожалей меня.
Со стонущим выдохом потянул Колчак мою руку – и я шмякнулся о его постель лбом, сползая с табурета на колени.
– Самуилинька, Самуилинька… – ворошил он мою непокорную шевелюру – что же это я?.. И вправду: как бы мне тебя за собою в расстрел не потянуть…
Это мы еще посмотрим, думаю.
Кто кого и куда потянет!
– Несбыточномечтатель ты мой… – закашлялся Колчак. А кашель у него означает в переводе на человеческий "сказать воспитание не позволяет, что я об этом думаю" – и кто бы говорил, то есть кашлял: сейчас все, что думает, выложит.
– Мой учитель… – не заставил он меня томиться ожиданием – барон Толль… Подгонял ездовых собак. Кричал по чукотски: впереди еда, впереди отдых… И собаки бежали быстрее… Хотя впереди ни еды, ни отдыха не предвиделось. Большевистские лозунги… Так похожи на понукание каюра… Самуил! – нервно дернул меня за чуб – Ты знаешь, что делают с выбившимися из сил ездовыми собаками?..
– Так ты ж просил вроде собак не пристреливать… – хмыкнул я довольно, потихонечку из железных адмиральских пальчиков выкручивая свои волосья. Вот привычка кошачья у высокопревосходительства… Вцепляется! На освещение тратиться не надо, из глаз искры сыплются. – Дай только срок, – говорю – мы города построим там! Ну, где сейчас только на собачьих упряжках. Он даже приподнялся.
– Где, в тундре?.. Там нельзя строить, – снова закашлялся – вечная мерзлота… не даст! И ее разрушение может нести необратимые последствия для совокупности живой и неживой природы высоких широт… Самуилинька, – прервал себя сам, враз охрипнув – потому что мы снова увидели мерцание сгущающихся звезд. Это было как порыв искрящегося ветра на сей раз, даже холодок дохнуло, помню, или просто озноб меня пробрал?.. И плыл на грани зрения прилепившийся к подножию голубовато-серых пологих горных громад немыслимый город из высоченных и разноцветных домов: розовые, салатовые, охряные – гладкие стены, огромные окна, плоские крыши без печных труб, с какими-то торчащими проволоками… На высоких колоннах стояли эти дома. Словно плыли в морозном тумане или шагали куда-то. Не к горам ли к тем голубым?..
А что за горами?
– Охотское море там… Это же сопки Тауйской губы, видишь?.. Перешеек между бухтами Нагаева и Гертнера… – пробормотал Колчак с рассеянным равнодушием практикующего географа – Самуилинька, мы ведь видим будущее?.. Кто мы такие, Самуилинька? Ты ведь знаешь?!.
Язык мой немедленно повернулся ответить вопросом на вопрос. Надо же его расшевелить, братца названного…
– А ты таки как себе думаешь, Сендер брудер?..
Добился – Колчак усмехнулся:
– Знаю я, знаю, что ты еврей, не напоминай… А что думаю… Лучше бы нам не расставаться, братишка, только ума не приложу как это сделать!
– Мы и не расстанемся, – отвечаю серьезно, он почувствовал тон мой, помедлил, колеблясь, но все же осторожно уточнил:
– На этом свете… И… На том – тоже?..
Смотрите-ка, а сообразительный…
Молча я склонил голову. Вот так, сам додумывай, если хочешь. Потому что душу выращивают, а не подсаживают чужой кусочек…
Православные размышлять не очень любят, правда. Или размышлять начинают с опозданием, вот адмирал у нас как раз такой любитель.
– Аа, – махнул отчаянно православный Колчак рукой – с тобой, братишка, хоть к черту в зубы!
Напрасно я, выходит, его хвалил…
– Ты бы, – говорю – хоть черта пожалел, бессердечный: зубы ведь обломает и подавится.
Он вздохнул только невнятно, сквозь прижатые к губам пальцы. И поэтому я ему молоко перед сном не доверил пить самостоятельно, забудет ведь, потому что с опозданием задумается, из своих рук и споил, он не против был – цедил тепленькое мелкими глотками, лежа у меня на локте. А пока он пил, я усердно чесал языком: сколько в городе продовольствия, сколько человек трудоустроено, какие на рынке цены… По военной-то части наше морское высокопревосходительство небось кого понимающего допросить успело (и насоветовать, чего уж там..), а мы, чекисты, все же больше соображаем по хозяйственной!
И расслабился Колчак, меня выслушав. Словно пружина какая, вот и не знаю с чем сравнить… Знаете, кстати, как он всегда засыпал?.. Свернувшись в невообразимый кокон из одеяла, это в Морском корпусе, оказывается, учили гардемаринов обязательно закутываться по уши, чтобы никакого неприличия, понимаете ли, потому что офицеры на корабле часто спят, представьте себе, нагишом – на стирке белья экономию пресной воды наводят, подите-ка… Совестливый, словно и не из класса угнетателей и эксплуататоров! На два мешка больше совести имел, партбилетом клянусь, дорогие мои потомки, чем вообще у знакомых мне людей имелось – а я многих знавал товарищей… Вот ведь незадача какая! Есть Колчаку было стыдно досыта, спать было стыдно в тепле, зная, что каппелевцы его в тайге сейчас голодают и мерзнут, и как бы еще красных щетинкинцев белый адмирал Колчак не жалел, не только своих белогвардейцев, а то они тоже ведь по таежным урочищам бесприютно бродят, да никак и в Иркутске у мирного населения дела неважнецкие – и во всем этом неудобье он себя беспощадно виноватил и грыз, и совесть у него была как акула.
А поговоришь о хозяйстве городском, хоть пару зубов акуле выломаешь. Пока к Колокольцевым на ночное дежурство я ехал, все обдумывал: убедительно ли сказал?.. Сомнительный такой стал, от Колчака научился! Приезжаю, спят давно мальчишки… Кася мне:
– Проше пана доктора, но вы скажите пани, что ей входить к паничам неможно! – глазами сверкает, дверь в детскую загораживает, а Колокольцева подле двери стоит, за стенку цепляясь. Ну и ничего удивительного.
– Подите, подите, – говорю – панна Касенка, в автомобиль, да скажите шоферу, что я вас в тюрьму ночевать отвезти велел, нечего вам одной по ночам в пустом доме дрожать, Семену Матвеевичу кланяйтесь, к адмиралу не заходите – спит, а мы здесь сами с Натальей Алексеевной разберемся… Вы же понимаете, Наталья Алексеевна, – говорю – что кашель у вас для оперированного ребенка очень заразительный. Пойдемте на кухню… Бывшую операционную, – усмехаюсь – Минуточку только, я к детям загляну… Чаю бы мне, а то не жилец я на этом свете.
Подхватилась, самовар побежала ставить.
– Самуил Гедальевич, – окликает – у меня варенья немного есть, из жимолости… Вы любите?.. Сама варила. Казимирочка, голубчик, и вы садитесь! И шофера надобно бы позвать.
Знаете, что такое благородная бедность, товарищи потомки?.. Это – когда дома хлеба нет, но банку варенья для гостей приберегают…
Для гостя то есть! Для одного меня.
Кася, как про Семена Матвеевича услыхала, как вспыхнет, как отнекиваться начнет… И за спину мне, и за дверь, и еле-еле успел ей сверток с едой в руки сунуть, и бормочет: Ой, найлепше, найлепше… Ой дзянькую… – эге, думаю, ну и шустры вы, красный партизан Потылица! Аж в тюрьму к вам бегут стремглав. Не хуже чем к адмиралу…
Синее-синее цветом было оно исчерна, варенье, – как погибельные для женского полу глаза Колчака. И кедровыми орешками фаршированное.
– Какая, – говорю – роскошь. Невозможно, – говорю – не угоститься! Золотые у вас, Наталья Алексеевна, – говорю – ручки!
Посмотрела Колокольцева на меня, блаженно зажмурившегося, и зарделась по девичьи:
– Я вам с собой отложу…
Вот ведь провокация! И буду я как тот анекдотический еврей, который из гостей возвращается с кусочком торта для тети Хаси, оставшейся сторожить лавку?..
– Скорее для адмирала, – серьезно она говорит – вы же для него понесете?.. Глазастая какая.
– Отнесу, не стал я спорить – а скажите, как вы к Колчаку относитесь, Наталья Алексеевна?.. Хотя, если не хотите отвечать…
Она плечом дернула, я понял сразу: ответит.
– Я из офицерской семьи, – говорит – муж, отец, дед – вам, наверное, трудно понять, что это такое… И мне всегда, как впрочем и всем моим близким, казалось что офицер служит для защиты своего отечества. А не для политических амби… Амбиций… – прокашлялась глухо, утерла рот скомканным платком. Заметила, как я платок разглядываю – протянула… Я развернул, приблизил к глазам. Стекловидная мокрота, на пневмонию застарелую похоже…
– Вы Колчака уважаете, господин чекист, ваше право. Удивлены?.. После того, как произвели у меня обыск и нашли листовки в его защиту, не ожидали таких откровений?.. Или революционная ситуация между матерью и детьми вас не удивляет?
Молчал я долго – успел услышать ее тоскливый вздох. Очень, знаете ли, в офицерском духе: отвечать с охотной прямотой, а потом думать, не было ли сказано лишнее…
– Революционная ситуация в семье была со времен Сократа, – замечаю – помните его высказывание о безнравственности молодежи… Возможно, он кого-нибудь более древнего цитировал, кто знает?.. – пожимаю плечами с безразличием, чтобы ее успокоить. Поверила, расслабилась… – А вот насчет офицера и политики не соглашусь! Должен интересоваться политикой офицер! И должен в ней хорошо ориентироваться!
– Политизированная армия, представляю, – бледно улыбнулась Колокольцева – в Офицерском собрании день начинается с агитационных речей сугубо штатского комиссара… – кстати да, думаю… Неплохи были бы комиссары с военным дипломом… – Вернете вы, большевики, со своим политическим образованием офицеров век гвардейских переворотов, помяните мое слово! – повысила она голос и снова закашлялась – Вот, возьмите, пожалуйста, – протянула мне аккуратный бумажный сверточек. Ниткой он был перетянут. На ощупь я определил, что там упаковали – вскинул на нее повеселевшие глаза:
– Отобрали, значит, игрушку, Наталья Алексеевна?.. Которая не игрушка, конечно, а хирургический инструмент?.. Надеюсь, не у спящих потихоньку взяли? – и попал в точку: вспыхнула, прикусила губу… – Верните Жене мой подарок, пожалуйста. Он ведь врачом хочет стать, разве вы этого не видите?.. Еще пуще Колокольцева зарделась, гляжу, видит-видит, не сомневайтесь, и приятно ей, что другие это тоже видят…
– Хоть бы что другое… – пробормотала обессиленно – ох, что я?.. Благодарю! Но… Другое… Не такое страшное… То есть… – запуталась в словах и поникла, страшась уже, что слишком много я увидел. Интересно, если б не ее болезнь, смогли бы братцы листовок наляпать?..
Что-то подсказывает – обязательно бы смогли!
Исхитрились бы как-нибудь!
Из вещей покойного офицера Колокольцева мы у нее нашли только немного одежды, продала все. И небось оружие первым долгом.
Думала, поможет.
Детей убережет от политики и войны.
Сказал бы я вам, дорогие товарищи потомки, где находится самое грозное человеческое оружие, да вы-то знаете. А так кому говорить?.. Колокольцевой, чтобы ее вконец напугать, или Колчаку, который, пожалуй, поймет – да ему это больно понимать, а я увеличивать его боль не желаю…
Словом была создана Вселенная.
И словом же ее можно разрушить и выстроить заново.
Вот туда, в новую, где живете вы, потомки, звали мы, большевики, всех желающих, и знали твердо, что там для всех хватит места… И для дворянских детей, сыновей погибшего на позорной империалистической войне офицера, хватит места тоже, и солнца хватит, и воды, и хлеба, и учения, да что там – мы и адмирала Колчака в новое позовем и не обидим!
Не верите?..
Оставить Жене нож я Колокольцеву убедил… Сам не догадаюсь никогда, как это у меня получилось!.. Семь потов сошло. А потом подкинул дров в печку, попросил ее скинуть платье, желтая в буроватость она была – как отвар крушины, Господи… Дряблая-дряблая, груди тряпочками, простукивал ее птичьи косточки – в груди щемило… Колокольцева покорно гнулась на табуретке, покашливала всхлипывающе. Накинул ей на плечи свою бекешу, взял в руки ее, невесомую, отнести нетопленым коридором в постель – заплакала беззвучно и горько. Ах я олух… Она же мне ровесница, чуть младше!
Муж ее убитый был такой, как я…
– Я сама… – шептала.
– Сами, сами, – говорю – и заново испростынете. Вот я простыни ваши сейчас у печи согрею, поставим вам банки…
– Банки… – озадачилась Колокольцева.
– Банки, – подтверждаю…
Пригрелась она с банками. Уснула…
А я на цыпочках по немилосердно скрипучим, ремонтировать давно пора, японский замок какой-то, а не квартира офицерской вдовы, половицам в детскую шмыгнул – аденотом дареный положить на место. Где его Женя прятал, он сам мне показывал!..
Положил, выпрямился…
– Самуил Гедальевич, – окликнули меня с кровати громким шепотом.
– Это что за полуночничанье?.. – присел я у изголовья на корточки, опуская ладонь на воробьиную пуховую головенку. Жара нет, хорошо…
– Я пить хочу… – жалобно признался пушистик – Когда уже можно будет мне водички?..
Так, Колокольцева до сих пор ему не давала?… И Кася у нее на поводу пошла?.. Вот… Клурэватая (в смысле "деловая") мамеле…
Пришлось громко красться на кухню.
Подслащенную жижку таинственного мутно-лиловатого оттенка он хлебал просто с невероятной величины восторгом:
– Варенье… Мама вам варенья поставила! Она его ух как бережет! Витька-а-а. Вставай! На! Пей, с вареньем…
– О, так тебе варенье можно?.. – босоного пришлепал с соседней кровати – ах ты дунер (дурак), цап его, и на колени, и ступни зажать в руках – замечательно растрепанный Витька – Я сейчас… Самуил Гедальевич, пустите.
– Куда собрался?.. – грозно шикаю на него.
– Надо… – отбивается пятками. Пятки бархатные, ходьбы босиком не нюхавшие, ну погоди…
– А пощекотать?.. Попался чекисту, белогвардеец, попался-попался…
– Ай! Уберите усы! – шепотом завопил совершенно осчастливленный босоножек
– Это нечестно… Усами!!! Я не белогвардеец, я русский офицер!!
– А я русский военврач, я взял на себя командование… – пыхтя, полез мне на спину пушистоголовый младший офицерский братец – Ура-а-а… Высота взята, господа… Победа… Витька, кричи потише, а то мама проснется. Ой-я… Меня уронили… Я опасно и смертельно ранен. Поможет… Только варенье… Полное блюдечко.
– Я и говорю, что мне надо… – бесхитростно пробормотал Витька и только потом догадался посмотреть на меня, коварно ухмыляющегося – Уййй… – хлопнул себя по губам – проговорился. Самуил Гедальевич, не выдавайте… Я немного варенья отлил… И спрятал… Для Жеки, честное благородное слово! У него же была операция…
– Чекисты своих не выдают, – отвечаю серьезно. – Чекисты своих прячут в одеяло. Вот таким жестоким чекистским способом… Давайте так сделаем: отлитое варенье будет НЗ. Знаете, что такое НЗ?.. Молодцы. Мне ваша мама подарила немного варенья. А для Жени я принес творогу, и мы его сейчас этим подарочным вареньем сдобрим… Думал, будет вам завтрак, а получился поздний ужин… Прямо как на балу, только там вместо творога с вареньем мороженое и фрукты подают. Ну, ничего… Дайте срок: будут у вас, у детишек, и яблоки – здешние, сибирские яблоки… И бананы, и ананасы даже… – и кондитерское крем-брюле… Тоже будет тут расти, прямо вместе с сахарными вафлями! – подмигиваю.
– Вы не шутите совсем… – поняли братцы, уплетая крупитчатый желтоватый творог – сибирское молоко жирное! – за четыре щеки.
– Не шучу, – покачал я головой, с удовольствием отмечая, что глотать у Жени получается без малейшего дискомфорта. Аж кончики пальцев у меня блаженно зачесались.
– И что русские офицеры и чекисты свои, не шутите?.. – заглянул мне в глаза неописуемо взъерошенный (в точности я в детстве, и даже рыжинкой отливает!) и по моему тоже щекотки трусивший (верещит с моей интонацией!) Виктор – Не шутите… А кто для вас тогда не свои?.. Белогвардейцы?.. Адмирал?.. Не смейтесь, пожалуйста, я же понимаю, что вы его тоже своим считаете, а нас дураками – потому что мы не разобрались… Скажите, кто для вас, для большевиков то есть… враг?..
Дети еще меня о таком не спрашивали…
– Те, которые хотят захватить нашу Россию, – твердо говорю – которым покоя не дает русская плодородная земля, русский душистый хлеб, русские могучие реки, чистые рыбные озера, леса со строевой древесиной и пушными зверями. Железные рудники, золотые копи, самоцветные жилы покоя им не дают! Те, которые воспользовались борьбой нашего народа за лучшую, за счастливую жизнь и пришли с разных концов земли все в России украсть и к себе увезти!
– Швейную машинку… – пробормотал Виктор – У мамы чехи швейную машинку утащили. И ковер, который мама и папа купили после свадьбы…
– Такой ковер заменить нечем, – развел я руками – а машинка у вашей мамы будет.
Он решительно тряхнул рыжеватым своим одуванчиком, явно два раза в месяц, не реже, просившим стрижки, то-то с ним было в гимназии мороки. Там с прическами строго!
– Не надо… Если вы откуда-нибудь принесете, она будет… это… как называется… реквизированная, вот. Или трофейная… И будет мама как та чешка, которой повезли нашу машинку. Простите пожалуйста, не надо…
Ну вот, с такими рыцарскими принципами – и варенье таскают из буфета. Уснули они двухголовым осьминогом, представьте. Дворянские отпрыски благовоспитанные называется: в одной кровати любят ночевать. Украдкой, потому что мать увидит – не похвалит… А от меня не таились, поняли, что для меня спать с братом в обнимку совершенно не предосудительно.
Что не так, потомки дорогие?.. Тесно, говорите, вдвоем?..
Хе-хе. А вдевятером на одной кровати не хотите?..
Я так в детстве спал. Поперек, у старших в ногах.
И ничего, знаете ли, не жаловался!
Уууааххх… Самому бы сейчас прилечь на минуточку… Слава Те, Господь мой, вроде все благополучно… Совсем я как христианин повадился говорить. А не надо было – сглазить можно…
До сих так думаю, что хотите со мною делайте, товарищи, и ты, любушка мой Александр Васильевич, надо мною посмеивайся, только сомнение мне не стряхнуть, не иначе в кудрях запуталось!
Только я в гостиной на закономерно скрипучий отменно диван осторожненько опустил свою толстую задницу и примерился потащить с громко жалующихся ног тяжелые сапоги – надсадно задребезжал дверной звонок и одновременно в филенку отчаянно загрохали кулаками. Подумали – и для верности добавили каблуком, вопя:
– Товарищ предгубчека! Откройте скорее!..
Что за полуночный гармидер (заваруха)?..
Небось какое-нибудь боевое чекистское дело. Грабеж с перестрелкой. Поджог… Убей меня киця лапкой, не было у меня тогда иных мыслей.
Ночи в Иркутске были боевые!
В переднюю мы с мадам Колокольцевой: капот поверх сорочки нараспашку, глаза навсегда катастрофические – подоспели одновременно. Из детской уже две головешки пушистые заинтересованно выглядывали, вроде… Наверняка босиком! Вернусь – выругаю за ортопедический нудизм с большевистской беспощадностью…
– Выстудитесь! – негалантно отпихнул я Колокольцеву локтем.
И с уверенностью хозяина квартиры повернул легкомысленный – монетой открыть – французский замок.
– Товарищ Чудновский! – тусклыми костяными пуговицами пялились на меня испуганные глаза личного Нестеровского шофера. Водить Нестеров не мастер… Офицер двадцатого века называется, хе. Вон Колчак, чуть не вдвое старше, не то что автомобилем – аэропланом умеет управлять, аж завидно… А Нестеров без авто-кучера не обходится. Фамилия у шофера была исключительно литературная: Калашников, и внешность к фамилии подходящая, этакий крупитчатый добрый молодец с лубка.. – Фельдшерица Красовская передает… Тимирева, значит… Худо с нею… Кровит.
Кажется, я впечатал жалостно вякнувшего Калашникова в стену, пробегая мимо него…
Не помню. И не хочу вспоминать.
Остаться до утра у Колокольцевой шоферского ума хватило. И бекешу мою забытую утром принес. Да, точно, утром…
Автомобиль у Нестерова был еще… ну как бесполезная маленькая конфетка, только голодуху раздразнить: открытый, новенький, американский… Chandler Cleveland, кажется. Тридцать лошадиных. В прошлом году только начали выпускать… На уворованное от адмирала золото небось какой-нибудь щеголь в аксельбантах себе выписал. Не для сибирских сугробов! Я гнал несчастного, спотыкающегося "Кливленда" по ночному Иркутску, и в одной солдатской гимнастерке было мне ужасно жарко – вот это я запомнил…
И еще мучительно запрокинутое декабристочкино лицо: голубоватый севрский фарфор! Лизонька моя покойная такую посуду предпочитала…
Страшно, остро, рыбно и медно-железисто воняло кровью. Черной, засохшей хрупкими чешуями. Бурой, спекшейся вязкими сгустками. И глянцевитой, злорадно блестящею… Алой.
Первый раз в моей жизни от этого запаха висельною веревкой запечатала мне глотку тошнота. И тяжелой своей ладонью по губам, ссаживая их до на языке, вбил я себе тошноту в рот и отправил обратно в желудок, холодея от осознания того, что сейчас придется мне сделать! Жуткое, неестественное, непоправимое и иногда преступное даже…
Что?..
Не преступное? Разве?..
Не спорьте с прадедом, потомки. Не пойму.
Готтеню, божечки, как я боюсь…
Ой, мамэ-мамэ, меня же другому учили!!!
– Прекратите истерику, доктор, – перепоясало вдруг мне душу словно граненым спартанским бичом из воловьих жил – истрихидой, под ударами которой юнцы Лакедемона праздновали свое двадцатилетие… Снова на расстоянии адмирала слышу…. Ой, братец названный! Помоги… Ты ведь уже помогал!
– Я говорю: прекратить… – бесстрастно повторил навсегда простуженным голосом у меня над ухом Колчак – Стоп истерить, Чудновский… – и – негромко, с особым напряжением горла выкрикнул сначала протяжно, нараспев, а второй слог отрывисто, резко, как выстрелом: – Смии…ррна! – резонансной частотою звука воинской команды прочищая мою помутившуюся в страхе голову.
Он стоял рядом, оказывается.
В шинели поверх одной нательной рубахи, наверное – потому что из-под шинельных пол у него посиневшие голые ноги торчали… В меховых туфлях комнатных моего любовного изготовления из унтовых голенищ, руки у меня отцовы оплеухи помнили. А рядом бледный как мука Потылица торчал, пытался безуспешно отвести глаза от истекающей кровью декабристочки, от платья задранного, от пузыря со льдом… У него на физиономии веснушки проклевывались. Не замечал раньше… А сейчас как-то сразу все заметилось. Кася для декабристочки ампулу с камфарным маслом ломает.
Маша с компрессом возится.
И Колчак на подставленный виновато Потылицыну локоть даже не опирается…
В его-то состоянии!
Я к нему качнулся – поддержать. И уронил руки, потому он коротким рубленым жестом отстраняюще выставил ладонь… Другой он был какой-то. Словно подменили за время отсутствия моего. Резкий и острый, как клинковый взблеск.
– Очнулся?.. – выговорил отстраненно, дождался моего неуверенного кивка и отчетливым тихим голосом продолжил: – Чудновский. Марш руки мыть. Сестра Красовская, инструментарий, простыни, бинты?.. Доктор сейчас начнет операцию. Мария Александровна, попрошу вас покинуть наше общество, вы не рожали…
И два покорных шепота почти в унисон:
– Проше, ясны пан адмирал…
– Да, Александр Васильевич…
Ясный пан, между прочим, тоже вроде бы не рожал, подумалось мне под яростное звяканье околоточного рукомойника, ума не приложу, когда успел я до плеч намылиться, и вот он-то куда лезет… Без мыла… Прошу прощения за каламбур! Оглянулся на пана бешено…