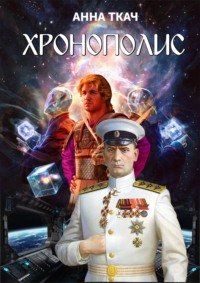Полная версия
Санчо-Пансо для Дон-Кихота Полярного
На полюс… – эхом отозвалось от облупленных стен в остатках сажевой краски, загремело в решетке окна оглушительным пушечным треском! Мне почудилось – впрямь пушки палят, вскочил в испуге…
Потом гляжу: Колчак спокоен, остывшие безнадежно фрикадельки доедает, только удивлен без меры:
– Паковый лед на Байкале лопнул?.. Да нет, далеко и не по погоде…
И тут мы оба его увидели…
Не глазами… С е р д ц е м.
Он соткался из утренних бледных звезд, качающихся над Иркутском: повелитель и победитель угрюмых полярных льдов – невообразимо огромный корабль с широченным развалом черных бортов сплошь в огнях, с палубой цвета развеселого сурика (я знал памятью побратима, что это он, Колчак, когда-то предложил для полярных экспедиций радостный густо-апельсиновый цвет, только не понимал, к чему крашеная суриком палуба – и вдруг с громадной кормы сорвался и полетел, стрекоча, тоже апельсиновый и диковинный аэроплан-не-аэроплан, очертаниями поджарого корпуса похожий на стрекозу, и сразу ясно стало, зачем сурик…), без дымящей трубы, с паутиной низких разлапистых мачт, и чудовищный тупой нос гиганта неодолимо и властно разбивал, сокрушал, проламывал торосистые хищные льды – от Колчака я знал, каковы их бритвенные грани… А в посеревшем испуганном небе рваными флагами безоговорочной капитуляции колыхались зеленовато-розовые призрачные фестоны, испускающие жалобный треск и шелест, вспыхивая на бронзовой вязи громадных букв: Россия… И костром в полярной ночи горел на мачте подсвеченный снизу могучим прожектором флаг!
Россия – под красным флагом?..
Как же это…?
Просто Россия – не Советская?
Но ведь флаг!
Колчак смотрел на меня такими же сумасшедшими глазами и терзался, похоже, тем же вопросом.
А потом убежденно сказал почему-то мне:
– Господи! – и закрыл лицо руками.
Ох мне эта адмиральская чувствительность!
Радоваться надо, а не сырость разводить – хотя почем я знаю, может быть, Колчак на досуге решил завести себе пруд… Прямо здесь, для душевного комфорта. Кораблики будет пускать… Потылица тут еще к стенке прижался, мечтает чтобы его закрасили. Тоже мне, инженер циклопических ледоколов. А нос-то у громадины, между прочим, такой как Колчак придумал: саночками. Чтобы залазить на льдину и весом своим ее давить. Даже корабль этого типа поначалу назывался ледодав! Только не прижилось…
– Красный партизан Потылица! – рявкаю на потенциального судостроителя – Марш баню топить для адмирала! Не видите – у нас острый адаптационный период?!
– Горячая поди, под утро топил, – отвечает.
Горячая?.. Ой-вэй, таки и впрямь инженер! Вот убей меня киця лапой, инженер! Эх, наяву бы на его корабль посмотреть… А что, и поглядим, в особенности – если тут один герой и полярник в адмиральском чине страдать чувствительностью не будет…
Чувствительный решительно притянул к себе многострадальную миску с фрикадельками и принялся уплетать за обе щеки, запивая насквозь простуженным – сейчас чихнет – чаем:
– Можно мне погорячее налить, пожалуйста?.. – прочавкал с набитым ртом – и поесть еше… Чего-нибудь…
Так, товарищи, внимание: Колчак ест – это что-то стряслось во Вселенной… А если он просит добавки?…
Страшно даже подумать, что стряслось…
– Термометр подай, – потрогал он себе лоб – Где твой шприц?.. Что глядишь на меня… Как истукан с острова Пасхи?! Сам же говорил, что впрыскивания нужны… Черти что! Кого из коллег Ширямова бы, чтоб в телеграфе понимал…
– В телеграфе?.. – переспросил я тупо и понял, что истукан с острова Пасхи по сравнению со мною просто гений.
– В телеграфе… – кротко и терпеливо вздохнул Колчак, по многочисленным свидетельствам, человек крайне вспыльчивого нрава – связь ведь в городе, как подозреваю я, чуть ли не открытым текстом осуществляется?.. А сие из рук вон… Шифры подскажу хоть… И фортификаторов бы мне! Минировать Иркутск надобно, Самуил! Что смотришь, словно я… Лубочная картинка?..
Ущипните меня за самое нежное место…
Я-то, да и все мы в ревкоме, были уверены что оторванный от остатков своего воинства Колчак собирается просто-напросто у нас за свою жизнь до прихода Каппеля торговаться, потом не без оснований решили, что больше всего на свете ему хочется поскорей расстреляться, столь оригинально уклоняясь от дружбы золотолюбивых интервентов…
Но что мы в его лице союзника приобрели?..
Что он золото желает не на время у большевиков припрятать, а…
– Не думай, в красный цвет ты меня не перекрасил… – хмыкнул Колчак слегка встревоженно. Не иначе – за мой рассудок.
И в мыслях нет… Невозможно это – выкрасить! Самому если только выйдет покраситься. Политические убеждения не одежка, их не на плечи, их на сердце надевают…
– Поговорю, – киваю – а ты сам еще с Забрежиным потолкуй, он токарь, снаряды точил, знаешь тут такого?.. Старший твоего конвоя, – Колчак глаза с коротким выдохом опустил. Знает… Помнит! Не удержусь ведь, подсмотрю, как они мириться будут! Эх, и жизнь-то у нас, товарищи, наступает удивительная, хоть и впрямь… к генеральше сватайся. А что, и пойду, и посватаюсь, и ведь не откажется она, знаю, не откажется, и детки у нас пойдут, а нет, так сироток возьмем, и декабристочка Колчаку родит, и Семушка выучится, оженится, а я на свадьбе его христианской скажу по еврейски: "Мазлтов! И на гутер шу!" (Поздравляю, в добрый час!) – и фрейлейхс спляшу… Вот так: Ой, возьмем немножко счастья, возьмем немножко солнца, наполним этим наш бокал, наш бокал…
Не слыхали песенку?..
И пойдет, пойдет к полюсу небывалый корабль под красным флагом, имя "Россия" несущий!
И даже если не будет у нас с Колчаком ни детишек, ни свадеб – и самой жизни не будет тоже, потому что война не закончена… – обязаны мы свою жизнь на то положить, чтобы корабль-ледокол из небыли былью стал. Из призрачно возможного будущего – весомым настоящим!
Колчак прервал мои благостные мечтания сдавленным шепотом:
– Долго еще копаться будешь?! Я с тобой антисемитом стану… Революционный комитет ко мне! Помыться успею?..
Едва позволил инъекцию сделать.
Удивительный Колчак военачальник. В бою он сладить с нами не мог, но в плену запросто сладил! К нему не одного санитара приставить бы следовало… Санитарный взвод! Для сохранности иркутских большевиков. Что, не верите?.. Зря. Я когда к нему вечером шел, столкнулся… С побежденными большевиками. Мирхалев, Букатый, Ширямов, разумеется, куда без него, и все орут друг на друга, все друг другу что-то доказывают: телеграф, минирование, проволочное заграждение, руками машут, в руках бумажки, глазами сверкают, в глазах воодушевление…
Чуть не сбили с ног и не наступили на меня впопыхах, а то был бы… Коврик в прихожей. Кожаный… Еще и выговорили мне, что неплохо тут устроились некоторые с медицинским недообразованием! В тепле, в уюте, знай себе послушивай, знай себе пощупывай, и давай уж, бездельник, дуй к своим необременительным обязанностям. Шагом марш. И вообще… С тобой, Чудновский, Колчак кофии распивает, а с нас он того! Стружку снял!.. Ласково так, интеллигентно – но лучше бы он ругался!..
Вот бери таких в плен. Все места обструганные чешутся. Ладно, думаю, мысленно поскребываясь, пребывайте в приятном заблуждении. Задрал нос повыше, захожу к этому… Который стружку снимает… Рубанок в адмиральских эполетах, понимаете ли… И света белого не вижу!!!
Накурили-то…
До сиреневых сумерек!
Колчак после бани в простыне как Юлий Цезарь – между прочим, похож, хоть натурщиком приглашай – знаете чем занят?.. Забрежину наливает чай. Тот, счастливый, небось двадцать пятый стакан дует: раскрасневшийся, платком утирается, рубаха расстегнута… Это еще что за новости, а Потылица где бездельничает?.. Так, а чего он в углу и на корточках головой в коленях? Задрыхнул бессовестно?..
Да нет… Никому так спать не пожелаю…
Ну, я сейчас стамеской стану!
– Вы бы, – говорю этим чаевникам, добывая из кармана флакон с нашатырем – хоть ребенка пожалели травить своим табачищем.
И в ответ три голоса:
– Да пууу-усть привыкает… – Забрежин своим неуверенным тенором.
– Господибожемой, Семушка, деточка… – Колчак хорошо поставленным баритоном.
– Ааа… Ааа-пчхи!!! – деточка замечательным басом.
Вот такое трио для хора без оркестра.
– На здоровье, – говорю – тебе, Семен Матвеевич, а ну не отворачиваться. Дыши, дыши… Что, голова туловище перевешивает?..
– Ага, в сон клонит..– утирает тот глаза, полные аммиачной благодати.
А вот не сиди в закрытом помещении с курильщиками рядом… Куда руку отбираешь?.. Она мне еще нужна…
Эталонное у Потылицы сердце, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!
– Илья Никифорович, вы не могли бы, – Колчак озабоченно – кофе заварить для мальчика?.. Или я сам, вы мне только спиртовку пододвиньте, пожалуйста… Потылица как про кофе услышал, так и подскочил, облизываясь! Учтем на будущее: ему для взбадривания не нашатырь надо давать нюхать…
А мне?.. Мне, значит, не перепадет?..
Мне, разумеется, перепало. И Забрежину зачем-то, в него же не лезет уже, он из вежливости не отказывается…
– У мальчика исключительные математические способности, Самуилинька! – похвастался Колчак, подливая заботливо юному кофеману свежезаваренный кофий из стакана в блюдечко, чтобы пилось ему привычно. Я поощрительно огладил кофейно благоухающие усы и даже свой стакан отставил, мол, очень интересно.
– Лександра Василич шшчитать умеет без шцыфр, одними буквами, и меня обешшался учить, – объявило молодое дарование.
Без цифр считать – хорошее алгебраическое определение… Запомнить надо. Ну вот, а то тут один адмирал расстреливаться собирался, приставал как с кортиком к горлу…
– Голова не кружится, мальчик мой? – спрашивал Колчак Потылицу шепотом, норовя дотянуться по чубу его потрепать, а тот и не против был, хитрован, пригибался, не иначе прикидывал, как бы побольше уроков выклянчить.
Забрежин на сие чудесное зрелище любовался умиленно: лучшей прикуски мне к кофию и не надо! Так воодушевился – дайте сюда пару гор, сверну.
А ведь пришлось сворачивать.
Меня в тот день на обыск вызывали, а к сыскному делу моя душа не лежит, хоть в нее лезьте. Квартира вдовья, убогая, со скрипучей мебелью, хозяйка прозрачно высохшая, от страха плакать разучившаяся, двое недорослей у нее, гимназисты-погодки, косящиеся на нас, с обыском пришедших, бешено…
И то, из-за чего сыр-бор, он же обыск: самодельных листовок стопка. С портретом Колчака: тщательной перерисовкой фотографии через оконное стекло, это ж сколько они, трудолюбивые мальчики, окошко от наледи очищали?.. Небось все пальцы поморозили…
И надпись через портрет наискосок: "Адмирал Колчак – мученик в грязных лапах палачей из чрезвычайки!"
– А дальше?.. – спрашиваю, разглядывая свои руки. Выпачкать, что ли, для правдоподобия…
– Что – дальше?.. – переглядываются эти типографы и журналисты младшего школьного возраста.
– Текст, – говорю – незаконченный. Мученик с лапами… То есть в лапах. Жалобно и невнятно. Листовка должна заканчиваться воззванием! Садитесь и переписывайте как полагается. Завтра приеду – проверю… Записывай, Константин Андреевич, – киваю Попову – от семнадцатого января сего года… Приказ председателя губернской ЧК… Выдать гражданке Колокольцевой… – красивая у прозрачной хозяйки фамилия! – по имени-отчеству..? – Наталья Алексеевна, подсказывает заместитель, потому что сама Колокольцева молчит оцепенело и мальчишки у нее какие-то неразговорчивые не по возрасту, наверное, писать им привычнее – Колокольцевой Наталье Алексеевне, проживающей по адресу… Дров четыре кубометра, муки… Муки десять фунтов и фунт коровьего масла. И молока бутылку… Готово, Константин Андреич?.. Дай подпишу.
– Господин… – обретает голос Колокольцева – господин чекист, я не могу так! – вскакивает, шатаясь, я подхватываю под руку ее, она руку выдергивает: – Я не дармоедка, господин из чрезвычайки, чтобы мне милостыню подавали! – полыхает рваным румянцем – Я могу работать…
Вот ведь дворянский пролетариат.
Так уперлась – никакие мои доводы, что сначала ей выздороветь не помешает, не подействовали. Пришлось поручить Наталье Алексеевне заявительные бланки печатать. На том самом "Ундервуде", который чуть во время обыска не разбили. Ожила она сразу, сноровисто отстучала образец, полезла искать бумагу, а ее кот наплакал, на листовки извели и остатки уже мои бойцы оприходовали: поделили, газет им мало, дымарям… У Колокольцевой даже слезы в глазах блеснули.
– Отдохните сегодня, – говорю – вечером бумагу принесут, с продуктами… И глядите мне, Наталья Алексееевна, молоко пейте сами! Договорились?..
– Очень мне нужно молоко, оно противное… – отчетливо прошипел ее младший ребенок и ойкнул от подзатыльника старшего.
– А ну не драться, – присел я между ними на корточки – лучше зубы поточите, вот вам… – достал свои бутерброды. У мальчишек скулы свело, и опустил я глаза, не желая видеть, как они куски эти возьмут, как поделят – на троих, и материнская доля побольше, как мать у них все это отберет и припрячет, чтобы с кипятком потом прикусывать… Хорошо на дележку хлеба в детстве я насмотрелся, дорогие товарищи, не желаю больше глядеть! Что говорите?.. Ах, вы не видали, вам интересно…
Не надо, товарищи потомки. Уверяю вас – ничего хорошего…
Кстати, никогда бы раньше не подумал, что Колчак, адмирал и сын генерала, по молодости всласть наголодался: вы небось это знаете?..
Один из моих бойцов-дымарей крякнул, закопошился за пазухой и вытащил закусанную краюху.
– Вот, значит, – прогудел – возьмите, барынька…
Колокольцева всхлипнула – и закрылась ладонями, облегчаясь наконец слезами. Гимназистики как по команде глянули требовательно на меня, я палец к губам приложил: не мешайтесь, мол, дайте проплакаться… Кивнули оба.
– Тебя как зовут?.. – спрашиваю младшего заговорщицким тоном.
– Же… Евгений, – пыхтит с достоинством.
– Виктор, – не выдерживает дискриминации старший.
– Ну, какие имена хорошие, благородство с победой, – говорю – а носоглотки не очень… И голоса гнусавые у обоих. Давно ртом дышите?
Детвора переглянулась, а врать не обучены оба, из такого материала из благоприятном стечении обстоятельств Колчаки получаются, и даже со всеми регалиями:
– Давно… – признались хором.
Еще бы недавно, дорогие мои, когда деформация лицевого скелета налицо, побей меня киця лапой за такой неприятный каламбур… Прикус неправильный, зубки как у зайчишек торчат, губешки верхние вздернуты – аденоидит в тяжелой форме. Нелеченый… Худосочные, малокровные, плечи узкие, грудь впалая, небось и все сопутствующие радости в наличии. Эх…
– И животы частенько побаливают?.. И головы, а? – вздыхаю.
Потупились. Потом Виктор, старший:
– Ага… А откуда вы знаете, господин чекист?.. Вы доктор?.. Нас доктор смотрел много раз, но не спрашивал про живот!
– А я не простой доктор, я угадывать умею, – говорю – даже то, что вы ни маме, ни доктору не рассказываете! Ведь не рассказываете же?.. Не бойтесь, не выдам… – улыбаюсь. Они дыхание перевели, которое я немедленно понюхал. И не очень оно мне понравилось, сами понимаете.
– А… А вы нас пальцем смотреть в горле будете?.. – с отчаянной решимостью осведомился младший, Евгений, морщась и сглатывая заранее на всякий случай.
– Лучше вы посмотрите мне на пальцы, – показываю ладони – как думаете: они в ваши рты пролезут?.. Ну что тут смешного… Это же мне придется за зеркальцем бегать по морозу!
И почему я без саквояжа на обыск пришел, думал же, что пригодится, садовая моя голова.
– Товарищ Чудновский! Прикажите принести, – потянул меня за рукав расставшийся с краюхой дымарь. Я отмахиваюсь:
– Лучше дай, – говорю – если есть, монету… А еще лучше – сразу две.
Он загоготал, знает, зачем мне понадобилось, и коварно вручает пятаки. Такие – слегка позеленевшие. А я пятаки двумя пальцами аккуратно сворачиваю в трубочки.
– Нате, – протягиваю на ладони мальчишкам – берите… Осторожнее только, горячие.
Гимназистики склюнули сувениры с руки у меня и спросили почти хором:
– И столовую ложку можете узлом завязать?.. – как-то подозрительно постреливая глазами в сторону буфета.
– Нет, – отвечаю – ложку не могу, ваша мама не позволит… Не позволите же, Наталья Алексеевна?.. А если я вашим мальчикам помогу, разрешите… Ложку. А лучше две…
– Господин чекист… Господин доктор! – вскинулась Колокольцева, разом высушив все слезы, зато слова из нее хлынули Ниагарой. Про сыновние непрерывные отиты с ангинами и катарами желудка, от которых не отделаться никак – совсем до крайности дошло… Заставьте Бога молить..
Заставил, куда деваться. Пообещал завтра прийти с инструментами.
– Самуил! – сказал мне Попов на обратном пути – ты только потомственных дворян обслуживаешь или личные тоже подойдут?.. А то у меня, понимаешь… Желудок побаливает!
– Я тебе, – отвечаю – и без осмотра могу сказать, что с тобою не так, и диету назначить!
Как вы думаете, дорогие мои потомки, что случится с человеком, если он после сыпного тифа возможности нормально питаться будет лишен?.. А, вы спрашиваете, что такое сыпной тиф? Вы не знаете?.. Правда?…
Тогда я ничего о нем вам не скажу, пребывайте в счастливом неведении, а я за вас буду радоваться!! Упомяну только, что нам, большевикам, в Сибири чрезвычайную комиссию по борьбе с тифом пришлось создавать… А сыпняк Попов подхватил в тюрьме. Вдвоем они с Колчаком без чувств лежали одновременно: у одного тиф, у другого воспаление легких. Оба до сих пор и дохлые…
Лучше слушайте, какие они оказались – братишки Колокольцевы, Виктор с Евгением, то есть я-то их по домашнему стал называть: Витя, Женечка, потому что оперировать мне мальчишек все-таки пришлось. Их аденотомировали обоих несколько лет назад, но она же после слишком раннего удаления отрастает заново, сия пресловутая глоточная лимфоидная ткань, от которой столько бед! Вот Женя и говорит мне, уже завернутый в простыню:
– А это будет очень больно?. Мне маленькому отрезали, я и не помню… Помню, что очень страшно…
– А сейчас как?.. – тихо спрашиваю, протирая спиртовым тампоном ему лицо. Морщится сосредоточенно:
– Тоже страшно… Но, наверное, не так сильно…
– это очень, – говорю – хорошо, что не сильно… Знаешь, почему так получается – потому что ты сильнее! Страх вообще такое дело, которое нельзя выбросить… А вот пересилить… Женя, послушай меня. Больно будет, но совсем недолго и не слишком: я сейчас сделаю обезболивание, и большая часть чувствительности пропадет, понимаешь?.. А наркотизировать, вводить в сон, чтобы совсем ничего не было слышно, мне тебя нельзя. Будет кровь, и ты во сне захлебнешься. Так-то ее выплюнуть можно, правда?..
Смотрю, он улыбается.
– Спасибо, – говорит – Самуил Гедальевич, за предупреждение, а то доктора не предупреждают обычно… Наоборот… Говорят, что больно не будет. Можно… Можно меня не держать?.. Я вытерплю, честное благородное слово! А когда держат… Так унизительно, так… Вы ведь понимаете?..
– Понимаю, – отвечаю – и что честное слово значит, понимаю. Только сначала посмотри сюда… Это кольцеобразный нож – называется аденотом. Он очень, очень острый, Женя… Специально для того, чтобы оперировать быстро. Если ты дернешься, я тебя порежу. Там, в горле. И никогда себе этого не смогу простить, даже если меня твоя мама простит… Ты ведь тоже понимаешь?..
– Я понимаю, – улыбка у него вдруг стала просто как надрезанный (ассоциация к месту…)
арбуз: до ушей – я теперь совсем не боюсь! Ничуточки, потому что вы нож показали! Все доктора инструменты прячут, а вы показываете!
– Я тебе потом его дам подержать, – обещаю – только резать им ничего не надо, там за точка специальная, ее очень просто испортить, и лезвие не трогай… А впрочем… Если хочешь узнать, как можно порезаться без боли…
– Ух, законно, – он аж подпрыгнул – давайте, Самуил Гедальевич, скорее! А Витьке я только издали покажу… Вот его завидки возьмут.
– Э, нет, тогда я тебя держать велю, если будешь жадничать. Не будешь?.. Договорились?.. Тогда снова дезинфецируемся, а то пока мы разговаривали, все улетучилось… Скажет мне твоя мама, что я тебя водкой поил… Тебе смешно, а меня отругают. Теперь анестетик… Предупреждаю, он невкусный, пробовать его не надо… Вот и отлично, помнишь как я тебя дышать учил? Начинаем: вдохнуть… Задержать дыхание. Рот открой пошире…
– Какой же ты сегодня счастливый, братишка, – улыбнулся мне в тот вечер Колчак – не иначе больных нашел! Самуилинька, если все вокруг захворают, тогда тебе самое большое счастье привалит, да?..
Я головой мотаю – кудри прыгают.
– Сам знаешь, – говорю – что наоборот!
И не только чтобы здоровые были все, а счастливые еще настолько – чтобы без зависти стало им можно любоваться друг другом, будущим людям, и каждый будет как звезда перед другим… Сказать не умею. Сердце мое возьмите к себе на ладонь, и оно отстучит, а слов не могу подобрать! Скажите, дорогие товарищи потомки, у вас ведь так?.. Что ж вы молчите?
Ну не отвечайте, мне ждать некогда. Очень, очень некогда!
– Ты далеко?.. – поинтересовался Колчак, легкомысленно крутя свежеуколотой кистью – вот вы можете мне объяснить, почему инфузия в тыльную сторону ладони ему нравится больше, чем в локтевой сгиб?.. Это у него положительный рефлекс на место первого вливания, по секрету… Могу зазнаваться – у меня перед носом. Пальцами еще шевелит, чтобы закровило.
– Далеко?.. К пациенту?
Ну все знает, посмотрите на него.
– Ой, куда же еще идти бедному еврею, как не на дежу..– завел я жалобно глаза в потолок. Между прочим, требующий ремонта! И когда начнем, надо у Анисименкова спросить!
– Самуил, – прервал меня Колчак не повышая голоса, но вмиг меня заткнул – "куда" говорить плохая примета, заруби на своем курносом нееврейском носу… – Нет, ну вы видали православного? Им вроде в приметы верить грех… Ой, думать потише надо, а то услышит и отругает! – Держу кулак за тебя, братишка. И за ребенка… Чтоб ночь после операции была спокойной…
И как ткнет меня под ребра своим адмиральским кулаком!
Крякнул я, осчастливленный.
Ничего, вроде не совсем уж слабенький…
А что знает обо всем – так это правильно… Я всегда говорил: нет человека более осведомленного, чем арестант. Особенно – арестант в одиночной камере.
Глава 5
Размахался, – потираю преувеличенно место, удостоенное высокопревосходительской длани – после вливания. Вот вена кровью засочится, и будет у тебя, Александр Васильевич, на руке такой синячище, словно ты не адмирал, а одесский босявка, побей меня кицкины лапки.
– Те-те-те, что-то ты о моей целостности печешься, не ровен час – снова высокая большевистская комиссия в тюрьму с визитом припожалует… – озабоченно поцокал Колчак языком – уж и видеть не желаешь, как руками у меня шевелить получается, ай-ай-ай. Я-то для тебя стараюсь…
Катастрофическое выражение моей рожи при слове "комиссия" немедленно вызвало у него раскаяние – не пересолил ли с шуточкой – и он осторожно улыбнулся мне своей невероятной улыбкой, сконфуженной и довольной одновременно. Я только застенчиво шмыгнул, вздыхая. Ой, сейчас перекрещусь всеми конечностями, если поможет… А то ведь и впрямь комиссия…
Это, товарищи, была та еще история!
Ввалились вчера с апломбом к адмиралу три представителя Сиббюро… Ну, и нас троих прихватили для представительности: Блядь… Пардону прошу, Линдера от тюремной администрации, Алексан Александрыча от ревкома, и меня, грешного – от чекистов. Набились в камеру как шпроты! Сарафанное радио сработало четко: Колчак лежит на подушках и под одеялом умытый, причесанный, побритый, постельное белье только-только ему сменили, лавандой пахнет пополам с жавелем, да оно еще и батистовое и с вышивкой ришелье – замечательно со стенами в облезлой сажевой краске гармонирует. И надписи на стенах, процарапанные до кирпичей, перед его приездом скоблили-скоблили, но все равно прочитать можно, почти не приглядываясь: "Завтра казнь. Никого не выдал"… "Прощайте, товарищи!" "Да здравствует революция" – и прочие обыденные автографы нашего замечательного времени….
И как это Колчака не вдохновило свою лепту внести в народное творчество, я бы на его месте трудился как первобытный художник! Таких бы мамонтов для тюремщиков изобразил!.. С саблезубыми тигрольвами! А он поначалу натыкался на надписи взглядом и мучительно отворачивался. Потом притерпелся, не без того, чувствительный наш. Интеллигент с кортиком… Ну и спрашивают высокие посетители зоосада – поубивал бы любителей природы! Приехали за самоутверждением! – у этого уникального полярного белого муравьеда:
– Имеете ли вы какие-то жалобы, гражданин адмирал?..
Муравьед – он же Мария-Антуанетта в штанах, если вы еще не поняли: перед расстрельной командой извиняться будет за нечищеную обувь – с бесконечным терпением отвечает, что никак нет, никаких жалоб у него не имеется и вообще спасибо хозяевам, принимают гостей на славу. Комиссия, разумеется, вмиг адмиральский бальзам на их души смолотила и за второй порцией нацеливается!