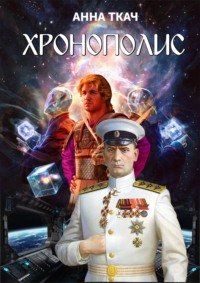Полная версия
Санчо-Пансо для Дон-Кихота Полярного
Он же, Колчак, сам себе трибунал, если вы еще не поняли.
Гляжу: ничего вроде, глаза не стынут, слава Богу…
– Ну смотри, – говорю – Семен Матвеич. Учись. Нос, губы, между носом и губами, уши, виски – если начнут синеть…
– Трогать нельзя! – кивает с готовностью ребенок – Сердше, значит. И вас звать, а ешли вас нету, то фершалку. Тут недалечки живет. Касенка зовут… То ись Казимира… Красовская Казимира Анжевна… – смутился он очень красноречиво!
– Красивая? – это не я полюбопытствовал, это Колчак. Я-то молоденькую польку-акушерку давно взял на заметку. Сирота, и доктор, у которого работала, от тифа умер, защитить некому, кушать нечего – полезная девочка.
– Ученая… – завистливо вздохнул Потылица. – и красивая… Очень…
– Не дрейфь, феринка, кефалью поплывешь, – улыбнулся Колчак – а то и тайменем!
-Да не, тайменем… В пирог не полезу, – Потылица фыркает.
И переглядываются оба!
Видите, какой из Семена Матвеевича великолепный ассистент получается – можете меня поздравить.
– Теперь пробуй ухаживать. Отверни тулуп. Расстегни френч. До низу… Сорочку подними. Тела поменьше касайся, ему больно…
Ну неплохо, неплохо они вдвоем одновременно рожи скорчили. Один язык от усердия высунул, другой смешливо губы прикусил – сразу обе. Губы у него в нитку, вот и изощряется. И юнцам, как видите, благоволит.
Потылица же его вопросами замучает…
– Ой. Что у вас такое?.. Это?
Это не Потылица удивился, это Колчак.
– Детский биуральный стетоскоп Филатова… Доктор Гусаров, товарищ по партии, подарил, – осторожно я похвастался. – Видите, он гибкий, им легче аускультироваться… Еще при измерении кровяного давления используется. Вам не меряли?..
– Н-нет… – отозвался Колчак с сомнением, кидая снова на меня профессорски сочувственные взгляды. Я перехватил – куда там, глаза не отводит… Вот попался понятливый. Ну ничего, ничего, недолго уж мне в чекистах ходить, война кончается, спасибо адмиралу…
И не понадобится ему меня в скором времени жалеть!
– А следовало бы померить… Контужены ведь были?..
Он поморщился, кивнул устало и как-то так, что я понял – контузий на его голову несколько свалилось… – вздохнул старательно, натужа ребра, и закашлялся навзрыд.
Ну вот кто тебя просил-то, а? Этакое превосходительство. Словно я застарелую ревматическую пневмонию без твоих усилий не расслышу. И допивай теперь свое молоко… нечего отворачиваться…
А ты, товарищ Потылица, примус разжигать умеешь?.. Прекрасно. Эта блескучая коробчонка бикс называется. Сейчас мы то, что в ней, прокипятим. Правильно – простерилизуем. "Простерилизуем"..– благоговейно репетировал многообещающий ребенок совершенно без чалдонского акцента, не иначе – из уважения к учености. С примусом обращаться он умел, и особой неожиданностью это для меня не было.
– Вот уж ни в коем случае! – отчеканил Колчак с отменно замороженной любезностью, безошибочно учуяв породистым своим носом, чем запахло – Не сметь мне морфий впрыскивать.
Я уж думал, ничем больше он меня удивить не сможет…
Ведь со своими болями законченным морфинистом должен был давно стать!
И нате вам – не стал, даже, по моему, кокаин не нюхает, я в ноздри заглядывал: слизистые не гиперемированные (ха, вспомнил какой у Черепанова был нос – я сначала решил, что у него сифилис)!.. Надо, говорю, надо, дышать полегче станет, вон одышка, видите, сколько набираю? Ноль – ноль двадцать пять… – на терапевтическую дозу согласился… И игла под кожей у него проваливается от худобы.
Зато, утешаю, кажется, самого себя, вот как вены хорошо видать, вот прямо можно в ладошку, чтобы двигаться поменьше, вот сейчас дигиталис – он руку с таким покорным ужасом подставил… Ой, за что мне все эти цорес?.. Инфузий нужно не меньше десяти, и все время вот так будет?..
Фельдшерицу пригласить, и пусть она мучается. Молоденькую фельдшерицу. Чтобы декабристочка тоже… Хе-хе… Немножко поревнует, ей полезно!
– Де-сять?.. – осведомились у меня потусторонним шепотом: нервный мой пациент нос в стену уткнул, глаза зажмурил, да еще локтем сверху прикрыл, но ушки-то у Колчака всегда на макушке.
– Уже девять… – уточнил я, воскресая. В вену попал с первой попытки, полегчало…
– Как… уже?.. Уже все?.. В самом деле… Ах, спасибо, удивительно у вас рука легкая!
– Всегда пожалуйста… Тихо, тихо, я сам ватку прижму! Знаете же, что двигаться вам нельзя… – Ну уж нет, никакой фельдшерицы. А то я, пожалуй, ревновать начну. Такая младенчески незамутненная благодарность – ни с кем не поделюсь…Вся моя, и точка…
– Ой. Что у вас такое?.. Это?
Это не Потылица удивился, это Колчак.
– Детский биуральный стетоскоп Филатова… Доктор Гусаров, товарищ по партии, подарил, – осторожно я похвастался – видите, он гибкий, им легче аускультироваться… Лежа можно… Семен Матвеевич, отверни-ка тулуп. Расстегни френч. Донизу… Сорочку подними. Тела поменьше касайся, ему больно…
Они вдвоем такие роди скорчили, юнец с адмиралом – хоть стой, хоть падай. Один язык от усердия высунул, другой смешливо губы прикусил.
– Буральный, – выдохнул Потылица сосредоточенно.
– Би-ураль-ный, – уточнил неугомонный мой пациент – для обоих ушей сразу, видишь?
Я прикрыл глаза, вслушиваясь в неритмичный глухой сердечный перестук, вычленяя шумы: непрерывные, систоло-диастолические, и перикардическое что-то мне немедленно почудилось со страху, склонился ниже к нему – Потылица любопытнейший шею себе удлинил не то что жирафу, эласмозавру на зависть, где его степенное крестьянское воспитание – и тоже шепотом: – Александр Васильевич… Сию минуту сердечко как болит: отдает больше к спинке, под лопатку, и левую руку выкручивает, или вот сюда?.. – положил ладонь на диафрагму.
– От вас не отвязаться! – вспылил Колчак без предупреждения. Сердился он замечательно, как умеют только очень добрые люди: на себя. Про таких у нас говорят – человек без желчи… И откуда слухи-то взялись, что ох, грозен адмирал, министров на завтрак ест, генералами закусывает?.. – Прошу прощения, доктор. Пожалуй… Пожалуй, к животу сильнее… – вздохнул, так же сразу успокоившись, якобы большой любитель министерских бифштексов.
– Под ложечкой тоже болит?.. – прикусил я губу.
– Очень… И еще укачивает… То есть мутит, – тихо пожаловался Колчак. В иную минуту меня бы завидки взяли: умеет же извиниться, себя наказывая, не каждому дано. Моряку в тошноте признаться… Но симптом при ревматизме – хуже некуда.
Воспаление сердечных оболочек. И печень с поджелудочной железой и селезенкой тоже могут быть поражены.
Вот и порадуешься, что на педиатра учился…
Ацетилсалициловая кислота, соли калия внутрь, хлороформ компрессом, что еще, черт, не помню!..
– Со мною так уже было, – прикрыл глаза знаток извинений – в Порт-Артуре… При первом приступе. Перед пленом… Удивительное, Самуил Гедальевич, не правда ли, совпадение?.. Нельзя ли одежду мне не распарывать?.. Я потерплю… А что тебе еще остается, горе ты мое.
Смотри, как ладони кладу, киваю малолетнему ассистенту, давай с другой стороны. И на бочок по моей команде: раз-два… Этот любитель острых ощущений даже не вякнул, как и следовало ожидать – хотя по мне лучше бы меня выматерил, что ли, между стонами. Размечтался! Колчак – такой, дорогие товарищи потомки, специалист по устройству неудобств для окружающих… Стесняться он решил, скажите пожалуйста! Словно коль мы с Потылицей не его единоверцы, то анатомически от него отличаемся, не иначе… Или кто-то из нас троих женщина переодетая, то есть из двоих конечно, потому что у одного кого-то по причине голого тела очень ясно видно, какого он пола. И что-то подсказывает мне, дорогие товарищи, что женщин как раз этот кто-то не слишком бы застыдился!..
Белье у него оказалось тоже такое, знаете, красноречивое… Зауженное, шелковое трикотажное, нежно-сиреневого цвета с плетеными аппликациями: перед войной в Париже самый был писк, нет, вру, наимоднейшее – бледное-бледное было розовое, с оттенком в жемчужно персиковый. "Цвет бедра испуганной нимфы" называлось… Но и сирень очень, очень котировась! Дорогущее, и в России его попробуй еще достань, наверное. Выношенное до прозрачности, штопаное… Опрятное на удивление.
Перед Иркутском исподнее сменил – кольнуло понимание, рассыпалось по лицу горячими углями. Колчак увидел, как я полыхаю, и отвел поспешно глаза, щадя мою потревоженную совесть. Я бы не сумел, подумалось мне уже привычно… Я бы открыто злорадствовал. Хе, начнем с того, что переодеваться перед расстрелом в чистое не стал бы – вот еще реверанс! Все равно загаженное будет, я вас уверяю!
Под конец струнная выдержка его обвисла, морщиться начал. Но благодарить не забывал, рот у него попросту не закрывался. Буржуйка докрасна раскочегарилась, аж гудит: спасибо! Простыни нагретые – спасибо! Ватные подушечки под суставы, горячий вазелин с хлороформом, аспирин молоком запить, что значит не могу, глотайте, глотайте, не надо на донышке оставлять, вот так… – спасибо, спасибо… И одеколон, кожу протереть: ой, что вы делаете! – в порядок вас привожу… Да вы не беспокойтесь, я умею. Санитаром два года работал в холерном бараке… Никто не жаловался… – знаете, что он мне выдал?
– Хлопот вам со мной…
Я не выдержал: фыркнул на весь этаж:
– Александр Васильевич, а на капитанском мостике, к примеру, хлопотно стоять?..
Колчак спрятал улыбку:
– Если только стоять, – подчеркнул доверительно – потому как там чаще всего ходят. А то и бегают сломя голову… Ох, Боже мой. Как хорошо-то… Хотите сказать, что для вас… – И только я навостряю уши, до упаду счастливый: ну говори, говори что собрался… Откровенничаешь, значит успокоился наконец… – как он тоже прислушивается и сообщает: – К вам, Самуил Гедальевич, посетитель, кажется…
В самом деле, в коридоре егеря бранятся вполголоса – это чтобы меня с адмиралом не потревожить, все из себя по – чалдонски деликатные. Я под форточку выходил вазелин над свечкой мешать с хлороформом (нечего Колчаку нюхать и морозом дышать тоже нечего), так они залюбопытничали, каво тако вонькое, спрашивают меня, небось для аммирала, я суровую чекистскую рожу скроил, для него, говорю, для болезного – засомневались: да вы ш всешки полегше ба, Самойла Гдалыч, хучь и аммирал, а всешки полегше… Ну да, в навозную теплую кучу ревматика по шейку затолкать – старый сибирский способ, не шучу – это будет полегче, вне сомнения, да где же бедному и голодному чекисту навозу-то столько найти! Заржали, сволочи!.. Дак со всем уваженьем сичас накладем… – предлагают…
И кто это ко мне рвется, скажите на милость? Неужели Бурсак, вот нечаянная радость, морду принес, вроде он повизгивает: пропустить! Как я есть комендант! Пропустить!..
– Камандат тюремный, – подтвердил Потылица, с готовностью привстав – велите прогнать, товарышш Шшудновский?..
Бурсак, видите ли, дорогие мои потомки, пользуется всеобщим уважением!
А уж как я его люблю…
– Ни в коем случае, – ухмыляюсь – эй, – зову – Береле, ком цу мир а пур велт, мамзер, то бишь прошу тебя пожаловать… – (на самом деле "поди сюда на пару слов, бляжий сын"), потому что Бурсак хотя такой же Иван и такой же Бурсак, как я Вера Левченко, извиняюсь, Холодная, по-еврейски он понимает с задержками. Звать его, уже было мной сказано, Берл, а фамилия у него Блатлиндер – и язык у меня просто чешется вместо 'т' сказать 'д' с мягким знаком, извиняюсь еще раз. Вот откуда он вылез, такой поц (хрен)? С какой каторги его взяли на нашу бедную голову?.. И большевик он, как я, и как я – еврей… Хавер (товарищ) Ваня, ой-ой-ой…
Нашелся товарищ, счастья нам привалило, евреи! А глик от им гитрофен, игудем…
– Я имею тибе сказа-ать, Шмуль, – говорит мне этот якобы Бурсак, до замужества с революцией Блять… извиняюсь опять, линдер: на ножонках рахитических меховые сапоги не по размеру, на сутулых плечиках кожаная куртка с мехом, прогуталиненная насквозь, за версту разит, знаю-знаю, сколько кресел ободрано для модных его туалетов, губешки облизывает, лысиной сверкает – не иначе кипы не носил… – и по сторонам глазенками зыркает, зыркает, все рассмотрел, особенно шелковые адмиральские подштанники… – Я имею вопрос! – повторяет значительно – Чито для-я мадам Тимиро-овой есть у тибе переда-ать?.. Мада-ам спра-ашиваит, ка-ак ее Ка-алчак?..
Ну, сам напросился.
Я от радости просто вздохнул полной грудью, а чей-то, уточнять не будем, Колчак – наоборот, задохнулся и скорей нос в одеяло, чтобы, значит, продолжать это удушливое дело. Я ему руку под одеялом украдкой прижал, он вроде понял: лежит смирно…
– Реб Берл, – говорю ласково – ну разве вы не имеете видеть?.. Побойтесь Бога, реб Берл! И если мадам спрашивает, как ее Колчак, то вы скажите таки той мадам, что ее Колчака допрашивают…
Гляжу, стал Бурсак фиолетовый, как баклажан!
– А по моему, Чудновский, – зашипел, аж местечкового еврея изображать бросил – ты вовсе и не допрашиваешь… Ты из-под адмирала горшки таскаешь…
Тьфу ты, я и не знал, что у Колчака руки сильные такие…
Потылица тут еще пыхтит… Без сопливых скользко!
– Не-а, – говорю безмятежно – не таскаю… Пью я из горшка, ясно тебе?.. А что выпью, то в морду твою выхаркаю, мамзер…Пошел отсюда, сявка мелкая, не свети фиксами, или портрет покоцаю, – ну, Бурсак с моими кулаками честь имел познакомиться – шустро тощим задом в дверь, только мне остановиться трудно, знаете, как оно бывает: – падла, задерешься лепень свой отстирывать, понял, помойка, а княгине что сбуровишь, бейцалы на форшмак покрошу… Шикерер елд (мудак пьяный)! Фу. Красный партизан Потылица! Вытряхните мусор из ушей. У вас мыло есть?..
– Шшолок есь, – отвечает тот, сам фыркает – пойдет вам шшолок?.. С медом, а то нескусно…
– Мед – хорошо уши греть, – намекаю. Смеется, паршивец, в открытую:
– Самойла Гдалыч, я по-варнацкому не хужее вашего знаю! Меня батенька уж и пороть бросил…
И Колчак из-под одеял:
– Приношу извинения за вмешательство, мыло есть у меня… Ой, не могу!.. Ох-ох-ох-хо… – и смеяться больно ему, и не вынести: головой трясет и постанывает:
– Ох, как вы его… от… отбрили! Ох… Недооценил вас! Однако неосторожно с вашей стороны, такие доносят, знаете ли…
– Да я сам на него первый донес, – сделал я вид, что возмутился.
– Вы?.. Донесли на товарища?.. Напарижаненный комиссар, хуже Авксентьева, – прыснул Колчак по-мальчишески – образован, манеры… Говорит с аристократическим прононсом… На шее кашне, как у природного француза…И ругается как биндюжник… Самуил Гедальевич, я кажется в рассудке повредился! В тюрьме смеюсь, – брякнул вполне серьезно.
И Потылица как вытаращится на меня: спасите-помогите- вылечите. В том, что могу сумасшедшего полностью излечить, не сомневается.
Я в окно тоскливо уставился, плечами повел…
– Да нет, – говорю – Александр Васильевич, вы в своем уме. Это случается, когда ареста слишком долго ждешь…
Тьфу ты, в горле почему-то пересохло.
Глотнул остывшего чаю…
– Слежку за собой заранее чувствовать начинаешь, – вымолвил задумчиво – и, бывает, скрыться некуда, товарищей подведешь… Издергаешься, филеры в шкафу мерещатся, как улыбаться забудешь… А в камере очутился – и хохочешь. Или спишь бревном, особенно если до того бессонницей маялся, вот ведь незадача! – усмехнулся конфузливо, но и с умыслом: у него ноздри дрожали от спрятанных зевков.
– Пожалуй, вы правы, – сочувственно отозвался Колчак, поразмыслив. Я бы на его месте огрызнулся: вам виднее..
Глава 2
Что
…
– Ну давайте, – говорю – горлышко сначала только промоем, а потом уже и все остальное. Семен Матвеевич, ты спиртовкой пользоваться умеешь?..
Умел он, конечно, а вы как думали?
Пока я гортанный шприц готовил, под руку не лез, кстати. Я и не думал, что с ним такое может случиться, товарищи! Это он что поинтереснее нашел: у адмирала на костистом запястье серебряная цепочка висела, так надо же полюбопытствовать. Мне тоже зудело, если уж признаваться. Что за цацка, зачем браслетка?.. Матросы серьгу в ухе носят, я знал, а адмиралы – браслеты, получается?..
Цацка была откровенно морская, с замочком в виде крошечных якорей. Серебро в патине – долго носил..
– Миноносного отряда отличительный знак, – пояснил Колчак охотно.
Я не снес любопытства, близорукие – как еврейским глазам наравне со скорбным взглядом положено – зенки свои приблизил: на звеньях цепочки вились церковно-славянские буквицы: "спаси и сохрани"… Только головой я покрутил. У него еще перстень на исхудавшем мизинце болтался, сустав распухший его держал, не давая свалиться – изящный, небольшой, литого серебра. И перламутровая инкрустация на нем, потускневшая от времени и исцарапанная – парусник. Тоже небось что-то морское и отличительное! Не адмирал, особая примета сплошная, хе-хе…
Промывание он хорошо перенес. Удивился я даже. На полный желудок, нанюхавшись хлороформа, со взвинченными нервами – и ничего, и не охнул… Хотя чему удивляюсь, подчиняться он умел замечательно. Вдохнуть – значит вдохнуть, задержать дыхание – значит задержать. Сплошное удовольствие. У меня с малышами получалось без особых слез…
Тонзиллолитной массы я из него вымыл ужасающее количество.
– Все, все… Сейчас обезболим еще раз, – потянулся к корнцангу.
Колчак, с прижатым ко рту платком, яростно затряс головой – и ревматическая боль не помеха:
– Никогда! Не… не позволю… Этот ваш… Адреналиновый кокаин… Нет! Тю… А ведь понимаю. От наркотической зависимости освобождаться доводилось. И не понравилось, что характерно.
– Так ведь больно, Александр Васильевич…
Колчак опустил руку с платком, облизнул губы, сглотнул – и улыбнулся:
– Совсем нет… Можно мне чаю?..
– Только едва теплого.
– Фу, какая пакость…
Слава Те, Боже, думаю, капризничать начал – значит, выживешь. Гляжу, а Потылица ему того самого, чуть тепленького, поднес, и никуда он не делся – хлебнул. С ним же так и надо, если интересуетесь, а от чаю Колчак никогда не отказывается. Водохлеб и водолюб. Пить воду ему очень нравится, мыться он любит, плавать наверно тоже… Небось профессию с дальним прицелом выбирал, чтобы если придется погибать, погибнуть в любезной стихии… Тьфу ты, мысли в голову какие лезут нехорошие!
– Самойла Гдалыч, а меду-то… – шепнул ребенок.
– Меду можно, – киваю – мед дезинфектант… Отдыхайте, Александр Васильевич, пойду я вашу хорошую знакомую успокаивать… Только научите Самуила Матвеевича термометром пользоваться, он в сумке у меня. Вернусь, и поедемте мыться…
– Постойте, – проговорил Колчак негромко и непререкаемо повелительно: у меня ноги к сапогам немедленно приморозились и в затылке что-то тоненько запищало, как в спелом кавунчике – Позавтракайте, пожалуйста… – указал ресницами на корзину – Вы голодны, я вижу. И ты покушай, Семушка. Прошу тебя…
Ничего себе глазастый…
Кто бы мне вчера сказал, что я белогвардейскому адмиралу подчиняться буду… С радостью…
Две остывшие шанежки я заглотил как гусак – не жуя. Потылица церемонно покусывал третью, с элегантностью дуя на блюдечко. Смотреть на нас, вероятно, было решительное удовольствие, в некотором роде способствующее возбуждению аппетита, потому что Колчак нащипал в стакан с чаем мякиша, приготовил тюрьку и старательно кушал ложечкой. Я приглядывался: глотка три сделал без особого затруднения, потом сосредоточенно пожевал губами, прислушался к себе и потянулся к чаю.
– Покажите-ка еще раз горло, – попросил я, подождав когда он напьется. Хм… Можно меня поздравлять, товарищи, лакуны не засорились… И не кровоточит.
– Господин адмирал… – я поднялся, справившись с печивом. Колчак вскинул голову, понимая по обращению, что не о погоде заговорю, а почему я вообще заговорил о том предмете – ну что сказать?.. Когда приказание своего подследственного беспрекословно выполняешь, стоит ведь он слов на равных…
– Вагоны с золотом загнали в тупик, господин адмирал. Колеса повреждены, пути разобраны, проволочное ограждение наведено… Охрана вооружена пулеметами.
У него глаза расширились, и без того огромные, сверкнули янычарской свирепой радостью, а губы тонкие искривились презрительно, я по ним почти прочитал: как докладываешь, штатский, неграмотно… – но в тот же миг Колчак вытащил из-под одеял нательный крестик, поцеловал его, перекрестился широко и истово – и привстал, потянулся ко мне, улыбаясь ослепительно, солнечно, и одновременно кривясь от подступающих слез:
– Спасибо… Спасибо вам! – жестко стиснул ладонь мне сухими жаркими пальцами, они у него цепкие оказались на диво и натруженные почему-то. Даже стыдно. Кто, в конце концов, из нас пролетариат… – Вы не начертите ли?.. Периметр проволочного ограждения с пулеметными гнездами?
Честное слово, у меня уши мои многотерпеливые обуглились! Как же Колчак страдал, оказывается – и считал не вправе себя спросить, что у нас за дела с вагонами… Которые он привел, не забудьте. А тут ему: у-тю-тю, сю-сю-сю, откройте ротик, скушайте молочка, тьфу, пороть меня некому…
– Рисовать вы, Самуил Гедальевич, умеете, а чертить – нет, – добродушно протянул страдавший, издалека и прищурясь разглядывая торопливое мое творение – пулеметы добавить, если имеются: здесь и здесь, а так грамотно весьма… Штабс-капитан расставлял?.. – воткнул в меня ресницы.
– Нестеров, – подтвердил я сквозь комок в горле, потому что поведение Нестеровское при аресте корректностью не блистало, но Колчак кивнул незлопамятно:
– Молодцом. Еще… Разобранные пути окопать. Чьто-о?.. – почуял мое недоумение – Чьто изволите не понимать?!.. Песка привезти и сделать насыпь… Подготовить и держать наготове эвакуационный санный поезд. Анну Васильевну Тимиреву ввиду возможности покушения из-под стражи лучше бы не освобождать.
Это мягкое "лучше бы" в его речи таким невероятно лишним прозвучало… Вот тебе и университетский преподаватель. Наполеон… Адмирал Буонапарте. Он ведь тоже очень хорошо умел располагать к себе и подчинять…
Смеялся я про себя, смеялся – чуть третьей шанежкой не подавился, которую мне Колчак навязал на дорожку: "Бог троицу любит!" – сказал, понимаете ли, еврею… Его в антисемитизме обвиняли американцы, знаете?.. Хе. Нашли антисемита. К нему, к "верховному", прибежал однажды генералишка с предложением Кустанай от евреев очистить – ну и… кто к адмиралу без стука войдет, тот со стуком вылетит…
А декабристочка, когда я к ней без разрешения пришел – постучался, постучался, ничего смешного! Не ответила… Но и не прогнала. Я дверь и открыл… – сидела с красными злыми глазами, нервно жуя свою шаньгу, по пыхтению судя, не первую… Уважаю женщин с хорошим аппетитом! Вот только пахло в караулке как у тателе (папеньки) моего покойного – гуталином… Ах, гей алл ин дрерд!!! (Пропади все пропадом) Кулаки у меня сжались сами.
Декабристочка вскинулась, подавилась, вскочила – и схватила табурет.
Выставила его перед собой, ко мне ножками:
– Хам! Скотина! Абрам проклятый! – серые глазищи сверкают, щечки алеют, грудь вздымается, а на грудь коса перекинута.
Каштановая, пушистая…
Я молча полез в кобуру за маузером. Достал, проверил как заряжен. Она всхлипнула, табуретку поставила – аккуратно, без спешки… – выпрямилась побледневшая, но глаза разумные. Как мне и думалось…
– Сейчас, – говорю – пойду и убью того Абрама, не волнуйтесь. Прошу вас… Тьфу ты. По стенке-то сползать не надо! То адмирал падает, то адмиральша, что за день выдался… Обморочный.
Поймать мадам Тимиреву я успел. Да и что там ловить было, только руки подставить… Дурила она меня, товарищи потомки! Пьесу разыгрывала, актриса, интересно – с Колчаком получалось у нее?.. Очень даже может быть. Любовь слепа, а он не медик… Ну, уложил я осторожненько отчаянно трепещущую ресницами адмиральшу. Торжественно на голову ей мокрое полотенце водрузил… Не помешает остудить! Она негромко вздохнула, в выгодном ракурсе, чтоб красивые зубки показать, открывая ротик: верхнюю губку вздернула, слабенько улыбнулась – приоткрыла глаза…
И изо всех силенок залепила мне затрещину.
По с трудом сохраняющей серьезность роже…
Кажется, не остудил!
Все-таки лопну я сегодня, дорогие товарищи… От смеха лопну, не поминайте лихом…
– Ах! – распахнула глаза Тимирева, прижала к губам пострадавшую ушибленную лапку, небось еще и укололась, бедная, о мою щетину – О, прошу прощения… Я приняла вас… Ой, – и непритворно навзрыд расплакалась.
Ну что ты с ней будешь делать?.. Погладил… Мягкая. Не отодвигается… Ой, мамочка!
– Руки распустил товарищ Бурсак?.. – спросил на всякий случай, видел – не потрепанная. Головой мотает, оскалилась, жмурится, слезы глотает… И справилась. Прокашлялась, задышала простуженным носом, глянула на меня – и отодвинулась:
– Вы… От Александра Васильевича?.. Я ведь могу его видеть?.. По… – не сумела выговорить "пожалуйста" от немедленно взыгравшей разобиженно гордости.
– Пойдемте, – я не удержался, протянул ей руку, чтоб слегка уязвить. Вскочила пушиночкой, на руку мою не посмотрела, и впереди меня побежала, ох ты Господибожемой, я же не угонюсь, у меня нога ноет, проклятая, натерло ее кандалами, неженку такую – но нет, задохнулась, умерила шаг. Идет, осочка, каблучками французскими песенку выстукивает. Остренькими такими, знаете?.. Люблю, когда женщина на каблучках!