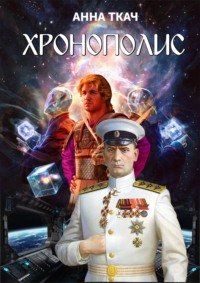Полная версия
Санчо-Пансо для Дон-Кихота Полярного
Сказал – страх свой прогнал. Решительный сделался – словно не пронеслось над моей головой трех революционных, трех огненных лет. Киев, Полтава, Поволжье, Забайкалье, уличные перестрелки, автомобильный дивизион.
Блиндированные вагоны ощетиненного орудиями бронепоезда, на котором я над балтийскими матросами комиссарил… Троих убил, пятерых покалечил – разом службу вспомнили! Штабс-капитанчик военспец, вылитый Колчак в молодости, каким-то "боцманматом" и "барабанной шкурой" называл любовно… Контрразведка Гришина-Алмазова, будь она неладна. Камера смертников в Иркутской тюрьме, откуда меня трижды расстреливать водили…
Три раза пугали – залп вколачивали поверх головы.
Нашли чем стращать, я тогда о смерти мечтал.
Не было только ничего. Снова я в парижской больнице для бедных. Протянул лапу и:
– Разрешите?.. Спокойно, спокойно, не волнуйтесь вы так… Потерпите чуточку, – принялся с неторопливой осторожностью прощупывать высокопревосходительскую шею. Ой, тоненькая, ой, двумя пальцами моими обхватить… Щупаю, сам думаю: отвесит мне сейчас тощенький оплеуху от дворянских щедрот и по своему прав будет…
Не отвесил.
Смирный оказался.
Дернул руками – не ударить, оттолкнуть – и осилил себя, сплел пальцы на груди, отвернулся, зажмурился горестно… Тьфу ты, декабристочка, что же ты своего дружка совеститься где не надо не отучила. Сама небось не стесняешься.
И Попов тоже: в стол нырнул и шуршит ящиками. Отличная у меня компания. Юрист мышь изображает, адмирал – покойника… Я вам кто, кот или сторож на кладбище?
– Ну как в воду с головой забрались… – бормочу – дышите, дышите, пожалуйста…
Подействовало на него, представьте, на оцепеневшего: вздохнул и, кривясь от ревматической злобной боли, решительно задрал подбородок, подставляя горло. Я оценил. Руки-то мои… Сказать какие? Здоровались со мной чаще голосом! Вот только под ручищами у меня – как ягоды виноградные из-под пергаментной крупноячеистой отвислой кожи… Абсцесса на миндалинах мне только не хватает для полной радости. Да не может быть! Глотает же свободно. И голос есть…
– Нажимаю, больно? – спрашиваю шепотом.
– Не-ет… – отвечает сонно и чистосердечно. Я бы на его месте врал. Просто так, из вредности…
Свободную ладонь на лоб ему положил – жмурится с готовностью. У меня руки прохладные, а у него голова горит – приятно от моего прикосновения, и не скрывает.
Это, товарищи, не слабость.
Запредельная храбрость это…
Когда становится все равно: жить, умереть…
Я вам говорил, что мне его состояние не нравится?..
– Здесь сильнее болит? – немедленно я уцепился, он слабо шевельнулся, соглашаясь. Гайморит? Эх, в зеркалах бы глянуть.
– А вот тут, под глазками?.. Точно нет? И ушки не закладывает?.. А так если головушку наклонить, боль не усиливается?.. Замечательно…
– Вы педиатр? – Благодушно поинтересовался Колчак во всеуслышание. Утвердительным тоном. Оттаял, поздравляю… Раньше едва лепетал.
Голос у него оказался красивый: глуховатый, но глубокий, грудной такой баритон. Ну да, он же петь умеет…
– Студент… – признался я как-то помимо воли – с четвертого курса… В семнадцатом учиться бросил. Но действительно педиатрию изучал, вы угадали… Сложно догадаться, прокомментировал Попов отчетливым шепотом, весь на себя злобный: сейчас свое ухо откусит и выплюнет. Как же так? Адмирал в четверть часа понял, адвокат в две недели не разглядел… Я на него глянул неласково – он воздухом подавился.
Извиняться пришлось.
Нехорошо получилось…
Не сдержался.
Ну не люблю я никому в жилетку плакаться! И вообще, тут некоторым, несмотря что седые, как раз детский доктор необходим!.. Симптоматическая картина как у ребенка… И сам большой ребенок… В погонах полного адмирала… Которому неожиданно для себя жалуешься – и легче делается.
Представляете?..
Этот седой ребенок так на меня смотрел…
Участливо, ободряюще – по учительски.
Понимаете, о чем я? Выпадало счастье с НАСТОЯЩИМИ учителями встречаться?..
Профессор, университетский преподаватель в адмиральской форме – вот кто это такой, оказывается… Русских профессоров я еще не видел. Видел немцев – наставников жизнелюбивых, видел французов – жизнерадостных наставников… Знаете, русский мне больше понравился!
Он не наставлял.
Он поднимал до своего уровня.
Спустя четыре дня Колчак, о котором повсеместно говорили, что у него с чувством юмора плоховато, довел меня до икотки и колик в животе! Исключительно серьезным тоном – а глаза смеющиеся занавесил ресницами – живописал мне монументальное полотно. Мой, то есть, словесный портрет. Сидит, мол, этакий кадавр! Табурет под ним трещит! То ли уссурийский тигр, то ли медведь камчатский, очеловеченный волею доктора Моро: плеча шире роста, косолапый, в буйной медного цвета курчавой шевелюре под Маркса, нос расплющенный, многократно сломанный, гофрированный прямо нос, как у орангутанга, губищи верблюжьи, шея буйволиная.
Зоосад в одном лице… в морде…
Да Бог с вами. Самсон натуральный, вот кто.
Нарубивший из льва котлет. Нарубил, изжарил, съел – сыт, доволен, благодушен.
И гладит сия хорошо пообедавшая громадина лапищей величиной с дежу адмиральские седины – гладили, гладили, господин чекист, не отпирайтесь… Слово офицера… – и густейшей, роскошною, на зависть Шаляпину, бархатной контроктавой упрашивает:
– Покажите горлышко, не бо-ойтесь… Я осторо-о-ожненько… Я даже без ло-ожечки…
Решительно невозможно отказаться!
Громадина же сейчас на руки возьмет – баюкать. Оно бы и недурно, но ведь как споет…
Стекла-то и повылетают!
Да полноте вам хихикать, любезнейший, право, выбитые стекла зимой в Сибири – ничего смешного.
– Ву-ху-ху! – выл и ухал я на пол-Иркутска помесью волка с филином – У-ху-ху… Я же петь не умею-у-у… Ху-ху… Как говорится, медведь на ухо… Ох! Медведь… Хи-хи-хи!! – скрутило меня таким приступом уже и не хохота – визга поросячьего, что пополз я, кабан кошерный, с дивана в слезах и в конвульсиях, хорошо, Колчак выручил, не дал пропасть: демонстративно в брючный карман полез…
И достал портсигар.
Серебряный, дешевенький. Золотого, как адмиралу следовало, у него сроду не водилось.
Враз мне не до веселья стало!
Заругался: вы у меня докуритесь. Он мне портсигар на колени кинул, посмеивается: подчиняюсь, говорит, господин комиссар, подчиняюсь – довольный, глаза сияют… Сказочные у него были глазищи.
Огромные, дивного миндалевидного разреза, с приподнятыми к вискам уголками, под заломленными дугами высоких бровей – и темно-темно синие, сапфировые, с глубинным звездчатым блеском, цвета вечернего южного неба, оттенка весеннего теплого моря: в стихотворных строках, на акварельном листе уместны, на живом лице человеческом – небыль небылью… Не глаза – погибель для бедного художника.
Поднял их на меня – обомлел я.
Рассмотрел цвет впервые…
А он смутился просто как барышня, и не подумаешь, что человек-то Колчак очень компанейский:
– Зачем вам… – я до того был обалделый – не сразу понял, почему такая стеснительность.
– Я помочь хочу, – отвечаю чистосердечно – ну откройте же рот, пожалуйста… – и наконец соображаю: отказать мне Колчак не может, благодарен словно я невесть что для него сделал, но стыдится ужасно. У него зубов почти не осталось, говорит губ не разжимая, а когда пьет – губы трубочкой вытягивает, ловко так…
Неудобно ему горло показывать.
Тем более мне. У меня зубы – жеребец от зависти повесился на уздечке.
Ну хоть плачь, хоть смейся.
И тут Колчак глаза сапфировые прикрыл и предлагает виновато:
– У меня в левом нагрудном кармане зеркало, доктор, если вам для осмотра нужно – возьмите, пожалуйста…
– Вот спасибочки, – заулыбался я как распахнутый чемодан – до затылка. Прелестное зеркальце у него было: крошечное, в кожаном чехольчике, и гребешок маленький прилагался там же, в левом нагрудном кармане, и бумажка исписанная…
Колчак из-под ресниц, как он умеет, проследил за моим зудящим взглядом, понял, конечно, что у меня лапы чешутся:
– Копия… – полез дать мне желаемое – отставки…
Вообще я думал – он за власть не цеплялся. А тут хранит как партбилет… И доктором зовет. Просит помочь, значит?..
Так я сейчас…
– Потом, – придержал ему руку – сначала ваше здоровье. Ну, пошире… Отлично показываете…
У него во рту такой генеральный штаб матерого ревматизма заседал! Ура, товарищи – хорошо мне знакомый штаб…
И никакого пародонтоза. Язык и десны распухшие, но в ревматизме положено.
– Андреич, – позвал я, не оборачиваясь – ложку из чая дай, будь ласковый. Да что ты оловянную суешь. Серебряную надо…
Попов перепуганно застучал ложками. Вроде адвокат – он ведь как сыщик и мертвых бояться не должен, не то что больного?.. Или это у меня неправильный адвокат?
– И поди еще сумку мою принеси, – нашел я выход. Он вскочил и бегом за дверь, и из-за двери кричит:
– А еду?… Диетную? – это чтобы подольше отсутствовать.
– Нет, – отвечаю, удержаться не могу – тащи свиных ушей.
Сам ложку отыскал, ошпарил, а Колчак, бедный, на меня, обманщика, смотрит как малюсенький удав на громадного кролика. Он, видно, от чекиста всего ожидал и к пыткам готовился, только не к таким, чтобы чайной ложкой в глотку. Ведь докторов-то Колчак боится гораздо больше Чрезвычайной Комиссии, вот что печально… Неврастеник, курильщик, сутулится, да еще тип у него южный… Сейчас как задаст мне перцу.
Все слагаемые глоточного рефлекса прямо по учебнику.
Вот наказание – первый самостоятельный пациент и такой сложный!
– Давайте, – говорю – определим, что у вас во рту за мерзость… Свежеприбывшая или давнишняя.
Почему-то я решил, что он отмолчится. Ничуть не бывало.
– Очень старая, – признался с отвращением.
Я только вздохнул сокрушенно.
– Не болит?.. Но кушать неприятно и как ком поперек горла? Ну да… Еще разок откройте. Язычок вперед… Я очень осторожно потрогаю. Не волнуйтесь, не волнуйтесь… вдыхайте… Вот так, вот и все… – провел черенком, снимая налет: снимается легко, тьфу-тьфу, не сглазить бы, цвет нехороший, но некроза нет… Не кровоточит. – Посмотрите, – сунул я пациенту добычу под нос. Тот глянул не кочевряжась: сначала на ложку, потом на меня. Вел он себя, между прочим, спокойней чем я ожидал. Доверился. О нем еще говорили, будто в людях он ну совсем, ну совершенно не разбирается. Мне бы так не разбираться…
Подлецу дать отпор не умеет и доброта его обезоруживает, вот это правда. Действительно – бедолага… Ни защитить, ни защититься.
– И что же… – прошептал. Глаза у него были от ложки на мокром месте – и заметно повеселевшие. Тоже, как видно, худшего ждал.
– Это козеозные образования… У вас хроническая ангина, вы знаете? Лакунарный тонзиллит, точнее – такие воскоподобные гнойные штуки называются тонзиллолиты… – Чудесненько, как на экзамене отвечаю!.. Примерно на тройку…
И профессор доброжелательно улыбается.
– Красивое название… – доброжелательно улыбнулся Колчак, кстати, целый академик, а не профессор. – Сладкое…
– Какое?.. – я не раскусил – Почему?..
Этот англоман мне с большим удовольствием объяснил: вторая часть термина созвучна английскому жаргонизму "леденец".
Замысловато шутить Колчак обожал.
Отложил я свою ложку злополучную…
– Я сделал бы промывание лакун, если вы согласитесь, – предлагаю, расхрабрившись.
Он так комически бровь заломил:
– Военнопленным в Красной армии оставлено право выбора?.. – от смеха не знаю как я удержался.
– Силком не стану… – говорю – но это ревматизм облегчит.
– Каким образом?.. – изумился Колчак, искренне заинтересовавшись. А что вы хотите от академика. И боль такую терпеть…
И ведь даже не стонет. Еще и дрыгается, впервые вижу вертуна- ревматика. Обычно они пластом лежат, суставы боятся потревожить.
Странно, что про горло не знает. Хотя почему – врачи его небось догнать не могли, чтобы рассказать!
А сейчас-то не сбежит – и меня, разумеется, немедленно с энтузиазмом понесло отвечать по второму билету, о ревмококках, об их локализации, и что такое миндальный лимфоэпителий, уникальная пористая ткань, и каким образом ее промывают… И ингридиенты для раствора: йод, соль, лакричная настойка, жаль – новейшего солянокислого кристаллического порошка нет!
Викентия Андреевича, которому я вечный должник, пользую.
– Ах, не того ли патриархального надзирателя… – догадался Колчак, осекся, махнул в мою сторону ресницами, но счел что все равно уже непоправимо проболтался и закончил: – который меня в соответствии с Табелем о рангах титулует?
– Того самого, если вицмундир носит, – ухмыляюсь. Интересно, что патриархальный – никакой он не надзиратель, надзирателем я его служить пристроил, он при царе начальник тюрьмы был, а генералам "верховного" не по вкусу пришелся, на пенсион живо спровадили… – адмиралу успел обо мне наговорить?.. Небось с три короба, я у него на языке надежно сижу. – Он меня пожалел когда-то… – счел нужным успокоить арестанта, испугавшегося тюремщика скомпрометировать.
А испуганный оглядел меня с большим любопытством в очередной раз и говорит:
– Я согласен, доктор, промывайте… А что за солянокислые кристаллы такие? – это называется – сам напросился. Я небрежно говорю:
– Кристаллы?.. Диэтоксидиаминоакридина кристаллы…
А он вдруг как фыркнет себе под породистый нос:
– Морока-то до чего раствор получать… Молочный что ли..?
Ничего себе у нас адмиралы водятся в фармацевтике образованные!
Моя обалдевшая рожа ему не понравилась, не любит Колчак злорадствовать:
– Я же минер по специальности, – говорит осторожно.
Ну минер, ну и что, слыхал, да и кто в России того не слышал, как он вражеским кораблям проходу не давал, хотя… Хотя логически: если во взрывчатых веществах разбирается, то и вообще химию должен знать?
Получается, должен и знает отлично.
Думаете, он унялся?..
– Вы где служите, господин комиссар, – вдруг заявляет решительно – я вмиг понял: это он предыдущими вопросами себя настраивал, а главный-то вот выглянул: – в "чрезвычайке" конечно?..
– Председатель губчека, – киваю с запинкой, потому что аж две недели в должности: колоссальный опыт…
Колчак завозился, пытаясь сесть. Тоже мне официоз. Придержал его, он щурится, нравится ему моя забота, потом в глаза мне пристально заглядывает – и совершенно серьезно, вот партбилетом клянусь, что именно так и сказал:
– Я должен просить у вас прощения, господин председатель ЧК. Я очень плохо о вас думал.
А уж мы-то о нем как думали…
– Квиты, – только и смог я с чувством пробормотать.
Он, неугомонный, все же уселся. Явно жалея, что встать по стойке смирно затруднительно.
Я как брякну впопыхах:
– Лежите, когда надо будет, я сам вас посажу! – а это, дорогие товарищи потомки, в наше время была недопустимая двусмысленность среди всех, имевших отношение к заключению, вот ведь до чего меня врачебная практика довела и хорошо еще, что Колчак такой Паганель – не поймет…
Держи карман шире, все он сообразил. Усмехнулся и поскорей губы поджал: хотел съязвить, но не стал… Жаль! Ну, ничего. Оставим на будущее, тем более – в дверь скребутся, да кто это тут, неужели Попов, что-то больно быстро, и каблуки не стучали, в валенках, значит, подкрались: заходите, говорю, гости дорогие – не заходят!
Сопят так, что на другом берегу Ангары слышно.
Ну, ясно…
Выхожу – ой-вэй, корзина! Булками пахнет!.. И к корзине, разумеется, Семен Матвеевич прилагается. Вот он, родной, потолок подпирает, чтоб не рухнул, а то тюрьма у нас с царских времен не ремонтированная, ревком-то мне денежек выделил на тюремное обустройство, вы как думали?.. – не каждый день адмиралов арестовываем! – только как их потратить с умом, эти деньги, когда я мало кого в Иркутске знаю, ну и Викентий Алексеичу отдал, пусть у него голова болит, он человек в тюрьмах понимающий… расчувствовался старик, прослезился, он еще у "верховного" на тюремный ремонт пробовал выклянчить – но тот на прошении "разобраться!" начертал – и с концами… Да-а…Теперь пусть и разбирается… Так вот, а прилагающийся к корзине саквояж мой одним пальцем подцепил – два в ручку не пролезают – и протягивает с трепетом. Я саквояж под мышку – косится, не одобряет…
Как это так с ученой сумкой?!
– Товарищ революционный партизан Потылица, спасибо вам сердечное, коммунистическое, – запихиваю в пасть шанежку. Ух… Горячая! С картошечкой… Объедение! – А шала што – нэ. ту? Сала?..
Я ведь Попову сало заказывал, если помните?
Бедный партизан, семнадцати лет от роду, просто рот разинул.
– Самойла Гдалыч… Вы ш иврей… Вы ш не кушаете…
– Ну что за антисемитская дискриминация?… Уже и сала бедному еврею нельзя, как при старом режиме. Константин Андреич себе продуктов взял?
– Я отделил… И барыне отнес… Ой и красивая барыня! И бельишку принес с одевалом и бинтами. Во, в корзине все. Самойла Гдалыч… Мне б одним глазком! – Смотрит умоляюще сверху вниз, а как ему еще смотреть, мальчику колоссальному… – На абмирала поглядеть…
Устами младенца… Как бы у нас адмирал того… Совсем не обмер…
– Зоосад нашел, укротитель! Пойдем, поможешь мне, – ухватил я партизана за лапку и в кабинет заволок – он едва успел корзину с пола взять.
И спросить, как у него водится, что такое зоосад, антисемитизм и дискриминация, не смог. Хотя запомнил обязательно – знаю я его, настойчивого…
– Здоровьичка вам… – настойчивый говорит, у самого глазки васильковые совершают пробежку по лбу, у Колчака его сапфировые тоже показывают, что их увеличительные способности еще далеко не исчерпаны. Вполне его понимаю! И мои глаза при виде Семена Матвеевича помчались скорей знакомиться с затылком.
Вот как вы себе думаете, какой этот мальчик вырастет?.. У него плечи моих не уже, а выше он меня на голову.
– Ох ты батюшки, – говорит мальчик, в полтора шага подходит к дивану, решительно извлекает из корзины сверток и начинает разматывать… – Ваше, значит, – говорит – благородье абмирал, вы молочка кушаете? Не сумневайтесь, хорошее. Во, тепленькое ишшо… Кушайте, – говорит – на здоровье. А баньку я истопил! И редек сичас натру, есь у меня! От ломотки костяной способствует! И ишшо с медом…
Видите, какой многообещающий ребенок?!
– Господи помилуй, молодое комиссарское переиздание, – охнул Колчак, поспешно запивая потрясение молоком из бутылки и, кто бы сомневался, поперхнувшись. Понимаете, почему он ужасно тощий?.. Ему что-нибудь, неважно что, только в рот попадет – он сразу давится… Молоко в чашку налей, шлимазл, хотел я Потылице указать, а тот, гляжу, сам руки моет (ну прямо как еврей) и стакан берет, переливает. Колчак беспрекословно опустил в стакан нос, глотнул и закашлялся, верный своему долгу. Не иначе впопыхах носом пил…Перепутал…Колоссальный ребеночек осторожненько их – адмирала с посудой – придерживал (это пусть себе, это можно, вшей у Потылицы, чистюли известного, не водится, я проверял), сидя на корточках и гудел со смущением:
– Угошшайтеся, милости просим… Гураное молочко (это какое такое, я затревожился)… Оно-т ишшо луччее, чем коровье, ваше благородье господин абмирал! Оно здоровее…
– Гураны – козы у кержаков… – каким-то образом умудрился Колчак ответить на мои явно очень громкие мысли и попытался от стакана отвернуться, не допив: лицо обмякшее, глаза осоловели… Плохо, желудок атрофирован… Потылица не настаивал, отвел руку, это я бы пристал неотвязно.
– Товарышш Шшудновский… – позвал вполголоса – абмиралу кушать нельзя совсем. Ни калачика, ни шаньги… У яво все кишки с голодухи заклеелися. Молочко вот можно, а ишшо простокишу…
– Откуда знаешь? – присел я рядом, положил два пальца на запястье голодающего. Тахикардия та еще…И с желудком что… Свободной рукой вопросительно погладил проваленный живот, гляжу, он аж съежился, челюсти стиснул, скулы под выскобленной до синевы кожей напросвет, ну понятно, ну не буду. Ревматизм, он такой. А Потылица немедленно – стакан недопитый на табуретку и пытается у себя пульс сосчитать. Между прочим, нашел. Я же говорю, он талантливый.
– Да заблуд отхаживать мне приходилось, – отвечает с достоинством.
– Тогда ты помнить должен, зиселе, – улыбаюсь – что температура у заблуд была пониженная. Так?.. Вот, – улыбаюсь – и санитар вам, господин адмирал.
Колчак с закрытыми глазами лежит (ресницы на полщеки) и эти ресницы у него трясутся, куда там вееру, сморщился, губы поджал: притворяется изо всех сил, что не смеется. Что – просто снова кашель привязался.
А натура-то, видать, веселая – притвориться не получается.
Потом свои сапфировые как распахнет… У меня руки зачесались, тоскуя по кисти: золотые искры в сапфирах пляшут.
– Полноте, – и тоже улыбается. Только не как я – бережно. Краешками губ. – Меня Александр Васильевич зовут… А вас как прикажете величать, а то я, признаться, катар желудка нажил от собственного: господин комиссар..?
– Ну… Самуилом зовите, – перевел я дух растерянно и с облегчением.
Он глаза на миг опустил…
– А по батюшке? – продолжает мягко допытываться. Его свои же белогвардейцы рохлей и мямлей считали. И нас приучили.
Плохо они Колчака знали!..
Я ответил стесненно:
– Гедальевич буду…
Шаддаи Элохим, вы не поймете, потомки, как мы ежились, когда у нас русские об имени спрашивали… Но если вы понимаете – не напрасно ли лилась кровь?… Горячая, красная, русская, еврейская…
Одинаковая…
– Какое имя ветхозаветное, – восхитился Колчак шепотом. Он не хотел мне специально приятное сказать, у него непроизвольно вырвалось и меня остолбенело – Шмуль-Эле бен Гедалья…
Помедлил, шевеля губами, пробуя на вкус безнадежно чужой язык, пригляделся ко мне – и догадался:
– Не так? Самуил Гедальевич?..
Я только головой покачал с усилием.
– Дозволенья просим, – подал голос Потылица – я знаю! – Не меня, Колчака спрашивает, представляете? – и тот, улыбаясь глазами, выдает согласие при помощи ресниц, разумеется – Шмуаэль-Эли'аху бар Гед'далиа, вот, – выговорил старательно – А ково оно это – санитар? Ково-то делать надо, товаришш Шудновский?..
Я, слава Богу, сидел – иначе бы рухнул.
Имя Скрижалей христиане произносят?.. И не кривятся, не плюются – с уважением говорят?
И оно им известно?!
Готтеню, божечка. Ведь и впрямь – совершилась революция…
– Молодой человек из кержаков, Самуил Гедальевич, – окликнул меня Колчак обеспокоенно – среди них не редкость знание основ древнееврейского… Они староверы, потомки бежавших от гонений патриарха Никона, последователи Аввакума, – пытался торопливо достучаться до помутившейся моей головы, и видел я как он думает виновато, что мне, еврею, нет дела до всевозможных христианских сект – и это, наверно, правильно, и Потылица, счастливый популярностью, показывал два пальца, мол, да, староверы, двумя пальцами крестимся, адмирал на предъявленное двоеперстие посмотрел и вдруг осенило его:
– Боярыня Морозова на картине… как же… ах, не знаю… – искренне страдал – Помните?.. Репина?..
– Сурикова, Александр Васильевич, – прошептал я благодарно. Надо же.
Ведь действительно не знает.
– Грознова царя ишшо, как он царевишша зашиб, худошник Репин рисовал… – сообщил Потылица, продолжая неназойливо демонстрировать нахватанную по зернышку эрудицию – Самойла Гдалыч… Каво делать-то санитара?.. Ваше благородье господин абмирал, каво?
Я ответить на животрепещущий вопрос не успел.
– Тебя как звать, дитя мое?.. – умудрился Колчак таким тоном спросить, что семнадцатилетний Потылица не обиделся, а почти тридцатилетний я – через месяц стукнет, если интересуетесь – обзавидовался.
– Симеон Матвеичем звать, – солидно дитя представилось – Потылицыных мы, значится, кужебарские то исть, с реки Амылу, по-за Анисеем, ваше благородье господин абмирал.
– Слыхал про Амыл, – кивнул Колчак, я смекнул вмиг: правда слыхал, и очень интересно – откуда и что именно… – А санитар – это вроде няньки, Семен Матвеевич. Вот такие дела неважные… И зови ты меня по имени, пожалуйста, а то больно уж долго выговаривать тебе приходится, – рассмеялся беззвучно.
Нет, ну я, конечно, понимал, что не станет Колчак уточнять, что он совсем не "ваше благородие", а очень даже "ваше высокопревосходительство"… Тоже, гм, выговоришь – и язык на плече… – но видали комика?..
– Так нехитрое дело санитаром-то, – дитя колоссальное обрадовалось. Ага, разбежался, просим позволения поздравить. А поворачивать ревматика небось как станешь – за руку тянуть?.. И вообще его, вполне может быть, трогать нельзя…
Сердце не выдержит.
– Ох ты батюшки! – Потылица впечатлился… Я покосился украдкой: не появилась ли на красивом адмиральском лбу, как втайне я побаивался, но старательно свою догадку от себя отгонял, отчетливая надпись, что это было бы совсем недурственно – сию минуту концы отдать, выражаясь по морскому. Золото в России, декабристочка на свободе – можно и отчаливать…