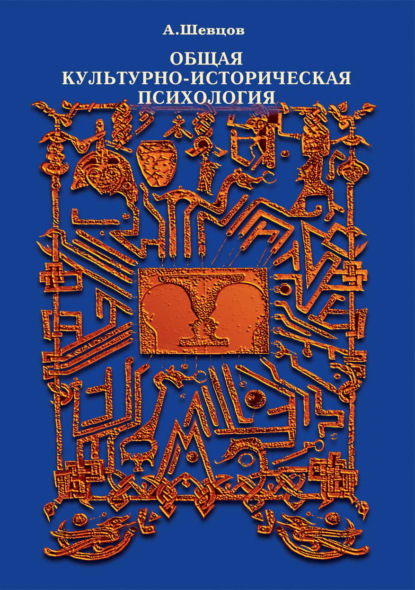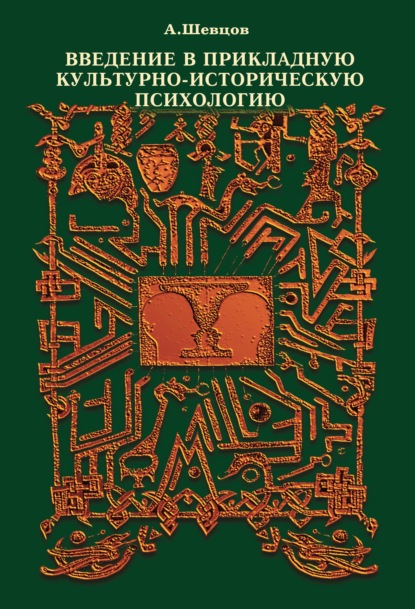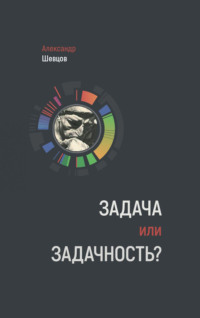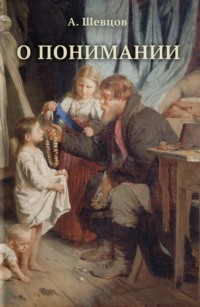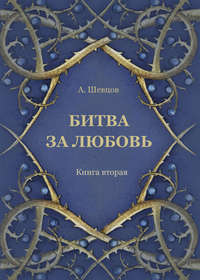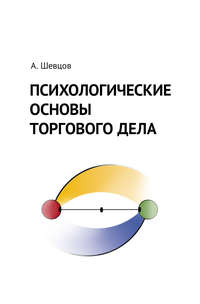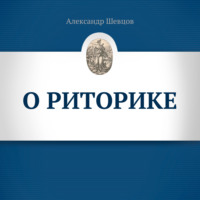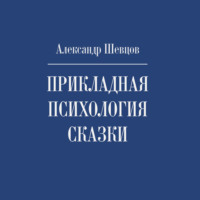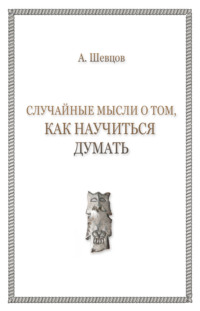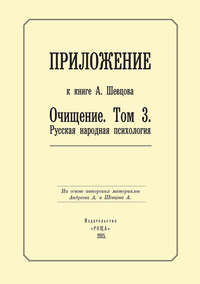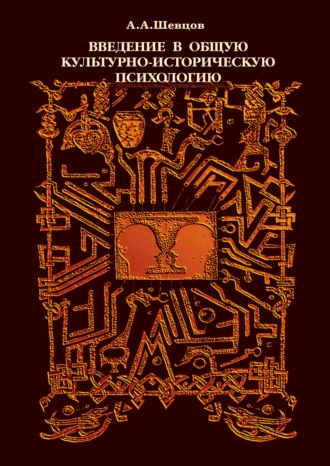 полная версия
полная версияВведение в общую культурно-историческую психологию
В одном из самых достоверных диалогов Платона «Критоне» от имени самого Сократа дается ответ на этот вопрос. Отвечая на предложение своего ученика Критона бежать, Сократ говорит:
«Вот ты и смотри теперь: уходя отсюда без согласия города, не причиняем ли мы этим зло кому-нибудь, и если причиняем, то не тем ли, кому всего менее можно его причинять? И исполняем ли мы то, что признали справедливым, или нет?
К р и т о н. Я не могу отвечать на твой вопрос, Сократ: я этого не понимаю.
С о к р а т. Ну так посмотри вот на что: если бы, в то время как мы собирались бы удрать отсюда – или как бы это там ни называлось, – если бы в это самое время пришли сюда Законы и Государство и, заступив нам дорогу, спросили: “Скажи-ка нам, Сократ, что это ты задумал делать? Не задумал ли ты этим самым делом, к которому приступаешь, погубить и нас, Законы, и все Государство, насколько это от тебя зависит? Или тебе кажется, что еще может стоять целым и невредимым то государство, в котором судебные приговоры не имеют никакой силы, но по воле частных лиц становятся недействительными и уничтожаются?”» (Платон, Т.1, «Критон», 50–50b).
Рассуждение это начинается с понятия справедливости, и можно уверенно сказать, что это понятие чрезвычайно важно для Сократа. Без его понимания, пожалуй, невозможно будет понять и то, почему он так истово защищал Законы и Государство, а может быть, и то, как выстраивается все здание Сократовой философии. Дело в том, что в ней все между собой увязано – или, как говорили про Сократа, он всегда говорил об одном и том же, – и хотя к пониманию ее можно подойти с разных сторон, как и поступали другие исследователи, мы вполне можем избрать понятие «справедливость» в качестве того кончика нити, потянув за который можно распутать весь клубок.
Что такое справедливость?
Справедливость настолько самоочевидное понятие, что наука почти не в состоянии дать его определение. В большинстве современных словарей это слово просто отсутствует. Его нет в этимологических словарях Фасмера, Преображенского, Черныха, нет в Психологическом словаре Петровского и Ярошевского и в «Современном словаре по психологии» Юрчука.
Там же, где оно есть, составители чаще всего почему-то определяют «справедливость» через «справедливое». Четырехтомный академический «Словарь русского языка» дает: «Справедливость 1. Свойство по значению прилагательного справедливый. 2. Беспристрастное, справедливое отношение к кому-, чему-л.» И только в 3-м значении пытается дать собственно определение: «3.Соответствие человеческих отношений, законов, порядков и т. п.морально-этическим, правовым и т. п.нормам, требованиям». А в разделе «справедливый» читаем: «Действующий беспристрастно, в соответствии с истиной».
Что можно сказать в отношении этих определений? Третье значение слова «справедливость», говоря по-бытовому, чего-то не задевает, не вызывает ощущения соответствия с чем-то, что я как русскоязычный человек знаю про справедливость. Это значит, что оно неточно, и в силу этого у меня не происходит очевидного узнавания.
Определение же понятия «справедливый» через «соответствующий истине», на мой взгляд, совсем неверно и прямо отсылает нас к Платону, ищущему истину через справедливость.
Кстати, «Философский энциклопедический словарь» также дает определение справедливости от Платона: «Справедливость – у Платона добродетель правильного отношения к людям, сумма всех добродетелей вообще». Кроме того, дается еще какое-то странное определение, на мой взгляд, еще более туманное, чем третье определение «Словаря русского языка»: «В современной этике ценностей справедливость является предварительным условием осуществления остальных ценностей и состоит в том, чтобы быть справедливым по отношению к чужой личности как таковой, уважать ее и не вторгаться в ее свободу действий и не препятствовать созданию культурных ценностей». Вряд ли это сделало присутствие скрытой части парадигмы, скорее, тот, кто это писал, был уже на излете и падал от усталости.
С психологической точки зрения, в этих определениях ощущается, что авторы очень хорошо знают справедливость и прекрасно узнают ее в бытовых проявлениях, но определить ее могут с трудом, только как: справедливость – это когда справедливо. Очень похоже на то, как мучаются собеседники Сократа, когда он просит их дать общее определение понятия.
Попробуем, однако, отойти от философского подхода к общим определениям и взглянуть на это понятие культурно-психологически. Это значит, что я не буду пытаться дать свое определение этого понятия, а сведу воедино то, что говорит об этом культура, в том числе и на бытовом уровне. Для этого у нас есть прекрасный инструмент – наше бытовое мышление, которое всегда отзовется на узнавание несколькими расхожими словечками.
Иначе говоря, я использую для проверки психологический механизм, который предлагаю проверить и вам. Стоит только убрать сдержанность и то, что в психологии называется «цензурой», и позволить себе откликаться на все высказывания так, будто вы уже на пенсии и имеете право просто поворчать, то на несоответствующее вашему мышлению утверждение у вас родятся звуки непонимания, типа: Чего, чего? – или: И чего буровит?! Язык-то без костей!
Если же высказывание узнается, то язык наш сам, как бы самокатом, рождает продолжение сказанного. Оно может быть сколько угодно разным у разных людей. Более того, у одного человека может быть несколько разных продолжений, и из-за этого можно посчитать, что ты заставляешь себя придумывать эти продолжения. Неважно, даже если ты их придумываешь, они ощущаются возможными, и, значит, узнавание произошло и обнаружило соответствие сказанному в нашем мышлении. Этого достаточно. Факт того, что в культуре и в соответствующем ей обычном мышлении есть определенная связь двух высказываний, обнаружен. Наличие же подобной связи означает наличие цепи образов, которые складываются в понятия и уложены в точной и весьма определенной для каждой культуры последовательности. И нам, в отличие от философов, совершенно неважно соответствие того, что получится, некоему абсолютному и истинному определению понятия, нам важно лишь соответствие того, что получается, понятиям родившей это культуры. Назовем этот прием самокатом.
Итак, сначала выберем из имеющихся определений то, что узнается как явные признаки справедливости:
1. Беспристрастность. – Это очевидно: справедливый человек – он беспристрастный, он никому подыгрывать не будет!
2. Правильное отношение к другим людям. – Что это значит? Правильно быть справедливым? Конечно, правильно. Это всякий знает… может, и глупо, но правильно!
3. Соответствие человеческих отношений, законов, порядков и т. п. морально-этическим, правовым и т. п.нормам, требованиям.
Ну как, отзывается что-то, кроме м-м-м?..У меня не очень. А при этом вроде бы и верно.
Разберем. Отношение твое к другому, если ты справедлив, должно быть беспристрастным. Условно говоря, если ты судишь двоих, которые попросили их рассудить, то ты не должен подыгрывать. Слово подыгрывать тут же опускает нас в мир игры. А в игре всем правят правила. Значит, справедливость – это способность судить по правилам, не нарушая их, никому не подыгрывая и никого не обижая зря.
Для этого, конечно, надо знать правила. И если мы вглядимся в само слово справедливость, то увидим в нем: «прав» и «ведливость», то есть знание, ведание «прав». Что такое «прав»? Это или права, или, что вероятнее, правила. Отсюда и «правильное отношение» в определении от Платона. Правильное, значит, соответствующее правилам.
Если теперь вернуться к определению, которое мы разбирали, то увидим, что «отношения, законы, порядки» – это то, что судит, или с помощью чего судят, или из-за чего могут судить. В каком же случае они признаются справедливыми? Если они соответствуют тому, что нравственность народа считает правильным. Иначе говоря, тому, как принято, обычаю или развивающемуся из него закону.
Иными словами, если, в одном случае, обычай считает, что правильно каждому поровну, то все признают это справедливым. Если же, в другом случае, обычай считает, что всем поровну, а одному двойную долю, потому что он старший, все и это признают справедливым, потому что таково правило.
Нужно только, чтобы это правило всем было известно заранее, и люди на него согласились, как на условие взаимоотношений. Иначе говоря, подобные правила есть договоры, согласия, которые люди или заключают, договариваясь перед делом, или не заключают, но принимают негласно, поскольку рождаются в определенной культуре, где действие множества правил оговорено давно в прошлом, а в настоящем они присутствуют в виде обычаев. Соответственно, «наш человек» принимает подобные обычаи в самом раннем детстве и исполняет потом, как само собой разумеющееся. В силу этого, правил он не нарушает не по доброй воле и не по нравственному выбору, а бездумно! Обдуманно совершаются только нарушения.
Именно эта психологическая возможность высвободить «мозги» для других дел и не думать о правилах поведения, обычаях и значениях привычных слов и не позволяет потом дать определения многим понятиям, относящимся как раз к работающей и правящей части бытовой народной психологии. Они-то и должны бы составить основной понятийный инструментарий культурно-исторической психологии, несмотря на то, что большая их часть совсем отсутствует в словарях общей психологии.
Естественно, и Сократ, и Платон получили понятие справедливости в наследие от своей культуры. Но они были первыми, кто поставил вопрос о справедливости на философское рассмотрение. Почему?
Вопрос этот, собственно говоря, начинается для Сократа с точки отсчета, имя которой Смерть. Поэтому мы можем назвать тему справедливости Мир Сократа по эту сторону смерти.
Итак, Сократ осужден своим полисом, то есть городом-государством на смерть. Что делать? Принять этот приговор или избежать его? А если избежать, то как объяснить свой отказ подчиниться решению суда сограждан?
«Или, может быть, – размышляет Сократ, – мы возразим, что ведь это же город поступил с нами несправедливо и решил дело неправильно?<…> “Как же это так, – могут сказать Законы, – разве у нас с тобою, Сократ, был еще какой-нибудь договор кроме того, чтобы твердо стоять за судебные решения, которые вынесет город?”» (Платон, Т.1, «Критон», 50с). Я привожу эту цитату из Платона еще и затем, чтобы было видно, что мой рассказ о справедливости можно считать бытовым определением понятия «справедливость», соответствующим пониманию Сократа. С этой точки зрения его вполне можно использовать как КИ-психологический термин.
Кроме того, что это работающий термин или, точнее, психологическое понятие, без которого невозможна ни одна ветвь общественной психологии, я бы хотел обратить внимание и на то, что это понятие каким-то образом выстраивает наш Образ мира. Во всяком случае, мы все крутимся вокруг справедливости, как вокруг оси мира на протяжении всей человеческой истории. Она же правит жизнью Сократа и является чем-то вроде путеводной нити на его жизненном пути вообще и к смерти в частности. Говоря современно, понятие «справедливости» можно считать мироустраивающим принципом для Сократа и, кажется, для всей бытовой народной психологии вообще. Иначе говоря, справедливость не является ни началом, ни концом мира, она – содержание взаимоотношений и правит жизнью народа целиком и каждого отдельного человека в частности. Вот только вопрос: в виде справедливости или в виде несправедливости?!
Поскольку это понятие так важно, попробуем, основываясь на тех источниках, что у нас есть, описать, как оно существует в философии Сократа в развитии и в связях. И хотя эти источники не совершенно достоверно рассказывают о самом Сократе, но, по крайней мере, с психологической точки зрения является фактом, что и Платон и Ксенофонт так думали о Сократе. А значит, это все является фактом их мышления и соответствует культуре, народу и времени, то есть является предметом культурно-исторической психологии.
Напомню, Сократ, как считается, стал первым философом нравственности, сутью которой является справедливость. Попробуем восстановить ход его мысли. Все греческие философы до него, а это, пожалуй, века полтора, были заняты вопросами об устроении Мира-природы, который Пифагор назвал «космос», что значит «порядок». Иными словами они больше были заняты делами, считавшимися божественными, Сократ же стал первым философом дел человеческих.
Ксенофонт пишет об этом в своих «Воспоминаниях»: «Да он и не рассуждал на темы о природе всего, как рассуждают по большей части другие; не касался вопроса о том, как устроено то, что софисты называют «космос», и по каким непреложным законам происходит каждое небесное явление.
Напротив, он даже указывал на глупость тех, кто занимается подобными проблемами» (Ксенофонт, «Воспоминания о Сократе», кн. I, гл.1, 11).
Что это значит? С точки зрения бытового ума, вопрос о том, каковы первостихии мира, или об атомах, выглядит праздным в силу своей бесполезности в жизни. Праздным он выглядит и с точки зрения мистика, который по смерти хочет перейти в мир богов. Кроме того, этот вопрос праздный еще и потому, что в условиях Греции V века до н. э. не было никакой возможности ни проверить, ни использовать подобные знания. И это явно ощущалось Сократом. Следовательно, с какой-то точки зрения великие греческие философы досократовской эпохи были глупцами, поскольку полезли за пределы человеческого мира в неведомое, не познав того, что было им доступно. Сократ и заявляет это, и показывает всей своей жизнью. Для нас же это резкое заявление о глупости тех, кто пытается исследовать «космос», будет подтверждением намерения понять философию Сократа из мира людей.
В следующем же абзаце рассказа о глупости мудрецов Ксенофонт приводит ключевой вопрос, с которого начинается философия Сократа: «Первый вопрос относительно их, который он рассматривал, был такой: считают ли они себя достаточно знающими то, что нужно человеку, и потому приступают к изучению таких предметов или же, оставляя в стороне все человеческое, а занимаясь тем, что касается божественного, они думают, что поступают, как должно?» (Там же, 12–13).
Итак, первый вопрос: зачем заниматься философией? Зачем ты занимаешься тем, чем занимаешься? Что тебе нужно? Выражение: «Знающими то, что нужно человеку», – отнюдь не однозначно. Оно допускает два возможных ответа: знает ли философствующий, что нужно другим людям; и второй – а знает ли он, чего хочет сам, что ему нужно для себя. И второе – едва ли не сложнее первого. Про то, что нужно людям, хотя бы можно у них спросить.
А вот для того, чтобы знать, что нужно тебе, желательно себя познать…
И сам Сократ постоянно будет находиться между этими двумя вопросами. Ему что-то нужно, он чего-то достигает сам и даже считает, что достиг, поскольку идет ради проверки этого на смерть. Но при этом он в достижении своей цели зависим от людей. Вот эта-то простая бытовая зависимость философа от тех, рядом с кем он живет и кто в любой момент может его попросту затравить, – одна из самых жизненных черт его философии. Человека надо попросту бояться и всячески ублажать и избегать. Человек – самый страшный зверь на земле. Поэтому можно сколько угодно говорить об объективном методе как основе науки, но при этом сквозь строчки будет явственно читаться, что это лучший метод не для постижения истины, а для выживания!
В дальнейшем исследовании я буду исходить из установки, что у Сократа есть некая большая личная цель. Назовем ее условно Истиной, как и сам Сократ, но понятие это скорее скрывает, чем раскрывает цель Сократа. И само-то оно не так просто доступно пониманию, но еще больший вопрос, что понимает под этим Сократ. Но для нас это и не важно. У Сократа есть личная цель, и все, что он делает, он делает для ее достижения. А поскольку он только беседует, значит, все его беседы есть шаги, ведущие к этой цели. К цели его мы вернемся позже, когда будем говорить о Мирах небесных, пока же нам достаточно договориться о ее наличии, как об одном из условий задачи. Понимание же, что все, что он делает, есть достижение этой цели, нам чрезвычайно облегчит понимание его метода и мировоззрения, то есть парадигмы.
Путь
Ксенофонт так рассказывает о том, что занимало Сократа: «…а сам всегда вел беседы о делах человеческих: он исследовал, что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно и что безобразно, что справедливо и что несправедливо, что есть благоразумие и что – безумие, что – храбрость и что – трусость, что – государство и что – государственный муж, что есть человеческая власть и что – человек, способный властвовать над людьми, и так далее; кто знает это, тот, думал он, человек достойный, а кто не знает – по справедливости заслуживает названия человека низкого» (Там же, 16).
Как сейчас модно выражаться в науках, изучающих культуру, Сократ использует тут бинарные оппозиции нравственного ряда, из которых Ксенофонт выстраивает некоторую последовательность. Я выделил ее в тексте и выстрою в цепь для наглядности: благочестие – прекрасное – справедливость – благоразумие – храбрость – государство – государственный муж и власть.
Конечно, можно посчитать, что последовательность эта случайна, а недалекий Ксенофонт просто перечислил то, что вспомнилось. Однако мнение о том, что Сократ все время говорил об одном и том же, как бы повторяясь, дает основания предположить, что в этой последовательности описан как раз основной круг занимавших его вопросов. А если мы к ним приглядимся, то увидим, что и расстановка их далеко не случайна, а, скорее всего, точно выверена Ксенофонтом и приведена в соответствие с внутренним строем учения Сократа.
Именно это дает мне основание принять мнение Соболевского о том, что современные философы, считавшие Ксенофонта недалеким и не способным понять философию Сократа, ошибаются. Скорее всего они, как говорит Лосев, антиисторичны и видят лишь то, что он глядит не так, как они, не понимает того, что понимают они. Иначе говоря, даже если бы у него не хватило ума понять их и их школы, это вовсе не значит, что он также не понимал и свою современность. Ксенофонта «как писателя очень ценили в древности. Его называли аттической музой, аттической пчелой; Цицерон находит, что его речь слаще меда и что его голосом как бы говорили Музы» (Соболевский, с. 20). Древние считали, что речь Ксенофонта проста и ясна и, хоть и страдает от отсутствия ораторской красоты, зато хорошо передает смысл. Поэтому Дион Хризостом (около 100 года н. э.) советует по нему учиться: «Ксенофонт, думаю я, даже один из древних, может быть достаточным для государственного деятеля. Будет ли кто полководцем на войне или правителем города, или оратором в народном собрании, совете, суде и пожелает не только как оратор, но и как государственный деятель и царский сановник сказать речь, действительно соответствующую такому мужу, – лучший, самый полезный для всего этого автор, по моему мнению, Ксенофонт. Мысли его ясны, просты, для всякого доступны; способ выражения мягок, приятен, увлекателен; много в нем силы убеждения, много прелести, украшений, так что его искусство похоже не только на мастерство слова, но даже на очарование» (Там же).
Вот это очарование Ксенофонта для древних говорит мне, что он не только был им хорошо понятен, но и понимал, что говорит. Более того, и понимал глубоко, и был достойным учеником Сократа, про которого все говорили, что речи его, вроде бы простые и о простом, обладали удивительным очарованием, собирали толпы завороженных слушателей, в том числе и аристократов. А один из них – Алкивиад – в «Пире» жалуется, что буквально был пойман в ловушку этой способностью Сократа и не сравнит воздействие его потрясающей речи ни с кем. Даже великий оратор Перикл выглядит лишь хорошо говорящим на фоне Сократа. При этом очаровывает отнюдь не его ораторское искусство. Вот что говорит Алкивиад Сократу: «Когда кто-нибудь слушает тебя или твои рассуждения в передаче другого, хотя бы он и плохо говорил, мы все слушатели, будет ли то женщина, или мужчина, или мальчик, бываем вне себя и находимся под властью их» (Там же, с.36).
Значит, нечто скрыто в самом содержании этих речей. «Если бы кто захотел слушать беседы Сократа, – продолжает Алкивиад, – они показались бы ему сначала крайне смешными…Он говорит о вьючных ослах, о каких-нибудь медниках, сапожниках, кожевниках, как будто он всегда твердит одно и то же в одних и тех же выражениях, так что всякий невежественный и недалекий человек посмеялся бы над его рассуждениями. Но стоит раскрыть их и заглянуть в их внутреннее содержание, сейчас же окажется, что они более, чем какие-либо другие рассуждения, имеют внутренний смысл, глубоко божественны, заключают в себе множество образов добродетели и затрагивают множество вопросов или, вернее сказать, все, что подлежит иметь в виду всякому, желающему сделаться нравственным человеком» (Там же).
Следовательно, простота эта обманчива. Что-то было в содержании речей Сократа и его ученика, что заставляло отзываться души современников, а значит, узнавалось, отзывалось и чрезвычайно им соответствовало.
А теперь приглядимся к словам Хризостома. С чего он начинает? С постановки цели. Я бы перефразировал его так: Если кто хочет стать государственным мужем и властвовать, то что ему надо изучать? И тогда все рассуждение Хризостома разбивается в соответствии с теми местами в обществе, которые может занять человек. А места эти выстраиваются в цепь в соответствии с ценностью этих мест на взгляд человека античной эпохи: государственный деятель – полководец – правитель города – оратор в народном собрании, совете, суде. А теперь приложим к этой лествице мест-ценностей античного общества устроение Сократовской философии, как его передал Ксенофонт, но только в обратном порядке. Государственный муж – государство – храбрость – благоразумие – справедливость…Потрясающее соответствие! Полный круг жизни древнего грека. Остались за пределами бытовой лествицы Хризостома только благочестие и прекрасное.
На самом же деле эти два понятия – всего лишь само собой разумеющееся, почему и опускается любым нормальным человеком того времени. Прекрасное – божественно и есть проявление божества в нашем мире. Безобразное – удел человека, хотя он волен при этом стремиться к прекрасному, что является и стремлением к божественному, и, следовательно, вводит в понятие «благочестие», то есть, по сути, почитание богов. Это означает, что вся эта последовательность у Сократа начинается воротами из мира Богов в мир людей, а завершается государством и властью, что мы можем назвать управлением или, как это называет Платон, кибернетикой.
Управление, управляемость общества – главнейшая боль Платона и Сократа. Как сделать общество управляемым, чтобы в нем можно было жить? Управляемым на всех уровнях – вот почему правителю города, который, по мысли Сократа, должен печься о пользе, соответствует благоразумие или разум, а оратору в народном собрании, совете и на суде – справедливость. Все это подробно и действительно многократно разбирается в многочисленных диалогах Платона и рассказах Ксенофонта.
Что же описывают эти цепи понятий? Как и любые «бинарные оппозиции», они призваны описывать Мир и тем самым создавать Образ мира. А это прямо и непосредственно вводит нас в самое сердце современной общественной психологии.
В связи с этим мне хочется задать вопрос «неправомерный»: с какой стати философы присвоили себе Сократа? В такой мере присвоили, что психологи просто боятся его упоминать, хотя как-то рискуют говорить об Аристотеле или о Декарте, например. С одной стороны, это, конечно, связано с тем, что изначально, когда еще психология не выделилась из философии, Сократ считался началом начал философии. С другой стороны, затронуть Сократа, не обладая соответствующим уровнем культуры, которая в философии нарабатывалась веками, просто уязвимо для психолога. При этом сами философы, походя бросая фразы о психологизме Сократа, как бы даже не видят того, что Сократ-то философом и не был. Мудрецом и любителем мудрости он, конечно, был, но отнюдь не философом, как это стало пониматься после Аристотеля, а тем более Канта.
Конечно, и Сократ, и Платон разработали некоторые понятия, которые использовала последующая философия. Но вот вопрос: верно ли использовала? Не приписывала ли своего понимания, как это чаще всего и бывает? Понимание Сократа сквозь собственную школу уязвимо. Немало школ философии и рождались-то на основе неверно понятых слов предшественников, что, например, является основной слабостью кантианства, выстроившего «чистую гносеологию» на основании бытового понимания психологических понятий.
Бесспорно относящийся к «большим» философам А.Ф.Лосев говорит о работе с текстами Платона: «…весьма обостренный и тщательно проводимый терминологический анализ должен быть в настоящее время обязательным слагаемым всякого анализа Платона, без чего все тайники платоновской мысли останутся для нас закрытыми навсегда. Этот терминологический анализ платоновской эстетики очень труден, требует учета бесконечного числа текстов, часто становится в тупик перед явным семантическим разнобоем и почти всегда требует приведения нужных текстов Платона в исчерпывающем виде» (Лосев, История античной эстетики, 1994, с.148).