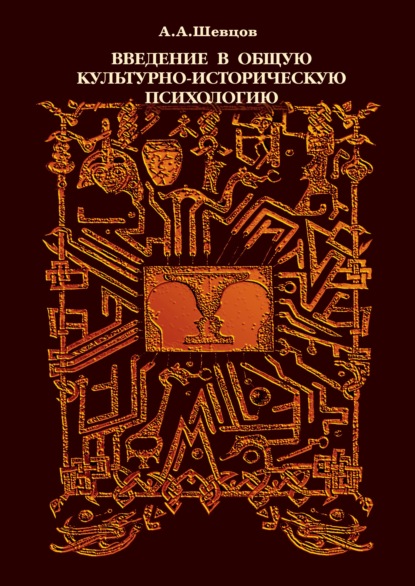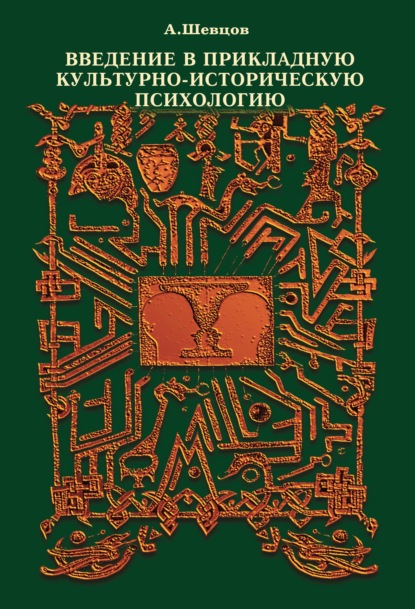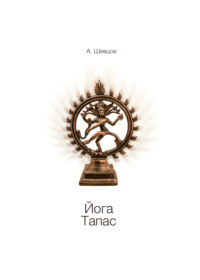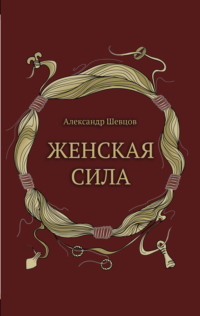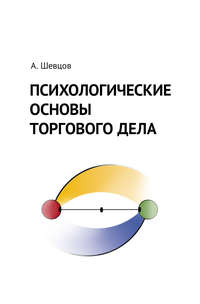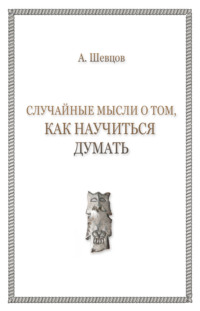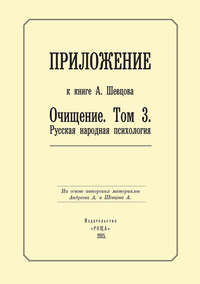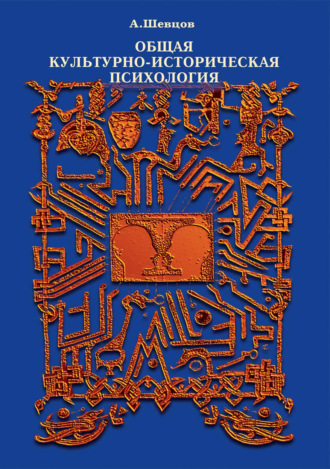 полная версия
полная версияОбщая культурно-историческая психология
И это, с той же очевидностью, будет чем-то, вроде простейшего кирпичика, из которых складываются такие сложные образы, как Образ мира.
Глава 5
Образ и образы культуры
Обычно я начинаю исследование какого-либо психологического предмета с подробного разбора того, что о нем сказали психологи. Но в отношении образов я намерен отступить от этого правила. Причин две. Во-первых, в России никто не смотрел на образы со стороны культурно-исторической психологии, смотрели со стороны общей, а значит физио-психологии. Во- вторых, как я это показал в предыдущей главе, смотрели так, что это наследие естественнонаучного подхода невозможно использовать – стыдливо пряча даже от себя, что делают это с помощью самонаблюдения, при этом громогласно изгоняли самонаблюдение из психологии…
Если идти КИ-психологическим путем, то начинать надо не с главного, не с основ и корней, из которых все развивается, а археологически, то есть с тех слоев, что на поверхности и легче всего доступны. Начинать надо с того, как понятие «образ» используется в бытовой речи. А используется он отнюдь не психологически, а именно как часть нашей культуры.
К примеру, на Руси до сих пор распространен способ называть иконы образfми. Очевидно, от словосочетания «образ божий». Мазыки имели особое офенское слово для образа – Стод. Так же звался и бог. Очевидно, это было заимствование из языка богомазов, чьими произведениями и торговали по преимуществу офени, жившие вокруг важнейших мест русского иконописания – Палеха, Холуя, Суздаля, Шуи.
Думаю, от богомазов понятие «образ» перекочевало к художникам. И до сих пор одно из важнейших требований к художнику – умение передать образ. Так звучит. Но что это значит? Простое фотографическое перенесение изображения с одного места на другое не считается передачей образа. Тем более это не соответствует требованию, когда речь идет не о живописной картине, а о картине, к примеру, кинематографической. И уж совсем ясно становится, что передача образа не имеет отношения к зрительному восприятию, когда мы говорим о том, как передает образ художник слова – писатель.
Это еще одно подтверждение того, что психологи неверно начинали изучение образов с восприятия, в котором преимущественно занимались зрительным восприятием. Про остальные же виды добавляли: как при зрительном восприятии.
Образ вообще не вырастает из восприятия.
Хотя восприятие и используется при творении или распознавании образов, образ, если еще раз вспомнить образы писателей, явление исключительно внутреннее. А зрительное восприятие далеко не доходит до того места, где творятся образы.
Судите сами: когда вы смотрите на страницу книги, вам кажется, что вы читаете слова, складывающиеся из букв. И значит, можно посчитать, что вы воспринимаете написанные на листе знаки. Но в действительности, чтение – это уже действие после распознавания зрительных образов, а не по восприятию их.
Воспринимаем мы лишь цветовые пятна, затем воспринятое отправляется на распознавание в ту часть нашего сознания, где хранятся образы подобных пятен, там выискиваются соответствия, содержащие в себе как зрительный образ, так и значение. Эти соответствия возвращаются к воспринимающему органу, и как бы через него набрасываются на строчки цветовых пятен. Именно в этот миг они обретают вид букв, а слова наполняются смыслом.
Только после этого мы заново пытаемся воспринять написанное, стараясь понять его. Как вы понимаете, это уже совсем иное восприятие, почему и называется пониманием. Того, исходного восприятия, которое делается органами чувств, глазами, больше не происходит, хотя мы и продолжаем видеть слова. Но видим мы именно слова, а уже не цветовые пятна. Более того, нам было бы неимоверно сложно сбросить эти одежки узнавания с этих пятен и вернуться к исходно-естественному восприятию.
Узнавания держатся так крепко, что проще погибнуть самому, чем перестать узнавать то, что однажды узнано. Мы все это помним по детской игре-загадке – найти спрятавшегося в кустах почтальона. Раз найденного почтальона никаким усилием нельзя спрятать от себя снова. Узнавание прилипло к нему намертво.
И это и есть образ. Образ культуры, если хотите, потому что в одних культурах загадка относилась к почтальону, в других – к пионеру, в третьих – к велосипедисту, а в иных – к цапле среди тростников…
Образ – это то, чем мы распознали явление в мешанине неразличимых воздействий, которые оказывает на наш ум через органы восприятия предстоящая им действительность.
То, что рождает в нас образы, безусловно, работает с потоком воспринимаемого извне, но образы оно рождает, беря их не из этого источника. Оно лишь усмиряет поток с помощью образов, но ничего не меняет в воспринимаемом. Образы – это средство защиты от внешнего мира, рвущегося в меня через органы восприятия. Но восприятие и образы, которым мы его укрощаем, не только разной природы, они вообще не соотносятся и не соприкасаются!
Просто вглядитесь еще раз в буквы, которые вы узнаете на странице, и осознайте, что под ними сохранились все те же цветовые пятна, которые никуда не делись, которые все так же продолжают рваться в ваше сознание, и даже, быть может, хотят донести до вас совсем другое сообщение… Но мы не можем его услышать, потому что уже накинули на этот поток сетку узнавания, и теперь живем только в ней. Действительный мир стал недоступен.
Вглядитесь в этот образ, и вы поймете, почему я говорю: восприятие и образы даже не соприкасаются между собой. Они лишь граничат, так что образы повторяют поверхность восприятия. Это все равно как реку покрыть коркой льда – тогда по ней можно ходить. Но лед – это одна среда, а река – другая, и река осталась нетронутой после того, как вы положили поверх нее эту пленку. Она все так же мчится куда-то вдаль под этим слоем. Мы же теперь считаем, что поняли ее, потому что можем ходить поперек или наискось…
Но разве река для того, чтобы ходить поперек? Вот и образы – это то, что позволяет человеку ходить поперек природы, не видя ее, не обращая на нее внимания… Особенно, когда их становится много.
Именно тогда они создают особый мир, который можно назвать вслед за Кавелиным психической средой, а можно средой обитания человека или культурой.
Но это же среда обитания души. И творит образный мир все же она. Зачем? Похоже, чтобы повторить здесь, в воплощенном мире кусочек того мира, где ей естественно жить. Можно сказать, кусочек рая…
И тогда культура – это попытка человечества воплотить Небеса на земле. Попытка, конечно, очень искаженная нашей воплощенностью. Но разве все люди, создавая свои гнездышки, не пытаются сделать в них райские места хотя бы лично для себя?
Изучение культуры с неизбежностью должно начинаться с изучения ее мифологических корней, потому что именно они движут нашими душами. Психологи очень мало занимались мифологией, поскольку хотели быть естественниками. Но разве естественнонаучная революция, как и революция коммунистическая, не двигались мечтой о технологическом или социальном рае?
Глава 6
Воображение
Образы необходимо отделить от восприятия и выделить в совершенно самостоятельный предмет. Восприятие относится к телесной психологии, но очень мало к образам. Конечно, какое-то отношение образы к восприятию иметь могут, но не большее, чем бревнышко, перекинутое через ручей, к ручью или камушкам, на которые опирается. По бревнышку, конечно, можно вынести какое-то суждение о камнях, но лучше это делать иным способом, напрямую…
Образы рождаются не восприятием, а воображением. Это, кстати, с очевидностью свидетельствует язык, создавший это слово. Сейчас, в начале исследования, еще невозможно точно сказать, кто воображает – сознание или душа. Возможен только самый общий ответ – я. Но образы творятся именно этой нашей способностью воображения «нарезать» сознание на удобные куски. Слово «образ» происходит от корня «резать», как вы помните.
В состоянии ли я в этой исходной книге дать точное определение воображения? Пожалуй, нет. Ему стоит посвятить хорошее исследование. Но в общем можно сказать, что воображение – это способность. И эта способность творит образы. Иногда воображение считают способностью придумывать что-то несуществующее. Это сужение, – воображение творит любые образы, как обрабатывая воспринятое, так и глядя в пространства сознания на уже имеющиеся образы.
Любые образы творятся воображением, то есть переведением во образы.
И это значит, что воображение – это не пустяк, которым балуются дети и художники, воображение – одна из самых божественных наших способностей, поскольку, похоже, только она одна и является выражением способности творить. Всё остальное творчество, вроде живописи, литературы, ремесел – лишь воплощение уже сотворенных воображением образов.
Именно в силу того, что через воображение мы соприкасаемся с творением, я и не рискну глубоко входить в этот предмет сейчас. К нему надо прикасаться подготовленным.
Но можно отметить, что воображение может творить образы, по крайней мере, двух видов. Это те, которые набрасываются нашим сознанием поверх восприятия, как бревнышки через реку, чтобы мы могли как-то жить в этом мире. Это образы-узнавания действительности. И есть другие образы, вроде кентавров и сфинксов мифологии, когда из простых образов создаются сложные их сочетания, вероятно, не имеющие соответствия в действительности.
Первая способность воображения непроизвольная, вторая – произвольна и называется придумыванием. Для нас же важно в ней лишь то, что мы, оказывается, умеем управлять своим воображением. Значит, мы умеем управлять и творением…
Кроме того, безусловно, надо упомянуть и те образы, с помощью которых мы думаем. По своей сути, они точно такие же, но мы выделяем их в особый разряд, поскольку они кажутся нам чрезвычайно важными для выживания. Образы эти называются понятиями и имеют разное устройство, в зависимости от сложности задач, которые решают.
Простейшие понятия рождаются как собирательные образы из множества образов-узнаваний какой-то вещи или явления. Не буду сейчас вдаваться в тонкости этого вопроса: философы немало спорили, есть ли в действительности единый обобщающий образ для этого множества, или же мы, даже обретя ощущение понимания, все же имеем лишь множество собранных в пучок отдельных узнаваний. В любом случае, раз у нас рождается имя, которым мы обобщаем эти отдельные понятия, значит, есть и соответствующий ему образ, выступающий над всем множеством, как шапка или навершие, по которому мы и извлекаем их все из памяти.
Но и понятия не исчерпывают виды образов, потому что их мы тоже обобщаем и создаем обобщающие понятия для множеств родственных понятий.
Таким образом, наш разум облегчает себе работу с бесконечным объемом образов, которыми воображение заполняет наше сознание. В сущности, создание понятий и обобщающих понятий как-то естественно для работы нашего сознания и той его способности, которую мы называем разумом. Это очень важно отметить для себя.
Судите сами: творение обобщений и выделение для них неких орудий, позволяющих легко управлять памятью и соображением, определенно является выражением внутреннего свойства разума упорядочивать сознание. Во многом разум и есть выражение этого свойства сознания, его склонности к упорядочиванию. Следовательно, порядок, – определенный порядок, – естественное состояние сознания, которое постоянно поддерживается разумом.
При этом, если «заглянуть» в свое сознание, так сказать, сунуть в него нос, то может показаться, что там жуткий беспорядок, и черт ногу сломит…
Однако, это всего лишь данность лично моего или вашего сознания. А вот естественно для сознания быть упорядоченным и хранить имеющиеся в нем образы строго в соответствии с каким-то неведомым нам устройством самого сознания.
Что это за устройство, я сейчас объяснить не смогу. Но очевидно, что оно как-то связано с тем, что сознание обладает разными плотностями своих частей. Это прямо вытекает из его способности иметь понятия разного уровня обобщения. Узнавания составляют один слой сознания, он как-то ощущается более плотным и трудным для управления.
Но если удается создать обобщающее понятие для этих узнаваний, ты ощущаешь себя будто всплывшим над этим слоем, словно бы голову высунул из полосы тумана, и обозреваешь все, что в ней, сверху. И жить с понятием гораздо легче, будто ты немножечко обрел крылья.
По мере того, как таких понятийных «голов» становится все больше, появляется возможность обобщить и их. И тогда ты всплываешь еще выше, и управляешь уже гораздо большим и более сложным миром. Как полководец.
Народ называет такое состояние мудростью.
Народ же, в частности, мазыки, прямо говорили о том, что все понятия существуют в более легких, точнее, более духовных слоях сознания, и слои эти составляют «лествицу нисхождения духа в тель».
Иными словами, именно за счет способности сознания иметь сложное, все утончающееся или, наоборот, все уплотняющееся устройство, душа и может войти в тель, то есть обрести телесность. Без этого она бы просто не смогла не только им управлять, но даже и находиться внутри его, поскольку проходила бы насквозь, как призраки проходят сквозь стены.
Как вы понимаете, наше воображение оказывается в состоянии творить образы из сознания любой плотности. Но этому, похоже, надо учиться. Возможно, это одна из важнейших задач воплощения, освоить творение из вещества разного уровня плотности.
Глава 7
Память и образ мира
Воображение творит образы, память их хранит, разум использует для обеспечения выживания, для решения жизненных задач.
Память хранит образы, это кажется очевидным. Как очевидно и то, что в сознании и в памяти нет ничего, кроме образов. Все воспоминания – это образы. Но верно ли то, что хранит их память?
Вопрос выглядит, пожалуй, странным, но вдумайтесь: если образы творятся из той среды, которая называется сознанием или парой, то могут ли они храниться вне её? Где еще? В мозговых клетках? Это невозможно. Если образ сделан из вещества сознания, он должен храниться в той же среде, иная его просто не сохранит. Как песок не сохранит воду.
Образы живут в своей собственной среде, как живут воздушные вихри в воздухе. Следовательно, хранятся они все в той же среде. А что же память?
Похоже, что память не есть собственно хранилище или объем, заполненный образами. Память – это способность не хранить, а использовать или обеспечивать использование образов.
Именно поэтому мы говорим о хорошей или плохой памяти.
Хранилище, которое мы при этом имеем в виду, не может быть плохим или хорошим. Оно абсолютно. И подтверждением этого является то, что даже однажды забытое обязательно вспоминается и никогда окончательно не пропадает. При определенном усилии или с помощью некоторых приемов можно вспомнить все. Значит, хранилище это таково, что плохим быть не может.
Что же плохо?
Наша способность извлекать из него нужные воспоминания.
А вот это действительно страдает и даже может быть улучшено и обучено.
Следовательно, память – это не хранилище, а способность. И способность отнюдь не запоминать образы. Запоминаются они так же жестко, как и творятся. Если уж на то пошло, то вообще не запоминаются.
Совершенно нет нужды запоминать вещь, если ты ее создал!
Она просто есть. И где-то лежит, готовая к использованию.
Улучшить запоминание нельзя, можно улучшить лишь способность извлекать вещи-образы, которые нам необходимы для жизни. И нельзя забывать, что сознание обладает определенной вещественностью, как, впрочем, и душа, если верить святым Феофану Затворнику и Игнатию Брянчанинову. Вещественность эта очень тонкая, но достаточная для того, чтобы не только делать полные подобия вещей плотного мира, но и хранить все эти подобия в определенных пространствах сознания.
Именно сознание и является собственно хранилищем памяти.
Это значит, что у сознания есть устройство, которое позволяет это хранение. Устройство это двойное: первое мы уже разобрали – сознание обладает разной плотностью, и поэтому создает образы разного уровня обобщения. Второе – сознание связано с человеком, а точней, с его душой. Оно и само выстроено по подобию некоего смерча, уложенного вокруг души. Можно сказать, вращающегося вокруг нее.
Поэтому у сознания появляются разные пространства, в которых могут храниться разные образы. Одни ближе, другие дальше. Одни более доступны, другие – менее. Очевидно одно: прямо там, где душа сталкивается с восприятием, работает воображение, и значит, там должен быть источник чистого сознания, из которого и ведется творение образов. А вот заполненные образами слои сознания должны отступать все дальше, из-за чего становятся менее различимы, что ощущается забыванием…
Время лучший доктор. Это высказывание означает, что по мере накопления новых образов, старые оттираются от того места, которым мы чувствуем, которым страдаем, то есть от души. И если вначале мы в состоянии прямо переживать происшедшее, то есть переживать душой, то со временем нам приходится производить усилие, чтобы вытащить переживания из памяти, и представить их перед глазами души.
Таким образом, памятью становится то, что извлекается из сознания с помощью памяти, с помощью усилия воспоминания. Но это уже иное значение слова «память», что надо обговорить.
Когда мы говорим: память, хорошая память, добрая память, горькая память… мы говорим не о хранилище, а о его содержании, о том, что вспоминается. И когда мы говорим: извлек из памяти, мы, в действительности, имеем в виду не извлечение из хранилища, а извлечение из числа прочих воспоминаний, из некой кучи или из некоего ряда, которые и зовутся памятью. Но и куча, и ряд находятся внутри хранилища и являются лишь его содержанием.
Однако, не вся память хранится так, как описано, то есть постоянно отодвигаясь от настоящего, от души в прошлое, прочь от места воображения и переживания чувств. Это лишь самое общее устройство сознания, но не устройство хранения памяти.
Устройство, в котором память хранится, и относительно которого и происходит постоянное течение воспоминаний от настоящего в прошлое, называется Образом мира.
Образ мира – это отражение мира, как мы его познаем с первого своего вздоха. А точнее, еще из утробы. Психологи очень плохо представляют себе, что это такое. Именно поэтому они увлекаются рассуждениями о всяческих моделях и картинах мира. Все эти модели и картины – мелочи внутри Образа мира или Мирового Стода, как говорили мазыки.
Образ мира вбирает в себя совершенно все, что мы воспринимаем и перерабатываем в образы. Задача его – обеспечить наше выживание. Он так же приспособлен к этому миру, как и наше тело, поэтому можно считать, что образ мира – это отнюдь не творение человека, а естественное устройство его сознания во время воплощения – тело сознания.
Образ мира начинает расти отнюдь не из простейших ощущений или восприятий, а из самых философских понятий, какие только доступны человеческому сознанию. Он строится из понятия плотности, которое раскладывается на жесткое – мягкое, любящее – злое, горячее – холодное, сытое— голодное… и так далее.
Образ мира оказывается основой для работы разума и мышления. Как и основой для различных мировоззрений. Мировоззрения, которые так ценятся людьми, на деле не более, чем морщины на ткани образа мира, и так же легко меняются, как волны на море. Море же, или образ мира, остается совершенно неизменным и не зависящим от них…
Он только наращивает и наращивает объемы воспоминаний, привязанных к его частям. Сам образ мира не растет от прибавления воспоминаний, они лишь утолщают его, как бахрома пыли. Он растет лишь тогда, когда происходит познание чего-то неведомого.
Об образе мира надо рассказывать особо, и я посвящу ему отдельное исследование, когда доберусь до книги о разуме. Пока же достаточно сказать, что сам по себе он есть основа разума, но вот бахрома образов, которая нарастает на нем, как мох на старых деревьях, к разуму отношения не имеет, хотя и захватывает наше осознавание, заставляя жить внутри себя.
Именно этот образный мох и составляет культуру, которой мы живем.
Но чтобы ее понять, надо хотя бы кратко описать разум и рождающееся из него мышление.
Глава 8
Разум и мышление
Кроме воображения и памяти, образы используются еще и разумом и мышлением. О рассудке я пока не говорю, поскольку он является лишь орудием разума, его способностью рассуждать, то есть выстраивать определенные последовательности и связи образов.
О разуме я буду писать особо, Наука думать – это большая тема. Пока же дам лишь очень краткий очерк, показав ту сторону разума, которая делает необходимой культурно-историческую психологию.
Но сначала кратко, как видели разум ученые. А уж они-то должны бы были его и видеть и понимать, поскольку вся научная революция или Просвещение начиналась когда-то в семнадцатом веке под именем Рационализма, то есть века разума. И в Россию Просвещение входило именно под этим горделивым названием.
Могу сказать сразу: горделивости и кичливости у рационалистов было много, а вот действительным пониманием разума, похоже, никто из них не обладал. Основное понимание разума для ученых – это умность. И гордятся они тем, что умней других. Вот это и было основным движителем Просвещения – оно давало возможность почувствовать себя умнее окружающих тебя дураков. Наверное, Вольтер своими ядовитыми издевками очень сильно способствовал распространению такой культуры: вот ведь можно же обгаживать всех вокруг, и для человека науки это пройдет безнаказанно!..
Просвещение и научная революция были именно революциями, то есть переворотами. А это значит, что мир переворачивался вверх ногами, и низ занимал место верха, то есть плебеи занимали место благородных. В итоге, и мы это прекрасно знаем, с приходом Науки к власти над умами, было запрещено отстаивать свою честь, дуэли преследовались, а класс дворян выводился и вырезался до такой степени, что однажды их место заняли интеллигенты, смутно помнящие что-то о прежних временах, но подменяющие благородство интеллигентностью…
В начале двадцатого века первый русский «Философский словарь» Радлова уже не помнит слова «разум». Он простодушно проговаривается о том, что действительно нужно философам: о рассудке и рассуждении. То есть о той части разума, с помощью которой философ ведет свои рассуждения. Как делал и Декарт, и деятели Французской революции. Разум рационалиста – это способность рассуждать.
Отдельной статьи «Разум» у Радлова нет, но внутри есть немножко странное рассуждение: «Рассудок и разум— обозначают две различные ступени познавательной деятельности человека, причем рассудок обыкновенно противополагается разуму, как низшая ступень высшей; впрочем обыденное словоупотребление не выдерживает этого различия и придает этим терминам иные оттенки (например, говорят о разумном, о рассудочном человеке и т. д.)».
А дальше о том, как это понятие запутывали своей умностью Кант и другие умники.
Странно это рассуждение уже тем, что, заявив о том, что разум – высшая ступень, стоило бы и статью посвятить ей. Но философ почему-то предпочитает ограничить себя только рассудком. Да и остальной части этого рассуждения я не понимаю.
Как, впрочем, не понимаю и наших психологов, которые просто выкидывают понятие разум из своего словаря и пишут так, чтобы никто не заподозрил их в том, что они залезли на поля философии.
Сейчас по всей России насаждаются учебники психологии под редакцией академика Дружинина, скромно называющие себя «Учебниками нового века». Учебники эти, как про них сказано, соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта на бакалавра психологии. Вот пример того, что достаточно современному психологу, чтобы считаться в родном сообществе бакалавром.
«Соотношение понятий мышление и интеллект.
Мышление и интеллект – близкие по содержанию термины. Родство их становится еще яснее, если перейти на обыденную речь. В этом случае интеллекту будет соответствовать слово “ум”.
Мы говорим “умный человек”, обозначая этим индивидуальные особенности интеллекта. Мы можем также сказать, что “ум ребенка с возрастом развивается”, – этим передается проблематика развития интеллекта.
Термину “мышление” мы можем поставить в соответствие слово “обдумывание”. Слово “ум” выражает свойство, способность, а “обдумывание” – процесс. Таким образом оба термина выражают различные стороны одного и того же явления. Человек, наделенный интеллектом, способен к осуществлению процессов мышления. Интеллект— это способность к мышлению, а мышление – процесс реализации интеллекта.
Мышление и интеллект с давних пор считаются важнейшими отличительными чертами человека. Недаром для определения вида современного человека используется термин Homo sapiens – человек разумный» (Психология. Учебник, с. 207).