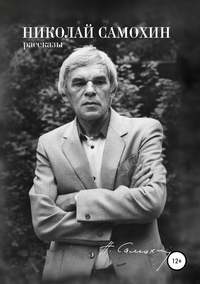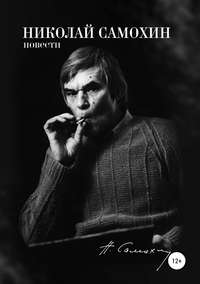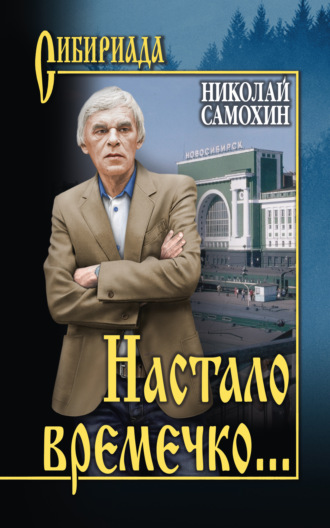
Полная версия
Настало времечко…
Венька подумал секунду.
– А сколько кинешь?
– Ну сколько, сколько… – Парень от нетерпения перебирал ногами. – Ну, пару рублей кину.
– Падай, – сказал Венька.
К этому кафе, где свадьба, они подъехали со двора. Там оказалось высокое крыльцо, неосвещенное, – парень, видать, знал ход.
Он прислушался к музыке:
– Порядок. Как раз танцы. Минут пять подождешь?
Выскочили они даже раньше. Невесту Венька не рассмотрел – темно было. Тоненькое белое привидение скользнуло в машину. Хлопнула дверца.
– Трогай, шеф, – велел парень.
– Куда ехать-то?
– Все равно.
Все равно – так все равно. Венька крутанулся переулками до Торгового центра, поворотил к Дому ученых, на Морской проспект, потом – вниз по Морскому, выехал на Бердское шоссе – темное уже и пустынное.
Но – стоп! Не в маршруте дело, а в том, что происходило за Венькиной спиной. А происходило там та-кое-е!.. Венька уши развесил и рот открыл. Он думал, что похищение это – хохма какая-нибудь, розыгрыш, а получился роман прямо. Художественное произведение. У этих двоих, оказывается, раньше любовь была. Потом он как-то неудачно выступил, она его вроде «пнула», проучить хотела. Он взбрындил и уехал – в экспедицию, что ли. А она подождала-подождала, тоже взбрындила и раз! – замуж. За школьного друга, кандидата какого-то.
Примерно так понял Венька из обрывков разговора. Не столько понял даже, сколько сам нарисовал эту картину. Потому что говорили они теперь – торопливо, перебивая друг друга, – не о прошлом уже, о настоящем. А слова-то, слова какие – кино, честное слово, кино!
«Лелька, дорогая! Что ты делаешь, подумай!.. Неужели на кандидатские позарилась? Это ты-то? Не верю! Поломай все, Лелька, порви – слышишь?..»
А она: «Ах!.. Ох!.. Аркаша, милый!.. Ох, дура я, дура! А ты – балда, балда! Хоть бы адрес оставил!.. Да поздно, Аркашенька, поздно!.. Да при чем здесь кандидатские – он человек хороший, ты же сам знаешь. Ой, мамочки! Да ведь я не та уже, не та! Понимаешь? Ты хоть это понимаешь?..»
И в таком духе, в таком духе.
Кого только ни возил Венька: пьяных в сиську, иностранцев, писателей, базарных спекулянтов в кепках-«аэродромах», кидавших пятерки на чай, официанток из ресторанов с ихними фраерами развозил по хатам.
Но чтобы такое!.. У Веньки вспотели ладони, он по очереди вытирал их о свитер и, вытирая, слышал, как под ладонью бухает сердце.
Парень заливал здорово, напористо – невеста начала слабнуть. Венька почувствовал это. Парень тоже, видать, почувствовал, от уговоров перешел к командам:
– Никуда ты отсюда не выйдешь, не выпущу. Плевать нам на них, Лелька, плевать! На хороших, на плохих – на всех. Едем ко мне. Прямо сейчас!.. Шеф, разворачивай в город!
Запахло, кажется, воровством настоящим. Венька аж головой крутанул: вот те на! Хотя что же? – не он ведь воровал. Его дело извозчичье. И в город ему, с пассажирами, вполне годилось.
Все же он пока не разворачивался, только скорость чуть сбросил. Потому что те двое окончательно еще не договорились.
Парень – «разворачивай», а невеста – «Аркашенька, опомнись! Что мы делаем, господи!..»
– Шеф, ну что ты телишься? Разворачивай! – простонал парень.
И тут Веньку тоненько щекотнуло что-то. Мысль – не мысль, а так – дуновенье. Атом какой-то проскочил по извилинам. И он, как тогда, на стоянке, спросил:
– А сколько кинешь?
Спросил и напрягся почему-то в ожидании ответа.
– Ну сколько, сколько… – тоже как там, на стоянке, сказал парень – только еще нетерпеливее сказал, злее: – Пару рублей сверху получишь!
Венька смолчал. Продолжал ехать.
– Ну, тройку, шеф! – сказал парень, нажимая на «р» – «тр-ройку».
Венька резко тормознул. Включил свет в салоне и повернулся к ним.
Парня он проскочил взглядом – видел уже, – уставился на невесту. Глазами с ней Венька только на мгновение встретился – не успел даже цвет различить. Круглые, испуганные – и все. Она их сразу же опустила. Но и с опущенными… Нет, не видел Венька подобного ни в кино, ни на картине. Не видел!.. Такая она была вся… такая! Ну не расскажешь словами. Да как рассказать-то? Про что? Про волосы? Про щеки… губы? Про то, какая шея? А такая: раз взглянуть – и умереть. Или напиться вдрабадан, чтобы неделю ничего другого не видеть… И где только она росла-то? Чем ее поливали?..
Венька смотрел.
Становилось неудобно.
Парень усмехнулся углом рта и тихо, словно извиняясь, сказал:
– Видишь, какие дела, шеф? Помоги вот… уговорить.
Венька очнулся. Слова до него не дошли. Просто стукнулись о черепок и разбудили. И сразу же он понял, что сейчас будет. С такой ясностью увидел неотвратимость всего дальнейшего – даже в животе холодно сделалось.
Еще почти спокойно, стараясь не сорваться раньше времени, он сказал парню:
– Вылезай – приехали!
– Как приехали? – не понял тот.
– А так. Дальше ты у меня не поедешь.
– Ты что, шеф, взбесился? – спросил парень. – Мало даю, что ли? Могу прибавить.
– Я тебе сам прибавлю. – Венька психанул. В секунду. Словно на него скипидаром плеснули. – Прибавить?! Сколько? Червонец – два? Н-на! – Он рванул из кожанки скомканные деньги. – Бери! И выметайся!
– А ну-ка, не ху-ли-гань! – раздельно заговорил парень, с твердостью в голосе. И видно стало, что не такой уж он молодой, а вполне самостоятельный мужчина, умеющий когда надо командовать людьми. – И не маши хрустами! Ку-пец!.. Спокойно. Повыступал – и хватит! Все!
Ровно говорил, начальственно, как гипнотизировал.
Только Венька видал таких гипнотизеров. Не раз и не два. Он достал «уговаривалку» – монтировку. Вымахнул из машины, рывком открыл заднюю дверцу.
– Вылезешь, козел?! – спросил, не разжимая губ.
Парень вылез. Губы у него прыгали.
Невеста сунулась было за ним, но Венька, не глядя, так шарахнул дверцей, что невеста отпрянула в угол и закрыла лицо руками.
– Ладно, – сказал парень. – Я выйду. Но ты!.. Бандит!.. Понимаешь? Ты же бандит! Бандюга!.. И куда ты денешься? Я же тебя найду. Под землей раскопаю! Понял ты?!
– Ищи! – сказал Венька.
Он сел за баранку, развернулся, заскрежетав по гравию обочины, – и попер. И попер, попер! – только сосны замелькали, а потом и вовсе слились в сплошную черную стену, летящую навстречу.
Позади тряслась, давилась рыданиями невеста.
Только когда уже показались фонари Академгородка, она перестала трястись. Поняла, видать, что Венька не собирается ни грабить ее, ни чего другого с ней делать.
– Зачем вы с ним так? – заговорила, шмыгая носом. – Ведь ночь. Это ведь километров десять. Как он теперь?
Венька молчал.
– Ну, я понимаю, допустим… Да нет, я ничего не понимаю. Вам-то какое дело? Кто вы мне, право? Брат, сват, судья?
Венька молчал.
– Может, я еще и не поехала бы. Думаете, это так просто, да?
Венька молчал.
Но молчал он только вслух. А про себя… Никогда еще, наверное, Венька так свирепо не ругался.
«Коз-зел!.. Козлина! – скрипел зубами он. – Куртку замшевую надрючил! Джинсы американские!.. Пару рублей сверху, а!.. Торговался еще, гад! ТАКУЮ увозить – и торговался! Гнида с бакенбардами!.. Сидел – мозги пудрил, вешал… лапшу на уши. И – пару сверху! Ромео выискался».
Ах, если бы Веньке она сказала – увози. Да разве бы стал он торговаться! Кожанку бы снял. Рубаху последнюю. Половину таксопарка откупил. На руках бы нес все эти тридцать километров!
…Он остановился возле того же темного крыльца. Лег грудью на баранку: все, мол, точка.
Невеста взялась за ручку дверцы.
– Послушайте… Денег-то у меня с собой нет.
– Иди ты! – буркнул Венька. – С деньгами своими…
Она вылезла из машины, отбежала в сторону, остановилась – боком, настороженно, как собачонка: ногой топни – отпрыгнет.
– Вы подождите тогда – я вынесу.
– Эх! – сказал Венька и рванул с места.
* * *Веньку судили товарищеским судом. Тот парень выполнил свое обещание – разыскал его. Венька мог отпереться. Свидетелей, кроме невесты, не было, а невеста молчала бы, как мышка. Скандал ведь.
Но отпираться Венька не стал. Да, сказал, высадил в лесу и «уговаривалкой» грозил – точно.
Его спрашивали: какая тебя муха-то укусила? Пьяный, что ли, был?
Венька не стал трогать подробности. Вообще отказался от объяснений. Сказал только:
– И еще бы раз этого козла высадил.
Его на полгода сняли с машины.
Сейчас он за восемьдесят рублей в месяц крутит в гараже гайки и сосет лапу.
Встретились Толя и Гриша…
Писатель Толя и бригадир монтажников Гриша подружились. Мы столь фривольно называем их потому, что сами они друг к другу именно так впоследствии обращались.
Подружились они на отдыхе, в писательском Доме творчества. Для непосвященных это может странным показаться и даже неправдоподобным – для тех, кто думает, что писатели живут в замках из слоновой кости или отгорожены от народа непреодолимой стеной. По крайней мере, в своих собственных творческих домах.
Так вот – чтобы исключить недоразумения: когда не сезон, в этих самых домах отдыхают шахтеры, доярки, железнодорожники, строители. Попадаются иногда и писатели.
Толя и Гриша сошлись на той почве, на которой чаще всего сходятся русские люди. Писатель накануне встречался по случаю заезда с местными коллегами, маленько переборщил – и с утра чувствовал себя неважно: мотор плохо тянул, и голова побаливала.
Бригадир тоже был не в лучшей форме.
После завтрака вышли они вместе прогуляться по городку, похрустеть осенними листиками. Пошли рядом. Познакомились.
– Ну что, Григорий, – не знаю отчества, – сказал в одном месте писатель. – Может, по пятьдесят грамм? – и кивнул головой в сторону открытой рюмочной.
– Я не против! – легко согласился бригадир. – Меня на это дело уговаривать не надо.
Вошли.
– Только уж что по пятьдесят, – сказал Гриша. – Давай по сто пятьдесят. В честь знакомства.
– Нет, старик, – отказался писатель. – Душа-то, она широкая – примет. Да вот организм узкий – сопротивляется.
– А я возьму. Меня пятьдесят даже не щекотят.
Взяли они – каждый свою дозу, выпили, закурили: бригадир – «Беломор», писатель – сигаретку «Элита». Закурили – разговорились. Оказалось, между прочим, что они одногодки – оба с тридцать девятого. Хотя внешне – никто бы не подумал. Бригадир Гриша здоровый был, краснощекий, глаза голубые, чистые, с веселой сумасшедшинкой. Писатель Толя – небольшой, сухощавый, с залысинами, под глазами мешочки.
Толя докурил сигарету, шевельнул левым плечом, поморщился:
– Пожалуй, старик, я еще пятьдесят приму.
– На вторую ножку! – оживился Гриша. – Ну, тогда и я повторю.
С тех пор у них и повелось.
Писатель Толя приехал сюда поработать. Работал он над новой книжкой коротких новелл, в два-три дня «доколачивал», как сам выражался, сюжетик и тогда позволял себе расслабиться – посидеть вечерком в баре.
Бригадир Гриша должен был лечить радикулит. Но он еще дома, перед отъездом, почувствовал себя хорошо и, в силу беспечности характера, решил на лечение плюнуть. О чем и объявил весело уже на следующей встрече:
– А я, Толик, курсовку свою выбросил. Псу под хвост. Помнишь, как у Василия Шукшина: «Свернул трубочкой – и сунул». – Гриша знал литературу. А Шукшина особенно уважал.
– Не зря ли, Гриша? Смотри: погусарствуешь здесь – а он тебя дома опять догонит.
– Ну и хрен с ним. Догонит – тогда и полечусь… Ты посмотри, что вокруг делается! – А вокруг правда бушевала осень – такая, что под сердцем щемило. – И чтобы я – каждый день на процедуры? Да гори они!
Словом, собирались они вместе довольно часто. Беседовали о разном. Схватывались, например, спорить о хоккее. Это уж как водится.
– Ну, вот Харламов, – горячился Гриша. – Что он в последнее время показывает?.. Серпантин этот свой? Схватит шайбу, поволокет – все за ним: вот, думают, будет банка. А он накрутится досыта – и бздынь! – потерял. Хоть бы своему кому отдал, а то – чужому.
– Ну как же, – спорил Толя. – Он свою задачу выполняет: изматывает противника, отвлекает на себя.
– Своих он изматывает! Побегай-ка от ворот до ворот впустую. Не-ет… Я бы на месте тренера ему сказал: или ты играй, понял, или… У меня в бригаде был один такой… мудрило, рационализатор. Наделает шороху, нафинтит: счас, дескать, мы – левой ногой до правого уха. Ну, я подождал-подождал и взял его за жабры. Дома, говорю, рационализируй… в часы досуга, понял? А здесь давай план. И качество. Забивай, короче, шайбы! А то я тебе забью. Я те так забью! – Гриша сжимал полупудовый кулак.
Засиживались они таким образом часов до десяти-одиннадцати. Потом Толик подводил черту:
– Ну, старик… Я, пожалуй, и спать. А то ведь завтра снова на Голгофу.
– Давай, – не удерживал его больше Гриша. – А я пойду администраторшу поуговариваю. – Гриша бил клинья к администраторше – грудастой, большеглазой даме. Но пока безуспешно.
…В другой раз затрагивали производственный вопрос.
– Что, Толик? – спрашивал Гриша. – Трудно – инженером человеческих душ?
– Трудно, – честно сознавался Толя. – Не знаю, как другим, а мне трудно.
– Вот я и говорю!.. У меня же техникум как-никак. Неполный, правда, диплом я не защитил, так получилось. Ну, покрутился какое-то время в итеэр, плюнул и ушел бригадирить. И ты знаешь – лучше. Во-первых, тебя не едренят так в хвост и в гриву – раз. Во-вторых, ты все своими руками пощупать можешь – каждый болтик. А я очень люблю, чтоб своими руками. Ну, а в-третьих, заработок выше…
– Какой, кстати, заработок, Гриша?
– Так-э… В добрые месяцы – до четырехсот рублей… А у вас как? Если не секрет.
– У нас?.. Ну, если напишешь да напечатают – тогда гонорар. А вообще-то, многие служат – получают оклад: надежнее… Я вот, например, служу.
– Где?
– В журнале. Завотделом.
– Это что? Вроде начальника участка, по-нашему? И сколько?
– Сто семьдесят.
– Негусто… Ну а гонорары?
– С этим, старик, сложнее. Тут мы кустари-одиночки. С одной только разницей. Вот представь себе: сделал кустарь табуретку, вынес ее на рынок – получил пятерку. Простая операция: товар – деньги. А теперь представь: ты литератор. Сделал свою «табуретку», принес на рынок – в издательство то есть. Там ее покрутили-повертели – две ножки отломали. Как идеологически шаткие. Или художественно недоброкачественные. Две оставшиеся взяли, через полгода заключили с тобой договор – выплатили двадцать пять процентов. Спустя какое-то время – еще тридцать пять. Остальные – после выхода книжки. А это – года через полтора. А ты в долгах уже весь, как сукин сын… Хотя многие очень неплохо живут. Очень даже… Тут ведь индивидуально.
– Дела… – чесал в затылке Гриша. – А я вот помню, года четыре назад у вас же, в «Литературке» вашей, заметка была. Писал какой-то дух, что надо бы за книжки гонорар сразу не выплачивать. Пусть ее сначала читатели оценят, выскажут свое мнение: если толковая – получи сто процентов, а неважная – держи половину. Я тогда подумал: прав мужик. А это что же получается?.. Погоди-погоди… Ну а если сам он, допустим, строитель? Сдал дом, так? Жильцы помыкались квартал-другой: между панелями дует, полы рассыхаются, батареи текут. Хоп ему: пятьдесят процентов в зубы – и умойся!.. Как же вы, в своей же газете, пропустили такое?
– Демократия, Гриша, – посмеивался Толя. – Глас народа…
Разговаривали на интимные темы, о женщинах – мужики ведь.
– Как дела-то? – показывал глазами в сторону администраторской Толя. – Есть сдвиги?
– Сегодня поставил вопрос ребром, – сообщал Гриша. – Когда? «Почему, – говорит, – я должна уступать вашей настойчивости?» А чувства? – спрашиваю. – Гриша бил кулаком в широкую грудь. – Чувства надо уважать – нет? «У всех, – говорит, – чувства». У кого это еще, интересно? «Да есть тут… некоторое количество». Давай, говорю, раз так, посчитаем, сколько… на сегодняшний день. Кто и кто конкретно? Покажи…
– Да-а, – поднимал бровь Толя. – Вообще-то, подружку не мешало бы завести. Не такой уж грех, а?.. «Ночью хочется звон свой…» М-да… Но ведь для этого, черт-те… подход надо знать. Слова какие-то произносить. Вот чего сроду не умел.
– Ты?! – изумлялся Гриша. – Да за тобой же… любая! Свистни только. – Гриша искренне убежден был, что у артистов и писателей эта проблема не стоит: баб у них – как грязи.
– То-то, что не любая, старик, – виновато улыбался Толя. – Далеко не любая. Я в данной области, как говорится, тюфяк. Абсолютнейший. Бывает, уже и наедине остаешься. И по глазам видишь: ждет она, что ты ее сейчас… за разные интересные места. Так нет, руки, понимаешь, костенеют. Ну, словно тебе предстоит из человека в козла обратиться. Был-был человеком, и вдруг – м-ме-е-е!
– Темнишь, – качал головой Гриша. – Придуриваешься.
– Как хочешь, старик… Не ты один, кстати. Другие тоже не верят. Наоборот даже – сердцеедом считают. Реабилитируете потом, дьяволы… посмертно.
Так вот и прожили они месяц душа в душу. Расстались друзьями. Писатель на прощание подарил Грише свою книжку. Надпись сделал: «С нежностью»…
…Гриша прочитал книгу в поезде. Проглотил часа за три, не спускаясь с полки. Полежал маленько и вдруг – как уколотый – сел. Треснулся макушкой в потолок вагона. И схватился за голову: «Мать-перемать!..»
Но не от боли схватился. «Как же так, а?.. Ведь был человек рядом. Месяц целый!.. Поддавали, братались! О чем говорили-то? О че-ем?! Его же расспросить надо было, выпотрошить: как, куда, зачем? Он же знает! Вот она – книга-то, вот! Ведь тыкаешься, как цуценя мордой! Только пузыри надуваем – мы да мы! А он знает. Чувствуется же!.. Что?! Фиг теперь – раньше надо было. Вот дуб, а! Вот… клык моржовый!..»
Не знаем уж, телепатия тут или что другое, но о том же примерно (он улетал на день позже) думал в самолете писатель.
«Бездарно, бездарно! – качал головой он. – И ведь талдычат отовсюду: новый человек, в корне изменившийся. На экскурсии возят. За круглые столы сажают – толку-то от них, искренности-то. А тут – вот он: голенький, душа нараспашку – кореш! И что же? О чем я с ним? “Пас на пятачок… бабы… сто пятьдесят… сколько в месяц кидают? ” Но это же у всех – от и до! Это же одинаковое. А его собственное? Такое, о чем, может, только себе? Господи, да что это за стиль у нас, что за чириканье повсеместное?! Почему? Скользим… как на воздушной подушке… Ай, как бездарно!..»
Бескорыстный Гена
Познакомились мы при следующих обстоятельствах.
У меня потекла раковина в совмещенном санузле. Закапало откуда-то из-под нее. Снизу. Причем довольно энергично.
Я сходил в домоуправление и записал там в большой амбарной книге: дескать, так и так – течет. Примите срочные меры.
А под раковину примостил пока двадцатилитровую эмалированную кастрюлю, купленную в хозтоварах для засолки огурцов.
Я знал по опыту, что слесарь все равно не придет, но совесть моя, по крайней мере, была теперь чиста.
Слесарь, однако, пришел. На следующее же утро. Это был, я думаю, исторический факт в деятельности нашего домоуправления, который следовало отметить большим торжественным собранием и банкетом.
Звали слесаря Гена. Он был невысоким крепким парнем, с широким лицом и открытым взглядом.
Пока Гена стучал в санузле ключами, я варил на кухне кофе и мучился сомнениями. Слесарю полагалось заплатить три рубля – это я знал. Нет, я не суммировал в голове трешки, которые он может насшибать за день, и не скрежетал зубами при мысли, что заработок его получится выше профессорского. Просто мне никому еще не приходилось давать «в лапу», и я заранее умирал от стыда.
Наконец я решил попытаться оттянуть этот момент, самортизировать его, что ли, и когда Гена вышел из ванной, протирая ветошью руки, я фальшивым панибратским тоном сказал:
– Ну что, старик, может, по чашечке кофе?
Гена охотно принял приглашение.
Не сняв телогрейки, он сел к журнальному столику, заглянул в чашку и спросил:
– Растворимый?
– Нет. Покупаю в зернах и перемалываю.
– О! – сказал Гена. – Как в лучших домах Лондо́на! А растворимый – барахло. Им только пашок грудничкам присыпать.
Гена оказался интересным собеседником. Он, как выяснилось, служил много лет в торговом флоте, избороздил чуть ли не все моря и океаны, побывал и в Гонконге, и в Сингапуре. Особенно красочно Гена рассказывал про то, как гулял, возвращаясь из загранки с большими деньгами. Прямо с причала он ехал, бывало, в лучший ресторан Владивостока – один на шести «Волгах». В первом такси сидел сам Гена, во втором лежал его чемодан, в третьем – фуражка, в четвертом – пальто, в пятом – перчатки. Шестая машина была пустой – на случай, если Гена встретит по дороге хорошего кореша или знакомую девицу.
Потом Гена поинтересовался моими занятиями.
– А ты что, дед, – спросил он, – во вторую смену вкалываешь? (Он называл меня почему-то не «старик», а «дед». Наверное, это считалось более современным.)
Пришлось сказать, что я писатель и работаю в основном дома.
Гена это сообщение воспринял спокойно. Даже не поинтересовался, сколько я зарабатываю. Мои знакомые инженеры спрашивают про гонорар, как правило, на второй минуте разговора.
– Ну вот за эту, допустим, книжку, – говорят они, – сколько тебе, если не секрет, заплатили?
А услышав сумму, наморщивают лбы и так, с наморщенными лбами, сидят уже до конца, подсчитывая, очевидно, сколько же это я зарабатываю в год, в месяц, в неделю и в день.
Гена же только сказал: «Тоже хлеб. Дашь потом что-нибудь почитать», – и этим покорил меня окончательно.
Расставались мы приятелями.
– Дед, – сказал Гена. – Ты мне не займешь трешку до вечера? Крановщика надо подмазать – он нам трубы обещал из траншеи выдернуть.
– О чем разговор! – заторопился я, доставая из кармана заранее приготовленную трешку. – О чем разговор.
«Ну вот и славно, – подумал я. – Вот само собой и разрешилось».
…Вечером совершенно неожиданно Гена принес деньги.
Я попытался было отказаться от них, но Гена запротестовал:
– Да ты что! Скотина я разве – с корешей брать.
– Кто это был? – спросила жена.
– Представь себе… – Я растерянно вертел в руках трешку. – Утрешний слесарь… Занял у меня денег, я уж думал – с концом, а вот, пожалуйста. Даже обиделся: с друзей, говорит, не беру… Мы тут, видишь ли, выпили кофе, поговорили по душам…
– О, да ты демократ, – сказала жена.
– Напрасно смеешься! – обиделся я. – Человека не оскорбили чаевыми, не отодвинули от себя сразу – и он сумел это оценить. Вот тебе, кстати, наглядное доказательство.
На следующее утро, в половине седьмого, кто-то позвонил у наших дверей.
Жена, накинув халатик, пошла открывать.
– Там к тебе, очевидно, – сказала она, вернувшись.
Из-за плеча жены возникла честная физиономия слесаря Гены.
– Не разбудил я тебя, дед? – спросил он.
– В самый раз, – малодушно соврал я, кутаясь в одеяло, как индеец. – Только что собирались вставать.
– Кофейку заварим? – улыбнулся Гена. – Вчера с крановщиком поддали – голова трещит, ужас!
Жена принесла нам кофе и обратно ушла на кухню.
Она молчала, но было заметно, что ее не очень радует столь ранний визит.
От Гены это недовольство не укрылось. Он проводил жену насмешливым взглядом и заговорщически подмигнул мне:
– Видал, как хвостом крутит?.. Ты подвинти ей гайки, дед.
– Да нет, она, в общем, ничего, – заступился я за жену, – она добрая.
– Все равно подвинти, – сказал Гена. – Для профилактики… У меня корень один есть – большой специалист по профилактике. Утром проснется – как врежет своей Мане промеж глаз. Она еще сонная, понял? А он ка-а-ак врежет!.. Та очухается: «За что, Толя?» Молчи, говорит, зараза! Знал бы за что – убил бы!..
Ушел Гена без пятнадцати восемь. Я предлагал выпить по шестой чашке, но он отказался.
– Побегу, – сказал. – А то домоуправ опять хай поднимет.
На второй день Гена заявился ко мне часов в одиннадцать. Жена, слава богу, была уже на работе.
– Дед, – сказал Гена, – я упаду здесь у тебя?
– В каком смысле? – напугался я.
– Ну, брякнусь, – пояснил Гена. – Часа на полтора. В дежурке нельзя – техник застукает. А у меня – веришь? – голова как пивной котел. И ноги дрожат… Ты мне брось какой-нибудь половичок.
Я поставил ему раскладушку. Хотел кинуть сверху матрац, но Гена отказался. Прямо в сапогах он повалился на раскладушку, сказал: «Заделаешь потом кофейку, ладно?» – и через секунду уже храпел, как целый матросский кубрик.
Я попытался под этот аккомпанемент осторожно стучать на машинке, но скоро вынужден был отказаться. При каждом ударе Гена дико взмыкивал, скрипел зубом и отталкивал кого-то короткопалыми руками. Наверное, Гене снились обступившие его скелеты.
Я пожалел Гену, закрыл машинку и ушел на кухню.
На третий день Гена заскочил ко мне после полудня. Жена на сей раз оказалась дома.