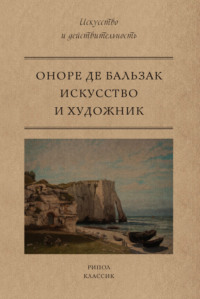Полная версия
Шагреневая кожа
– Учесть векселя самого неба – вот идея поистине коммерческая! Древние религии представляли собою не что иное, как удачное развитие наслаждения физического; мы, нынешние, мы развили душу и надежду – в том и прогресс.
– Ах, друзья мои, чего ждать от века, насыщенного политикой? – сказал Натан. – Каков был конец «Истории богемского короля и семи его замков» – такой чудесной повести!
– Что? – через весь стол крикнул знаток. – Да ведь это набор фраз, высосанных из пальца, сочинение для сумасшедшего дома!
– Дурак!
– Болван!
– Ого!
– Ага!
– Они будут драться.
– Нет.
– До завтра, милостивый государь!
– Хоть сейчас, – сказал Натан.
– Ну, ну! Вы оба – храбрецы.
– Да вы-то не из храбрых! – сказал зачинщик.
– Вот только они на ногах не держатся.
– Ах, может быть, мне и на самом деле не устоять! – сказал воинственный Натан, поднимаясь нерешительно, как бумажный змей.
Он тупо поглядел на стол, а затем, точно обессиленный своей попыткой встать, рухнул на стул, опустил голову и умолк.
– Вот было бы весело драться из-за произведения, которое я никогда не читал и даже не видал! – обратился знаток к своему соседу.
– Эмиль, береги фрак, твой сосед побледнел, – сказал Бисиу.
– Кант? Еще один шар, надутый воздухом и пущенный на забаву глупцам! Материализм и спиритуализм – это две отличные ракетки, которыми шарлатаны в мантиях отбивают один и тот же волан. Бог ли во всем, по Спинозе, или же все исходит от Бога, по святому Павлу… Дурачье! Отворить или же затворить дверь – разве это не одно и то же движение! Яйцо от курицы, или курица от яйца? (Передайте мне утку!) Вот и вся наука.
– Простофиля! – крикнул ему ученый. – Твой вопрос разрешен фактом.
– Каким?
– Разве профессорские кафедры были придуманы для философии, а не философия для кафедр? Надень очки и ознакомься с бюджетом.
– Воры!
– Дураки!
– Плуты!
– Тупицы!
– Где, кроме Парижа, найдете вы столь живой, столь быстрый обмен мнениями? – воскликнул Бисиу, вдруг перейдя на баритон.
– А ну-ка, Бисиу, изобрази нам какой-нибудь классический фарс! Какой-нибудь шарж, просим!
– Изобразить вам девятнадцатый век?
– Слушайте!
– Тише!
– Заткните глотки!
– Ты замолчишь, чучело?
– Дайте ему вина, и пусть молчит, мальчишка!
– Ну, Бисиу, начинай!
Художник застегнул свой черный фрак, надел желтые перчатки и, прищурив один глаз, состроил гримасу, изображая «Ревю де Дё Монд», но шум покрывал его голос, так что из его шутовской речи нельзя было уловить ни слова. Если не девятнадцатый век, так по крайней мере журнал ему удалось изобразить: и тот и другой не слышали собственных слов.
Десерт был сервирован точно по волшебству. Весь стол занял большой прибор золоченой бронзы, вышедший из мастерской Томира. Высокие фигуры, которым знаменитый художник придал формы, почитаемые в Европе идеально красивыми, держали и несли на плечах целые горы клубники, ананасов, свежих фиников, янтарного винограду, золотистых персиков, апельсинов, прибывших на пароходе из Сетубаля, гранатов, плодов из Китая – словом, всяческие сюрпризы роскоши, чудеса кондитерского искусства, деликатесы самые лакомые, лакомства самые соблазнительные. Колорит гастрономических этих картин стал ярче от блеска фарфора, от искрящихся золотом каемок, от изгибов ваз. Мох, нежный, как пенная бахрома океанской волны, зеленый и легкий, увенчивал фарфоровые копии пейзажей Пуссена. Целого немецкого княжества не хватило бы, чтобы оплатить эту наглую роскошь. Серебро, перламутр, золото, хрусталь в разных видах появлялись еще и еще, но затуманенные взоры гостей, на которых напала пьяная лихорадочная болтливость, почти не замечали этого волшебства, достойного восточной сказки. Десертные вина внесли сюда свои благоухания и огоньки, свой остро волнующий сок и колдовские пары, порождая нечто вроде умственного миража, могучими путами сковывая ноги, отяжеляя руки. Пирамиды плодов были расхищены, голоса грубели, шум возрастал. Слова звучали невнятно, бокалы разбивались вдребезги, дикий хохот взлетал как ракета. Кюрси схватил рог и протрубил сбор. То был как бы сигнал, поданный самим дьяволом. Обезумевшее сборище завыло, засвистало, запело, закричало, заревело, зарычало. Нельзя было не улыбнуться при виде веселых от природы людей, которые вдруг становились мрачны, как развязки в пьесах Кребильона, или же задумчивы, как моряки, путешествующие в карете. Хитрецы выбалтывали свои тайны любопытным, но даже те их не слушали. Меланхолики улыбались, как танцовщицы после пируэта. Клод Виньон стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно медведь в клетке. Близкие друзья готовы были драться. Сходство со зверями, физиологами начертанное на человеческих лицах и столь любопытно объясняемое, начинало проглядывать и в движениях и в позах. Какой-нибудь Биша, очутись он здесь, спокойный и трезвый, нашел бы для себя готовую книгу. Хозяин дома, чувствуя, что он опьянел, не решался встать, – стараясь сохранить вид приличный и радушный, он только одобрял выходки гостей застывшей на лице гримасой. Его широкое лицо побагровело, стало почти лиловым и страшным, голова принимала участие в общем движении, клонясь, как бриг при боковой качке.
– Вы их убили? – спросил его Эмиль.
– Говорят, смертная казнь будет отменена в честь Июльской революции, – отвечал Тайфер, подняв брови с видом, одновременно хитрым и глупым.
– А не снятся они вам? – допытывался Рафаэль.
– Срок давности уже истек! – сказал утопающий в золоте убийца.
– И на его гробнице, – язвительно вскричал Эмиль, – мраморщик вырежет: «Прохожий, в память о нем пролей слезу». О! – продолжал он, – сто су заплатил бы я математику, который при помощи алгебраического уравнения доказал бы мне существование ада.
Подбросив монету, он крикнул:
– Орел – за Бога!
– Не глядите! – сказал Рафаэль, подхватывая монету. – Как знать! Случай – такой забавник!
– Увы! – продолжал Эмиль шутовским печальным тоном, – куда ни ступишь, всюду геометрия безбожника или «Отче наш» его святейшества папы. Впрочем, выпьем! Чокайся! – таков, думается мне, смысл прорицания божественной бутылки в конце «Пантагрюэля».
– Чему же, как не «Отче наш», – возразил Рафаэль, – обязаны мы нашими искусствами, памятниками, может быть науками, и – еще большее благодеяние! – нашими современными правительствами, где пятьсот умов чудесным образом представляют обширное и плодоносное общество, причем противоположные силы одна другую нейтрализуют, а вся власть предоставлена цивилизации, гигантской королеве, заменившей короля, эту древнюю и ужасную фигуру, своего рода лжесудьбу, которую человек сделал посредником между небом и самим собою? Перед лицом стольких достижений атеизм кажется скелетом, который ничего решительно не порождает. Что ты на это скажешь?
– Я думаю о потоках крови, пролитых католицизмом, – холодно ответил Эмиль. – Он проник в наши жилы, в наши сердца, – прямо Всемирный потоп. Но что делать! Всякий мыслящий человек должен идти под стягом Христа. Только Христос освятил торжество духа над материей, он один открыл нам поэзию мира, служащего посредником между нами и Богом.
– Ты думаешь? – спросил Рафаэль, улыбаясь пьяной и какой-то неопределенной улыбкой. – Ладно, чтобы нам себя не компрометировать, провозгласим знаменитый тост: Diis ignotis[6].
И они осушили чаши – чаши науки, углекислого газа, благовоний, поэзии и неверия.
– Пожалуйте в гостиную, кофе подан, – объявил дворецкий.
В этот момент почти все гости блуждали в том сладостном преддверии рая, где свет разума гаснет, где тело, освободившись от своего тирана, предается на свободе бешеным радостям. Одни, достигнув апогея опьянения, хмурились, усиленно пытаясь ухватиться за мысль, которая удостоверила бы им собственное их существование; другие, осовевшие оттого, что пища у них переваривалась с трудом, отвергали всякое движение. Отважные ораторы еще произносили неясные слова, смысл которых ускользал от них самих. Кое-какие припевы еще звучали, точно постукивала машина, по необходимости завершающая свое движение – это бездушное подобие жизни. Суматоха причудливо сочеталась с молчанием. Тем не менее, услыхав громкий голос слуги, который вместо хозяина возвещал радости, гости направились в залу, увлекая и поддерживая друг друга, а кое-кого даже неся на руках. На мгновение толпа остановилась в дверях, неподвижная и очарованная. Все наслаждения пира побледнели перед тем возбуждающим зрелищем, которое предлагал амфитрион в утеху самых сладострастных из человеческих чувств. При свете горящих в золотой люстре свечей, вокруг стола, уставленного золоченым серебром, группа женщин внезапно предстала перед остолбеневшими гостями, у которых глаза заискрились, как бриллианты. Богаты были уборы, но еще богаче – ослепительная женская красота, перед которой меркли все чудеса этого дворца. Страстные взоры дев, пленительных, как феи, сверкали ярче потоков света, зажигавшего отблески на штофных обоях, на белизне мрамора и красивых выпуклостях бронзы. Сердца пламенели при виде развевающихся локонов и по-разному привлекательных, по-разному характерных поз. Глаза окидывали изумленным взглядом пеструю гирлянду цветов, вперемежку с сапфирами, рубинами и кораллами, цепь черных ожерелий на белоснежных шеях, легкие шарфы, колыхающиеся, как пламя маяка, горделивые тюрбаны, соблазнительно скромные туники… Этот сераль обольщал любые взоры, услаждал любые прихоти. Танцовщица, застывшая в очаровательной позе под волнистыми складками кашемира, казалась обнаженной. Там – прозрачный газ, здесь – переливающийся шелк скрывал или обнаруживал таинственные совершенства. Узенькие ножки говорили о любви, уста безмолвствовали, свежие и алые. Юные девицы были такой тонкой подделкой под невинных робких дев, что, казалось, даже прелестные их волосы дышат богомольной чистотою, а сами они – светлые видения, которые вот-вот развеются от одного дуновения. А там красавицы аристократки с надменным выражением лица, но в сущности вялые, в сущности хилые, тонкие, изящные, склоняли головы с таким видом, как будто еще не все королевские милости были ими распроданы. Англичанка – белый и целомудренный воздушный образ, сошедший с облаков Оссиана, – походила на ангела печали, на голос совести, бегущей от преступления. Парижанка, вся красота которой в ее неописуемой грации, гордая своим туалетом и умом, во всеоружии всемогущей своей слабости, гибкая и сильная, сирена бессердечная и бесстрастная, но умеющая искусственно создавать все богатство страсти и подделывать все оттенки нежности, – и она была на этом опасном собрании, где блистали также итальянки, с виду беспечные, дышащие счастьем, но никогда не теряющие рассудка, и пышные нормандки с великолепными формами, и черноволосые южанки с прекрасным разрезом глаз. Можно было подумать, что созванные Лебелем версальские красавицы, уже с утра приведя в готовность все свои приманки, явились сюда, словно толпа восточных рабынь, пробужденных голосом купца и готовых на заре исчезнуть. Застыдившись, они смущенно теснились вокруг стола, как пчелы, гудящие в улье. Боязливое их смятение, в котором были и укор и кокетство, – все вместе представляло собой не то расчетливый соблазн, не то невольное проявление стыдливости. Быть может, чувство, никогда целиком не обнаруживаемое женщиной, повелевало им кутаться в плащ добродетели, чтобы придать больше очарования и остроты разгулу порока. И вот заговор Тайфера, казалось, был осужден на неудачу. Необузданные мужчины вначале сразу покорились царственному могуществу, которым облечена женщина. Шепот восхищения пронесся, как нежнейшая музыка. В эту ночь любовь еще не сопутствовала их опьянению; вместо того чтобы предаться урагану страстей, гости, захваченные врасплох в минуту слабости, отдались утехам сладостного экстаза. Художники, послушные голосу поэзии, господствующей над ними всегда, принялись с наслаждением изучать изысканную красоту этих женщин во всех ее тончайших оттенках. Философ, пробужденный мыслью, которую, вероятно, породила выделяемая шампанским углекислота, вздрогнул, подумав о несчастьях, которые привели сюда этих женщин, некогда достойных, быть может, самого чистого поклонения. Каждая из них, вероятно, могла бы поведать кровавую драму. Почти все они носили в себе адские муки, влачили за собой воспоминание о мужской неверности, о нарушенных обетах, о радостях, отнятых нуждой. Гости учтиво приблизились к ним, завязались разговоры, столь же разнообразные, как и характеры собеседников. Образовались группы. Можно было подумать, что это гостиная в порядочном доме, где молодые девушки и дамы обычно предлагают гостям после обеда кофе, сахар и ликеры, облегчающие чревоугодникам тяжкий труд переваривания пищи. Но вот кое-где послышался смех, гул разговоров усиливался, голоса стали громче. Оргия, недавно было укрощенная, грозила вновь пробудиться. Смены тишины и шума чем-то напоминали симфонию Бетховена.
Как только два друга сели на мягкий диван, к ним тотчас подошла высокая девушка, хорошо сложенная, с горделивой осанкой, с чертами лица довольно неправильными, но волнующими, но полными страсти, действующими на воображение резкими своими контрастами. Черные пышные волосы, казалось, уже побывавшие в любовных боях, рассыпались легкими сладострастными кольцами по округлым плечам, невольно привлекавшим взгляд. Длинные темные локоны наполовину закрывали величественную шею, по которой временами скользил свет, обрисовывая тонкие, изумительно красивые контуры. Матовую белизну лица оттеняли яркие, живые тона румянца. Глаза с длинными ресницами метали смелое пламя, искры любви. Алый рот, влажный и полуоткрытый, призывал к поцелую. Стан у этой девушки был полный, но гибкий, как бы созданный для любви, грудь и плечи пышно развитые, как у красавиц Каррачи; тем не менее она производила впечатление проворной и легкой, ее сильное тело заставляло предполагать в ней подвижность пантеры, мужественное изящество форм сулило жгучие радости сладострастия. Хотя эта девушка умела, вероятно, смеяться и дурачиться, ее глаза и улыбка пугали воображение. Она напоминала пророчицу, одержимую демоном, она скорее изумляла, нежели нравилась. То одно, то другое выражение на секунду молнией озаряло подвижное ее лицо. Пресыщенных людей она, быть может, обворожила бы, но юноша устрашился бы ее. То была колоссальная статуя, упавшая с фронтона греческого храма, великолепная издали, но грубоватая при ближайшем рассмотрении. Тем не менее разительной своею красотой она, должно быть, возбуждала бессильных, голосом своим чаровала глухих, своим взглядом оживляла старые кости; вот почему Эмиль находил в ней какое-то сходство то ли с трагедией Шекспира, чудным арабеском, где радость поднимает вой, где в любви есть что-то дикое, где очарование изящества и пламя счастья сменяют кровавое бесчинство гнева; то ли с чудовищем, умеющим и кусать и ласкать, хохотать, как демон, плакать, как ангел, в едином объятии внезапно слить все женские соблазны, за исключением вздохов меланхолии и чарующей девичьей скромности, потом спустя мгновение взреветь, истерзать себя, сломить свою страсть, своего любовника, наконец, погубить самое себя, подобно возмущенному народу. Одетая в платье из красного бархата, она небрежно ступала по цветам, уже оброненным с головы ее подругами, и надменным движением протягивала двум друзьям серебряный поднос. Гордая своей красотой, гордая, быть может, своими пороками, она выставляла напоказ белую руку, ярко обрисовавшуюся на алом бархате. Она была как бы королевой наслаждений, как бы воплощением человеческой радости, той радости, что расточает сокровища, собранные тремя поколениями, смеется над трупами, издевается над предками, растворяет жемчуг и расплавляет троны, превращает юношей в старцев, а нередко и старцев в юношей, – той радости, которая дозволена только гигантам, уставшим от власти, утомленным мыслью или привыкшим смотреть на войну как на забаву.
– Как тебя зовут? – спросил Рафаэль.
– Акилина.
– А! Ты из «Спасенной Венеции»! – воскликнул Эмиль.
– Да, – отвечала она. – Как папа римский, возвысившись над всеми мужчинами, берет себе новое имя, так и я, превзойдя всех женщин, взяла себе новое имя.
– И как ту женщину, чье имя ты носишь, тебя любит благородный и грозный заговорщик, готовый умереть за тебя? – с живостью спросил Эмиль, возбужденный этой видимостью поэзии.
– Меня любил такой человек, – отвечала она. – Но гильотина стала моей соперницей. Поэтому я всегда отделываю свой наряд чем-нибудь красным, чтобы не слишком предаваться радости.
– О, только разрешите ей рассказать историю четырех ла-рошельских смельчаков – и она никогда не кончит! Молчи, Акилина. У каждой женщины найдется любовник, о котором можно поплакать, только не все имели счастье, как ты, потерять его на эшафоте. Ах, гораздо лучше знать, что мой любовник лежит в могиле на Кламарском кладбище, чем в постели соперницы.
Слова эти произнесла нежным и мелодичным голосом другая женщина, самое очаровательное, прелестное создание, которое когда-либо палочка феи могла извлечь из волшебного яйца. Она подошла неслышными шагами, и друзья увидели изящное личико, тонкую талию, голубые глаза, смотревшие пленительно-скромным взглядом, свежий и чистый лоб. Стыдливая наяда, вышедшая из ручья, не так робка, бела и наивна, как эта молоденькая, на вид шестнадцатилетняя, девушка, которой, казалось, неведома любовь, неведомо зло, которая еще не познала жизненных бурь, которая только что пришла из церкви, где она, вероятно, молила ангелов ходатайствовать перед Творцом, чтобы он до срока призвал ее на небеса. Только в Париже встречаются эти создания с невинным взором, но скрывающие глубочайшую развращенность, утонченную порочность под чистым и нежным, как цветок маргаритки, челом. Обманутые вначале обещаниями небесной отрады, таящимися в тихой прелести этой молодой девушки, Эмиль и Рафаэль принялись ее расспрашивать, взяв кофе, налитый ею в чашки, которые принесла Акилина. Кончилось тем, что в глазах обоих поэтов она стала мрачной аллегорией, отразившей еще один лик человеческой жизни, – она противопоставила суровой и страстной выразительности облика горделивой своей подруги образ холодного, сладострастно жестокого порока, который достаточно легкомыслен, чтобы совершить преступление, и достаточно силен, чтобы посмеяться над ним, – своего рода бессердечного демона, который мстит богатым и нежным душам за то, что они испытывают чувства, недоступные для него, и который всегда готов продать свои любовные ужимки, пролить слезы на похоронах своей жертвы и порадоваться, читая вечерком ее завещание. Поэт мог бы залюбоваться прекрасной Акилиной, решительно все должны были бы бежать от трогательной Евфрасии: одна была душою порока, другая – пороком без души.
– Желал бы я знать, думаешь ли ты когда-нибудь о будущем? – сказал Эмиль прелестному этому созданию.
– О будущем? – повторила она смеясь. – Что вы называете будущим? К чему мне думать о том, что еще не существует? Я не заглядываю ни вперед, ни назад. Не достаточно ли большой труд думать о нынешнем дне? А впрочем, мы наше будущее знаем: больница.
– Как можешь ты предвидеть больницу и не стараться ее избежать? – воскликнул Рафаэль.
– А что же такого страшного в больнице? – спросила грозная Акилина. – Ведь мы не матери, не жены; старость подарит нам черные чулки на ноги и морщины на лоб; все, что есть в нас женского, увянет, радость во взоре наших друзей угаснет, – что же нам тогда будет нужно? От всех наших прелестей останется только застарелая грязь, и будет она ходить на двух лапах, холодная, сухая, гниющая, и шелестеть, как опавшие листья. Самые красивые наши тряпки станут отрепьем, от амбры, благоухавшей в нашем будуаре, повеет смертью, трупным духом; к тому же если в этой грязи окажется сердце, то вы все над ним надругаетесь, – ведь вы не позволяете нам даже хранить воспоминания. Таким, какими мы станем в ту пору, не все ли равно – возиться со своими собачонками в богатом доме или разбирать тряпье в больнице? Будем ли мы прятать свои седые волосы под платком в красную и синюю клетку или под кружевами, подметать улицы березовым веником или тюильрийские ступеньки своим атласным шлейфом, будем ли сидеть у золоченого камина или греться у глиняного горшка с горячей золой, смотреть спектакль на Гревской площади или слушать в театре оперу, – велика, подумаешь, разница!
– Aquilina mia[7], более чем когда-либо разделяю я твой мрачный взгляд на вещи, – подхватила Евфрасия. – Да, кашемир и веленевая бумага, духи, золото, шелк, роскошь, все, что блестит, все, что нравится, пристало только молодости. Одно лишь время справится с нашими безумствами, но счастье послужит нам оправданием. Вы смеетесь надо мною, – воскликнула она, ядовито улыбаясь обоим друзьям, – а разве я неправа? Лучше умереть от наслаждения, чем от болезни. Я не испытываю ни жажды вечности, ни особого уважения к человеческому роду, – стоит только посмотреть, что из него сделал Бог! Дайте мне миллионы, я их растранжирю, ни сантима не отложу на будущий год. Жить, чтобы нравиться и царить, – вот решение, подсказываемое мне каждым биением моего сердца. Общество меня одобряет, – разве оно не поставляет все в угоду моему мотовству? Зачем Господь Бог каждое утро дает мне доход с того, что я расходую вечером? Зачем вы строите для нас больницы? Не для того ведь Бог поставил нас между добром и злом, чтобы выбирать то, что причиняет нам боль или наводит тоску, – значит, глупо было бы с моей стороны не позабавиться.
– А другие? – спросил Эмиль.
– Другие? Ну, это их дело! По-моему, лучше смеяться над их горестями, чем плакать над своими собственными. Пусть попробует мужчина причинить мне малейшую муку!
– Верно, ты много выстрадала, если у тебя такие мысли! – воскликнул Рафаэль.
– Меня покинули из-за наследства, вот что! – сказала Евфрасия, приняв позу, подчеркивающую всю соблазнительность ее тела. – А между тем я день и ночь работала, чтобы прокормить моего любовника! Не обманут меня больше ни улыбкой, ни обещаниями, я хочу, чтоб жизнь моя была сплошным праздником.
– Но разве счастье не в нас самих? – вскричал Рафаэль.
– А что же, по-вашему, – подхватила Акилина, – видеть, как тобой восхищаются, как тебе льстят, торжествовать над всеми женщинами, даже самыми добродетельными, затмевая их своей красотою, богатством, – это все пустяки? К тому же за один день мы переживаем больше, нежели честная мещанка за десять лет. В этом все дело.
– Разве не отвратительна женщина, лишенная добродетели? – обратился Эмиль к Рафаэлю.
Евфрасия бросила на них взор ехидны и ответила с неподражаемой иронией:
– Добродетель! Предоставим ее уродам и горбуньям. Что им, бедняжкам, без нее делать?
– Замолчи! – вскричал Эмиль. – Не говори о том, чего ты не знаешь!
– Что? Это я-то не знаю? – возразила Евфрасия. – Отдаваться всю жизнь ненавистному существу, воспитывать детей, которые вас бросят, говорить им «спасибо», когда они ранят вас в сердце, – вот добродетели, которые вы предписываете женщине; и вдобавок, чтобы вознаградить ее за самоотречение, вы налагаете на нее бремя страданий, стараясь ее обольстить; если она устоит, вы ее скомпрометируете. Веселая жизнь! Лучше уж не терять своей свободы, любить тех, кто нравится, и умереть молодой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Что за трепет» (ит.).
2
Подайте милостыню! Ради святой Екатерины! (ит.)
3
Римский сенат и народ (лат.).
4
На восточный лад (лат.).
5
«Дух не ослабел!» (лат.)
6
Неведомым богам (лат.).
7
Моя Акилина (ит.).