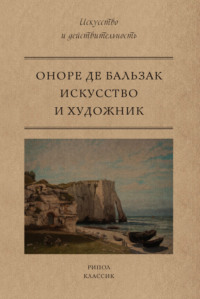Полная версия
Шагреневая кожа
– Эмиль, – с жаром начал другой спутник Рафаэля, – честное слово, не будь Июльской революции, я сделался бы священником, жил бы животной жизнью где-нибудь в деревенской глуши и…
– И каждый день читал бы требник?
– Да.
– Хвастун!
– Читаем же мы газеты!
– Недурно для журналиста! Но молчи, ведь толпа вокруг нас – это наши подписчики. Журнализм, видишь ли, стал религией современного общества, и тут достигнут прогресс.
– Каким образом?
– Первосвященники нисколько не обязаны верить, да и народ тоже…
Продолжая беседовать, как добрые малые, которые давно уже изучили «De viris illustribus», они подошли к особняку на улице Жубер.
Эмиль был журналист, бездельем стяжавший себе больше славы, нежели другие – удачами. Смелый критик, остроумный и колкий, он обладал всеми достоинствами, какие могли ужиться с его недостатками. Насмешливый и откровенный, он произносил тысячу эпиграмм в глаза другу, а за глаза защищал его бесстрашно и честно. Он смеялся над всем, даже над своим будущим. Вечно сидя без денег, он, как все люди, не лишенные способностей, мог погрязнуть в неописуемой лени и вдруг бросал одно-единственное слово, стоившее целой книги, на зависть тем господам, у которых в целой книге не было ни одного живого слова. Щедрый на обещания, которых никогда не исполнял, он сделал себе из своей удачи и славы подушку и преспокойно почивал на лаврах, рискуя, таким образом, на старости лет проснуться в богадельне. При всем том за друзей он пошел бы на плаху, похвалялся своим цинизмом, а был простодушен, как дитя, работал же только по вдохновению или из-за куска хлеба.
– Тут и нам перепадет, по выражению мэтра Алькофрибаса, малая толика с пиршественного стола, – сказал он Рафаэлю, указывая на ящики с цветами, которые украшали лестницу своей зеленью и разливали благоухание.
– Люблю, когда прихожая хорошо натоплена и убрана богатыми коврами, – заметил Рафаэль. – Это редкость во Франции. Чувствую, что я здесь возрождаюсь.
– А там, наверху, мы выпьем и посмеемся, бедный мой Рафаэль. И еще как! – продолжал Эмиль. – Надеюсь, мы выйдем победителями над всеми этими головами!
И он насмешливым жестом указал на гостей, входя в залу, блиставшую огнями и позолотой; тотчас же их окружили молодые люди, пользовавшиеся в Париже наибольшей известностью. Об одном из них говорили как о новом таланте, – первая его картина поставила его в один ряд с лучшими живописцами времен Империи. Другой только что отважился выпустить очень яркую книгу, проникнутую своего рода литературным презрением и открывавшую перед современной школой новые пути. Скульптор, суровое лицо которого соответствовало его мужественному гению, беседовал с одним из тех холодных насмешников, которые, смотря по обстоятельствам, или ни в ком не хотят видеть превосходства, или признают его всюду. Остроумнейший из наших карикатуристов, со взглядом лукавым и языком язвительным, ловил эпиграммы, чтобы передать их штрихами карандаша. Молодой и смелый писатель, лучше, чем кто-нибудь другой, схватывающий суть политических идей и шутя, в двух-трех словах, умеющий выразить сущность какого-нибудь плодовитого автора, разговаривал с поэтом, который затмил бы всех своих современников, если бы обладал талантом, равным по силе его ненависти к соперникам. Оба, стараясь избегать и правды и лжи, обращались друг к другу со сладкими, льстивыми словами. Знаменитый музыкант, взяв си-бемоль, насмешливо утешал молодого политического деятеля, который недавно низвергся с трибуны, но не причинил себе никакого вреда. Молодые писатели без стиля стояли рядом с молодыми писателями без идей, прозаики, жадные до поэтических красот, – рядом с прозаичными поэтами. Бедный сенсимонист, достаточно наивный для того, чтобы верить в свою доктрину, из чувства милосердия примирял эти несовершенные существа, очевидно, желая сделать из них монахов своего ордена. Здесь были, наконец, два-три ученых, созданных для того, чтобы разбавлять атмосферу беседы азотом, и несколько водевилистов, готовых в любую минуту сверкнуть эфемерными блестками, которые, подобно искрам алмаза, не светят и не греют. Несколько парадоксалистов, исподтишка посмеиваясь над теми, кто разделял их презрительное или же восторженное отношение к людям и обстоятельствам, уже повели обоюдоострую политику, при помощи которой они вступают в заговор против всех систем, не становясь ни на чью сторону. Знаток, из тех, кто ничему не удивляется, кто сморкается во время каватины в Итальянской опере, первым кричит браво, возражает всякому, высказавшему свое суждение прежде него, был уже здесь и повторял чужие остроты, выдавая их за свои собственные. У пятерых из собравшихся гостей была будущность, десятку суждено было добиться кое-какой прижизненной славы, а что до остальных, то они могли, как любая посредственность, повторить знаменитую ложь Людовика XVIII: единение и забвение. Амфитрион находился в состоянии озабоченной веселости, естественной для человека, потратившего на пиршество две тысячи экю. Он часто обращал нетерпеливый взор к дверям залы – как бы с призывом к запоздавшим гостям. Вскоре появился толстый человечек, встреченный лестным гулом приветствий, – это был нотариус, который как раз в это утро завершил сделку по изданию новой газеты. Лакей, одетый в черное, отворил двери просторной столовой, и все двинулись туда без церемоний, чтобы занять предназначенные им места за огромным столом. Перед тем как уйти из гостиной, Рафаэль бросил на нее последний взгляд. Его желание в самом деле исполнилось в точности. Всюду, куда ни посмотришь, золото и шелк. При свете дорогих канделябров с бесчисленным множеством свечей сверкали мельчайшие детали золоченых фризов, тонкая чеканка бронзы и роскошные краски мебели. Редкостные цветы в художественных жардиньерках, сооруженных из бамбука, изливали сладостное благоухание. Все, вплоть до драпировок, дышало не бьющим в глаза изяществом, во всем было нечто очаровательно-поэтичное, нечто такое, что должно сильно действовать на воображение бедняка.
– Сто тысяч ливров дохода – премилый комментарий к катехизису, они чудесно помогают нам претворять правила морали в жизнь! – со вздохом сказал Рафаэль. – О да, моя добродетель больше не согласна ходить пешком! Порок для меня – это мансарда, потертое платье, серая шляпа зимой и долги швейцару… Ах, пожить бы в такой роскоши год, даже полгода, а потом – умереть! По крайней мере я изведаю, выпью до дна, поглощу тысячу жизней!
– Э, ты принимаешь за счастье карету биржевого маклера! – возразил слушавший его Эмиль. – Богатство скоро наскучит тебе, поверь: ты заметишь, что оно лишает тебя возможности стать выдающимся человеком. Колебался ли когда-нибудь художник между бедностью богатых и богатством бедняков! Разве таким людям, как мы, не нужна вечная борьба! Итак, приготовь свой желудок, взгляни, – сказал он, жестом указывая на столовую блаженного капиталиста, имевшую величественный, райский, успокоительный вид. – Честное слово, наш амфитрион только ради нас и утруждал себя накоплением денег. Не разновидность ли это губки, пропущенной натуралистами в ряду полипов? Сию губку надлежит потихоньку выжимать, прежде чем ее высосут наследники! Взгляни, как хорошо выдержан стиль барельефов, украшающих стены! А люстры и картины – что за роскошь, какой вкус! Если верить завистникам и тем, кто претендует на знание пружин жизни, Тайфер убил во время революции одного немца и еще двух человек, как говорят – своего лучшего друга и мать этого лучшего друга. А ну-ка, попробуй обнаружить преступника в убеленном сединами почтенном Тайфере! На вид он добряк. Посмотри, как искрится серебро… неужели каждый блестящий его луч – это нож в сердце для хозяина дома!.. Оставь, пожалуйста! С таким же успехом можно поверить в Магомета. Если публика права, значит, тридцать человек с душой и талантом собрались здесь для того, чтобы пожирать внутренности и пить кровь целой семьи… а мы оба, чистые, восторженные молодые люди, станем соучастниками преступления! Мне хочется спросить у нашего капиталиста, честный ли он человек…
– Не сейчас! – воскликнул Рафаэль. – Подождем, когда он будет мертвецки пьян. Сначала пообедаем.
Два друга со смехом уселись. Сперва каждый гость взглядом, опередившим слово, заплатил дань восхищения роскошной сервировке длинного стола; скатерть сияла белизной, как только что выпавший снег, симметрически возвышались накрахмаленные салфетки, увенчанные золотистыми хлебцами, хрусталь сверкал, как звезды, переливаясь всеми цветами радуги, огни свечей бесконечно скрещивались, блюда под серебряными крышками возбуждали аппетит и любопытство. Слов почти не произносили. Соседи переглядывались. Лакеи разливали мадеру. Затем во всей славе своей появилась первая перемена: она оказала бы честь блаженной памяти Камбасересу, его прославил бы Брийа-Саварен. Вина бордоские и бургундские, белые и красные, подавались с королевской щедростью. Эту первую часть пиршества во всех отношениях можно было сравнить с экспозицией классической трагедии. Второе действие оказалось немножко многословным. Все гости основательно выпили, меняя вина по своему вкусу, и когда уносили остатки великолепных блюд, уже начались бурные споры; кое у кого бледные лбы покраснели, у иных носы уже принимали багровый цвет, щеки пылали, глаза блестели. На этой заре опьянения разговор не вышел еще из границ приличия, однако со всех уст мало-помалу стали срываться шутки и остроты; затем злословие тихонько подняло змеиную свою головку и заговорило медоточивым голосом; скрытные натуры внимательно прислушивались в надежде не потерять рассудка. Ко второй перемене умы уже разгорячились. Все ели и говорили, говорили и ели, пили, не остерегаясь обилия возлияний, – до того вина были приятны на вкус и душисты и так заразителен был пример. Чтобы подзадорить гостей, Тайфер велел подать ронские вина жестокой крепости, горячащее токайское, старый, ударяющий в голову русильон. Сорвавшись, точно кони почтовой кареты, поскакавшие от станции, молодые люди, подстегиваемые искорками шампанского, нетерпеливо ожидавшегося, зато щедро налитого, пустили свой ум галопировать в пустоте тех рассуждений, которым никто не внемлет, принялись рассказывать истории, не находившие себе слушателей, в сотый раз задавали вопросы, так и остававшиеся без ответа. Одна только оргия говорила во весь свой оглушительный голос, состоявший из множества невнятных криков, нараставших, как крещендо у Россини. Затем начались лукавые тосты, бахвальство, дерзости. Все стремились щегольнуть не умственными своими дарованиями, но способностью состязаться с винными бочонками, бочками, чанами. Казалось, у всех было по два голоса. Настал момент, когда господа заговорили все разом, а слуги заулыбались. Когда парадоксы, облеченные сомнительным блеском, и вырядившиеся в шутовской наряд истины стали сталкиваться друг с другом, пробивая себе дорогу сквозь крики, сквозь частные определения суда и окончательные приговоры, сквозь всякий вздор, как в сражении скрещиваются ядра, пули и картечь; этот словесный сумбур, вне всякого сомнения, заинтересовал бы философа странностью высказываемых мыслей, захватил бы политического деятеля причудливостью излагаемых систем общественного устройства. То была картина и книга одновременно. Философские теории, религии, моральные понятия, различные под разными широтами, правительства – словом, все великие достижения разума человеческого пали под косою, столь же длинною, как коса Времени, и, пожалуй, нельзя было решить, находится ли она в руках опьяневшей мудрости или же опьянения. Подхваченные своего рода бурей, эти умы, точно волны, бьющиеся об утесы, готовы были, казалось, поколебать все законы, между которыми плавают цивилизации, – и таким образом, сами того не зная, выполняли волю Бога, оставившего в природе место добру и злу и хранящего в тайне смысл их непрестанной борьбы. Яростный и шутовской этот спор был настоящим шабашем рассуждений. Между грустными шутками, которые отпускали сейчас дети Революции при рождении газеты, и суждениями, которые высказывали веселые пьяницы при рождении Гаргантюа, была целая пропасть, отделяющая девятнадцатый век от шестнадцатого: тот, смеясь, подготовлял разрушение, наш – смеялся среди развалин.
– Как фамилия вон того молодого человека? – спросил нотариус, указывая на Рафаэля. – Мне послышалось, его называют Валантеном.
– По-вашему, он просто Валантен? – со смехом воскликнул Эмиль. – Нет, извините, он – Рафаэль де Валантен! Наш герб – на черном поле золотой орел в серебряной короне, с красными когтями и клювом, и превосходный девиз: «Non cecidit animus!»[5] Мы – не какой-нибудь подкидыш, мы – потомок императора Валента, родоначальника всех Валантинуа, основателя Валансы французской и Валенсии испанской, мы – законный наследник Восточной империи. Если мы позволяем Махмуду царить в Константинополе, так это по нашей доброй воле, а также за недостатком денег и солдат.
Эмиль вилкою изобразил в воздухе корону над головой Рафаэля. Нотариус задумался на минуту, а затем снова начал пить, сделав выразительный жест, которым он, казалось, признавал, что не в его власти причислить к своей клиентуре Валенсию, Валансу, Константинополь, Махмуда, императора Валента и род Валантинуа.
– В разрушении муравейников, именуемых Вавилоном, Тиром, Карфагеном или Венецией, раздавленных ногою прохожего великана, не следует ли видеть предостережение, сделанное человечеству некоей насмешливой силой? – сказал Клод Виньон, этот раб, купленный для того, чтобы изображать собою Боссюэ, по десять су за строчку.
– Моисей, Сулла, Людовик Четырнадцатый, Ришелье, Робеспьер и Наполеон, быть может, все они – один и тот же человек, вновь и вновь появляющийся среди различных цивилизаций, как комета на небе, – отозвался некий балланшист.
– К чему испытывать провидение? – заметил поставщик баллад Каналис.
– Ну уж, провидение! – прервав его, воскликнул знаток. – Нет ничего на свете более растяжимого.
– Но Людовик Четырнадцатый погубил больше народу при рытье водопроводов для госпожи де Ментенон, чем Конвент ради справедливого распределения податей, ради установления единства законов, ради национализации и равного дележа наследства, – разглагольствовал Массоль, молодой человек, ставший республиканцем только потому, что перед его фамилией недоставало односложной частицы.
– Кровь для вас дешевле вина, – возразил ему Моро, крупный помещик с берегов Уазы. – Ну а на этот-то раз вы оставите людям головы на плечах?
– Зачем? Разве основы социального порядка не стоят нескольких жертв?
– Бисиу! Ты слышишь? Сей господин республиканец полагает, что голова вот того помещика сойдет за жертву! – сказал молодой человек своему соседу.
– Люди и события – ничто, – невзирая на икоту, продолжал развивать свою теорию республиканец, – только в политике и в философии есть идеи и принципы.
– Какой ужас! И вам не жалко будет убивать ваших друзей ради одного какого-то «да»?..
– Э, человек, способный на угрызения совести, и есть настоящий преступник, ибо у него есть некоторое представление о добродетели, тогда как Петр Великий или герцог Альба – это системы, а корсар Монбар – это организация.
– А не может ли общество обойтись без ваших «систем» и ваших «организаций»? – спросил Каналис.
– О, разумеется! – воскликнул республиканец.
– Меня тошнит от вашей дурацкой Республики! Нельзя спокойно разрезать каплуна, чтобы не найти в нем аграрного закона.
– Убеждения у тебя превосходные, милый мой Брут, набитый трюфелями! Но ты напоминаешь моего лакея: этот дурак так жестоко одержим манией опрятности, что, позволь я ему чистить мое платье на свой лад, мне пришлось бы ходить голышом.
– Все вы скоты! Вам угодно чистить нацию зубочисткой, – заметил преданный Республике господин. – По-вашему, правосудие опаснее воров.
– Хе, хе! – отозвался адвокат Дерош.
– Как они скучны со своей политикой! – сказал нотариус Кардо. – Закройте дверь. Нет того знания и такой добродетели, которые стоили бы хоть одной капли крови. Попробуй мы всерьез подсчитать ресурсы истины – и она, пожалуй, окажется банкротом.
– Конечно, худой мир лучше доброй ссоры и обходится куда дешевле. Поэтому все речи, произнесенные с трибуны за сорок лет, я отдал бы за одну форель, за сказку Перро или за набросок Шарле.
– Вы совершенно правы!.. Передайте-ка мне спаржу… Ибо в конце концов свобода рождает анархию, анархия приводит к деспотизму, а деспотизм возвращает к свободе. Миллионы существ погибли, так и не добившись торжества ни одной из этих систем. Разве это не порочный круг, в котором вечно будет вращаться нравственный мир? Когда человек думает, что он что-либо усовершенствовал, на самом деле он сделал только перестановку.
– Ого! – вскричал водевилист Кюрси. – В таком случае, господа, я поднимаю бокал за Карла Десятого, отца свободы!
– А разве неверно? – сказал Эмиль. – Когда в законах – деспотизм, в нравах – свобода, и наоборот.
– Итак, выпьем за глупость власти, которая дает нам столько власти над глупцами! – предложил банкир.
– Э, милый мой, Наполеон по крайней мере оставил нам славу! – вскричал морской офицер, никогда не плававший дальше Бреста.
– Ах, слава – товар невыгодный. Стоит дорого, сохраняется плохо. Не проявляется ли в ней эгоизм великих людей, так же как в счастье – эгоизм глупцов?
– Должно быть, вы очень счастливы…
– Кто первый огородил свои владения, тот, вероятно, был слабым человеком, ибо от общества прибыль только людям хилым. Дикарь и мыслитель, находящиеся на разных концах духовного мира, равно страшатся собственности.
– Мило! – вскричал Кардо. – Не будь собственности, как могли бы мы составлять нотариальные акты!
– Вот горошек, божественно вкусный!
– А на следующий день священника нашли мертвым…
– Кто говорит о смерти?.. Не шутите с нею! У меня дядюшка…
– И, конечно, вы примирились с неизбежностью его кончины.
– Разумеется…
– Слушайте, господа!.. Способ убить своего дядюшку. Тсс! (Слушайте, слушайте!) Возьмите сначала дядюшку, толстого и жирного, по крайней мере семидесятилетнего, – это лучший сорт дядюшек. (Всеобщее оживление.) Накормите его под каким-нибудь предлогом паштетом из гусиной печенки…
– Ну, у меня дядя длинный, сухопарый, скупой и воздержный.
– О, такие дядюшки – чудовища, злоупотребляющие долголетием!
– И вот, – продолжал господин, выступивший с речью о дядюшке, – в то время как он будет предаваться пищеварению, объявите ему о несостоятельности его банкира.
– А если выдержит?
– Дайте ему хорошенькую девочку!
– А если он?.. – сказал другой, делая отрицательный знак.
– Тогда это не дядюшка… Дядюшка – это по существу своему живчик.
– В голосе Малибран пропали две ноты.
– Нет!
– Да!
– Ага! Ага! Да и нет – не к этому ли сводятся все рассуждения на религиозные, политические и литературные темы? Человек – шут, танцующий над пропастью!
– Послушать вас, я – дурак?
– Напротив, это потому, что вы меня не слушаете.
– Образование – вздор! Господин Гейнфеттермах насчитывает свыше миллиарда отпечатанных томов, а за всю жизнь нельзя прочесть больше ста пятидесяти тысяч. Так вот, объясните мне, что значит слово «образование». Для одних образование состоит в том, чтобы знать, как звали лошадь Александра Македонского или что дога господина Дезаккора звали Беросилло, и не иметь понятия о тех, кто впервые придумал сплавлять лес или же изобрел фарфор. Для других быть образованным – значит выкрасть завещание и прослыть честным, всеми любимым и уважаемым человеком, но отнюдь не в том, чтобы стянуть часы (да еще вторично и при пяти отягчающих вину обстоятельствах), а затем, возбуждая всеобщую ненависть и презрение, отправиться умирать на Гревскую площадь.
– Натан останется?
– Э, его сотрудники народ неглупый!
– А Каналис?
– Это великий человек, не будем говорить о нем.
– Вы пьяны!
– Немедленное следствие конституции – опошление умов. Искусства, науки, памятники – все изъедено эгоизмом, этой современной проказой. Триста ваших буржуа, сидя на скамьях палаты, будут думать только о посадке тополей. Деспотизм, действуя беззаконно, совершает великие деяния, но свобода, соблюдая законность, не дает себе труда совершить хотя бы самые малые деяния.
– Ваше взаимное обучение фабрикует двуногие монеты по сто су, – вмешался сторонник абсолютизма. – В народе, нивелированном образованием, личности исчезают.
– Однако не в том ли состоит цель общества, чтобы обеспечить благосостояние каждому? – спросил сенсимонист.
– Будь у вас пятьдесят тысяч ливров дохода, вы и думать не стали бы о народе. Вы охвачены благородным стремлением помочь человечеству? Отправляйтесь на Мадагаскар: там вы найдете маленький свеженький народец, сенсимонизируйте его, классифицируйте, посадите его в банку, а у нас всякий свободно входит в свою ячейку, как колышек в ямку. Швейцары здесь – швейцары, глупцы – глупцы, и для производства в это звание нет необходимости в коллегиях святых отцов.
– Вы карлист!
– А почему бы и нет? Я люблю деспотизм, он подразумевает известного рода презрение к людям. Я не питаю ненависти к королям. Они так забавны! Царствовать в палате, в тридцати миллионах миль от солнца, – это что-нибудь да значит!
– Резюмируем в общих чертах ход цивилизации, – говорил ученый, пытаясь вразумить невнимательного скульптора, и пустился в рассуждения о первоначальном развитии человеческого общества и о первобытных народах. – При возникновении народностей господство было в известном смысле господством материальным, единым, грубым; впоследствии, с образованием крупных объединений, стали утверждаться правительства, прибегая к более или менее ловкому разложению первичной власти. Так, в глубокой древности сила была сосредоточена в руках теократии: жрец действовал и мечом и кадильницей. Потом стало два высших духовных лица: первосвященник и царь. В настоящее время наше общество, последнее слово цивилизации, распределило власть соответственно числу всех элементов, входящих в сочетание, и мы имеем дело с силами, именуемыми промышленностью, мыслью, деньгами, словесностью. И вот власть, лишившись единства, ведет к распаду общества, чему единственным препятствием служит выгода. Таким образом, мы опираемся не на религию, не на материальную силу, а на разум. Но равноценна ли книга мечу, а рассуждение – действию? Вот в чем вопрос.
– Разум все убил! – вскричал карлист. – Абсолютная свобода ведет нации к самоубийству; одержав победу, они начинают скучать, словно какой-нибудь англичанин-миллионер.
– Что вы нам скажете нового? Нынче вы высмеяли все виды власти, но это так же пошло, как отрицать Бога! Вы больше ни во что не верите. Оттого-то наш век похож на старого султана, погубившего себя распутством! Ваш лорд Байрон, дойдя до последней степени поэтического отчаяния, в конце концов стал воспевать преступления.
– Знаете, что я вам скажу! – заговорил совершенно пьяный Бьяншон. – Большая или меньшая доза фосфора делает человека гением или же злодеем, умницей или же идиотом, добродетельным или же преступным.
– Можно ли так рассуждать о добродетели! – воскликнул де Кюрси. – О добродетели, теме всех театральных пьес, развязке всех драм, основе всех судебных учреждений!
– Молчи, нахал! Твоя добродетель – Ахиллес без пяты, – сказал Бисиу.
– Выпьем!
– Хочешь держать пари, что я выпью бутылку шампанского единым духом?
– Хорош дух! – вскрикнул Бисиу.
– Они перепились, как ломовые, – сказал молодой человек, с серьезным видом поивший свой жилет.
– Да, в наше время искусство правления заключается в том, чтобы предоставить власть общественному мнению.
– Общественному мнению? Да ведь это самая развратная из всех проституток! Послушать вас, господа моралисты и политики, вашим законам мы должны во всем отдавать предпочтение перед природой, а общественному мнению – перед совестью. Да бросьте вы! Все истинно – и все ложно! Если общество дало нам пух для подушек, то это благодеяние уравновешивается подагрой, точно так же как правосудие уравновешивается судебной процедурой, а кашемировые шали порождают насморк.
– Чудовище! – прерывая мизантропа, сказал Эмиль Блонде. – Как можешь ты порочить цивилизацию, когда перед тобой столь восхитительные вина и блюда, а ты сам того и гляди свалишься под стол? Запусти зубы в эту косулю с золочеными копытцами и рогами, но не кусай своей матери…
– Чем же я виноват, если католицизм доходит до того, что в один мешок сует тысячу богов, если Республика кончается всегда каким-нибудь Наполеоном, если границы королевской власти находятся где-то между убийством Генриха Четвертого и казнью Людовика Шестнадцатого, если либерализм становится Лафайетом?
– А вы не обнимались с ним в Июле?
– Нет.
– В таком случае молчите, скептик.
– Скептики – люди самые совестливые.
– У них нет совести.
– Что вы говорите! У них по меньшей мере две совести.