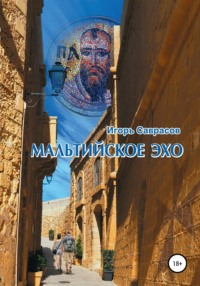Полная версия
Замок одиночества

Игорь Саврасов
Замок одиночества
Вечная загадка не та, у которой вообще нет разгадки, а та, у которой разгадка всякий день новая.
Станислав Ежи Лец– 1 –
Родившейся «в рубашке» мало иметь модные туфли – ей полагаются «хрустальные» башмачки и «вещие» сны.
…Оля проснулась ещё до рассвета, совсем непривычно рано, да ещё зимним заснеженным утром, когда девушки её возраста видят самые сладкие и радужные сны. Ей тоже приснился сон. Он-то и разбудил её. Сон был сладким и радужным лишь отчасти. Скорее он был волнующим, и это дрожащее волнение не остывало так быстро, как обычно уходят из сознания большинство снов. Подсознание вибрировало, пытаясь придать проснувшимся нечётким мыслям ясную, более-менее строгую форму. А радуга действительно была. В этом сне. Оля летала летним утром под ней. И не одна. Её держал за руку молодой человек. Лица она не помнила. Помнила лишь светлые волосы, развевающиеся по ветру, крепкую руку и янтарные, властные глаза.
«Я ведь сегодня улетаю в Париж, встречать Новый год! И вечером перед сном думала об этом. А приснился… да, Санкт-Петербург… мы летаем над Петропавловкой, потом пересекли Неву… потом над каким-то замком… потом внутри этого замка… почему-то внутри замка храм, и я под куполом…. А парень – тот, мой, что держал за руку, – стоит на полу храма и зовёт. Я камнем падаю… Нет, не к нему… Он приказывает падать дальше… Куда? Да под землю! Зачем? А вот и он там. Улыбается и держит в руках ларец. Клад, что ли, нашёл? Ах, как я хочу приключение! Большое! Настоящее!»
Дрёма ещё немножко подрейфовала, и заботы предвояжного дня забрали девушку себе.
– Что читаешь, дед? Как обычно, что-нибудь «заумное»? – спросила Ольга.
Матвей Корнеевич оторвал взгляд от книги, чуть распрямил свою сутулую спину и рассеянно посмотрел в сторону внучки. Он не любил, когда его отрывали от чтения, но Оленьке это сходило с рук. Дедушка встал с чемодана, чуть повёл затёкшими плечами и выпрямился во весь свой великолепный рост.
– «Французские королевские династии». Том «Бурбоны».
– А-а-а, ясненько, – заскучавшей двадцатитрёхлетней девушке захотелось поболтать. Делать это с дедом она любила. Правда, иногда и только когда инициатива просветительской беседы исходила от неё.
Сейчас, в Шереметьево, когда ожидание рейса на Париж затянулось, видимо, надолго, живой интеллект и энциклопедические знания деда очень пригодятся. Те две брошюры, что она читала уже полтора часа (русско-французский разговорник и путеводитель по Парижу), её утомили. Молодёжь любит устремляться к новому, но и шаг к мудрому «старому» дедуле – это замечательный шаг!
– На французском, естественно? – Оля тоже встала с другого чемодана, который «делила» с отцом, Евгением Матвеевичем, и подошла взглянуть на книжку. Её лисьи глаза необычайно красивого серо-зелёного цвета стали серьёзными. Французский она знала, к сожалению, слабовато.
– Да, внучка, на нашем! – гордо ответил Матвей Корнеевич.
Эта нотка «многозначительности» и горделивости иногда звучала в потомке мальтийского рыцаря французского аристократического рода, приехавшего в одна тысяча семьсот девяносто восьмом году в Россию. Он, наряду со многими другими рыцарями, бежал от Наполеона и искал поддержки и спасения своего и Ордена у Павла Первого, ставшего великим магистром. Фамилия рыцаря Сови. Жестокие и своенравные ветра истории развеяли семя храброго и любвеобильного рыцаря так, что уже более ста лет его потомки носят фамилию Софьины.
Дед опять присел на чемодан рядом с женой, а Оленька, порхнув, оказалась у него за спиной и, обнимая его за шею, приблизила свою головку к страницам книги. Каштановые, чуть вьющиеся волосы, как у Афродиты, рождённой из морской пены, и правда пахли морской свежестью.
– Дай позырить! – попросила «Афродита».
– Ну что за сленг? Сколько раз тебе говорить! – проворчала бабушка Наталья Кирилловна. Она очень устала сидеть на краешке чемодана и была раздражена.
Внучка быстренько чмокнула бабулю в щёку и прочла с выражением и знаменитым французским прононсом:
– Paris vaut bien une messe[1]. Ничего, так сойдёт? Как ты, папа, считаешь: «прокатит» в Париже? – «прокатит» она, шалунья, тоже сказала, намеренно манерно картавя. – Бабуля, тебе так приятней для уха?
Наталья Кирилловна, в отличие от мужа и сына, знавших французский в совершенстве, почти совершенно «но парле ву франсэ». Муж, Матвей Корнеевич, научил её двум десяткам слов и фраз для общения в магазине, ресторане, в гостинице и на улице. А прононс он, ехидна, посоветовал отрабатывать на русском, душевном для дамского сердца слове «тр-р-япьё».
– Нет, нужно произносить более естественно, с «заложенным носом»! – буркнул Евгений Матвеевич.
Он тоже не испытывал подъёма душевных сил от утомительного сидения в аэропорту, от той непогоды, что накрыла в эти предновогодние дни Москву и пол-Европы. В Европе Рождество! На улицах Москвы ночью снежно, затем подтаявшая кашица, вечером – гололёд. И ветер, ветер… В Париже примерно то же. Обещают, правда, потепление. В Париже.
– Ничего, сынок, к концу поездки заложенность синоптики пообещали. Ерыкать будут и в Москве.
– Да уж! Только правильно «ерыкать», т.е. картавить, – неуверенно возразил отцу сын-лингвист.
– Да нет, господин филолог: по Далю наши люди ерыкают! – Отец рассмеялся. Славяноведение было одним из многих увлечений этого человека, члена-корреспондента Академии наук по естественнонаучному направлению.
Сына нелегко было чем-либо смутить: замечанием, непогодой. Но этот сорокадевятилетний успешный москвич с лицом «истинного арийца» на сей раз придумал для своих родных в Париже несколько новогодних сюрпризов, и начинать завоевание великого города так прозаично не хотелось. «Эх, да уж… Опять несоединимое! Мечты и реальность. Нет, Праздник, Париж должен не завоёвываться – он должен “отдаваться” легко, как радушная девушка! И желательно страстно!» – подумал Евгений.
Он встал с чемодана, сделал несколько шагов – задумчиво-плавных, в своей аристократической манере и привычке к выверенной точности во всём, верности педантизму даже в движениях. Привычно же сложил ладошки «домиком» возле губ, вытянувшихся в раздумье «дудочкой», чуть склонил коротко стриженную голову и осторожно почесал переносицу, передвинув туда «домик». Все домашние сразу поняли: «патриций» (таково было его прозвище) будет говорить:
– Я думаю, – пауза, – что у этой фразы про мессу, Кошка, есть возможность перифраза… или инверсии слов… или вообще вариантов тропов или стилистических фигур… – К Евгению приходила энергия оптимизма.
– Ой, это я люблю! Мы с тобой в детстве так классно переделывали слова и фразы! Кстати, я всегда побеждала!
Кошка (так любовно называл дочь отец) обожала во всём и всегда быть первой.
– Вот и вперёд! Побеждай! Но направление… вектор мыслей – теперешний комфорт. – Он, конечно, уже придумал пяток вариантов.
– Ха! Легко! «Париж стоит места»! – быстро ответила умная девочка. – Наше утомление будет оправдано сторицей!
Дед, бабуля и отец посмотрели на свою любимицу с нескрываемой гордостью.
– И… ну-ну, думай… пока это сторона одной медали. – И отец развернул свой «медальный» профиль в сторону бабушки, съёжившейся на уголочке чемодана, будто в ожидании приговора.
– Я всё поняла, папуля! Пять минут – и я в образе! А образ – во мне! – воскликнула эмоциональная девушка, на долю секунды задумавшись и, как отец, сложив пальцы рук «домиком» у своих чуть выпяченных от природы, с припухшей верхней, губ. Эти её губки, немножко тонковатые, имели чувственный, дразнящий вид, и студентке третьего курса «Щуки» Ольге Евгеньевне Софьиной без труда удавалось быть обворожительной. Она уже сыграла небольшие роли испанок, цыганок и французских «приветливых» и лукавых модисток и гризеток. А мечтается ведь о Кармен и Манон Леско! «О! Эти ваши пухлые губки…» – «Ах! Это после ваших поцелуев… И ещё хочу!..» Оленька легко умела «делать» глазки то пьяными от страсти, то дерзкими, то с вызовом, то с милым кокетством, изливая из них свет женского гипноза. Её, несомненно, ожидала бурная карьера большой актрисы.
Сейчас она схватила свою шубку, которая была подложена на чемодан, встряхнула, придирчиво осмотрев её. «Нет, это московская, это классический стиль. Парижанки наверняка носят что-то авангардное… фасоны “шанель” или “летучая мышь”… кудрявый мех ламы или лёгкая каракульча… Может, “автоледи” из норочки с деталями из песца… В чемодане есть лёгкая норковая “рубашка”, но старенькая, кожаные вставки поистёрлись. Да нет – хороша: капюшон, два цвета. Низ – серо-фиолетовый, верх – палевый… и две фактуры… Хотя овчиной декорирована напрасно». Опять замерла на секунду, в раздумьях.
– Нельзя «гасить» кураж! – иронично заметил дед. – Любая женщина, тем паче актриса, должна помнить: не столь важна технология процесса, сколько его метафизика! Отдайся образу!
– Легко тебе говорить! Роль новая, не отрепетированная… Боюсь этого сакраментального: «Не верю!»
– Смелей, дочка! Дерзай, Валькирия! – поддержал отец.
Оленьке тут же стало стыдно своей некоторой растерянности. «Я жду от Парижа не просто романтики, туристических радостей. Жду новогоднего волшебства! Праздника, большого Настоящего Приключения! Хочу… хочу… любви… головокружительной. Полёта… Этот странный сон. …Почему Петербург? Ах! И новогоднего желания ещё толком не обдумала… А может… Может, Судьба сама знает, когда и что подарить?» Она недавно прочла роман Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». О Париже. Сильное впечатление. Какие точные, ёмкие слова и фразы! «С тобой… с собой… «Может, праздник уже во мне?! Со мной! Чего же я трушу?»
Ольга решительно накинула шубку, оставив её распахнутой, вытащила из-под брючек белоснежную блузку «апаш», небрежно подпоясала её узким красным кожаным ремешком. Подумав, расстегнула две верхние пуговки персикового цвета. Накрасила губы сиреневой помадой, тряхнула своими чудесными кудрями. «Что ещё? Да, бусы!» Нацепила крупные красные бусы.
– Бабуля, дай твой шифоновый шарфик! Я иду за добычей! Ненадолго.
– Что у тебя за вид?! – возмутилась Наталья Кирилловна. – Разврат!
– Две пуговки, конечно, не разврат, а эстетическая провокация, бабулечка. Я ставлю две пуговки против двух стульев: тебе и деду!
– Давай, давай, «этуаль»! И без стульев не возвращайся! – подбодрил Матвей Корнеевич.
– Ещё один… – не сдавалась бабка. – Коко Шанель говорила: «Мода проходит, стиль остаётся», можно добиться успеха и не…
– Что мне твоя «Ку-ку Шинель»? Задница уже болит! Давай, Кошка, от бедра! Посмотрим, чему тебя научили в твоей «Щуке»! – Дед лучше знал: стиль-то хорошо, но стройные ножки, аппетитные полуобнажённые грудки-булочки и упругая попка-орешек – оружие, разящее сразу наповал. – К стилю хорош стилет, если ты – Валькирия!
Действительно, по «щучьему велению» через десять минут два стула, любезно предоставленные в аренду хорошенькой «француженке» двумя парнями-охранниками, были под… тем, чем надо.
– Что ты им сказала? – нахмурилась опять Наталья Кирилловна, наблюдавшая за «блицкригом».
– Что у тебя геморрой! – нехорошо сострил Матвей Корнеевич. – Молодец, Ольга! А что и вправду сказала?
– Бонсуар… Жё мапэль Оливия… Экскюзэ муа… Сильвупле… папа.. маман… дё… показала рукой на стулья… Мерси! Всё! Этюд зачтён![2]
– Если расстегнуть ещё две пуговки, можно и по-русски, и без слов… Но, спасибо, дорогая моя! – улыбнулась бабуля, примеряя к стулу свою… и примеряя в уме: а могла бы она так же лет сорок назад? Нет, вряд ли.
– Ага! Улыбнулась всё же! – ехидничал дед. – Вот ещё одно доказательство, сынок, что думают женщины не головой, а… Вот соединят свою «важность» с мягким стульчиком – и мысли у них… Кстати, я забыл тебя спросить: ты приготовил статью в мой журнал? Я делаю серию философских эссе о «несоединимом». С тебя – словообразование, генезис слова, распространение, изменения и насыщение смыслами.
– Батя! Ну зачем и кому это нужно? – Евгений хотел уклониться в очередной раз. – Жизнь и искусство…
– Это я уже слышал… твои скудные оправдания: «жизнь выше искусства» и прочую ерунду! Давай без банальщины и серости! Будь веселей! На столе должен быть хлеб. Но и вино! Вино творческой силы, вдохновения. Пусть поют музы и украшают жизнь. Метафора может легко обойти истину. И потом: те, у кого есть творческие способности, не могут жить только потребностями.
– Да, папуля! Мой профессор по риторике внушает: «В жизни ты потужно овладеваешь истиной, в искусстве истина, наслаждаясь, – тобой!»
– Умный мужик! – похвалил член-корреспондент.
– Это дама! – рассмеялась девушка.
– Хм… «Не все вмещают слово сиё, но кому дано…» – процитировал дед Библию.
– Ну что ты, Матвей, завёл умные разговоры! Сейчас, здесь… – хмыкнула Наталья Кирилловна.
– Да! Здесь, на вокзалах, всегда и сейчас – самое заветное место для душевных философских бесед. Так что, сынок?
– Хорошо. Вот образец: Кошка употребила слово «сакраментальное». В религии это синоним сокровенного, тайного, сакрального. А в просторечии и в книжном употреблении это означает «традиционный», «избитый», «расхожий», «дежурный».
– Да-да! – воскликнул удовлетворённо дед. – И это философское обнищание, отсоединение. Вершины от основания! А в философии и вообще в культуре основанием служит вершина! Я уже не говорю об обыденном «несоединении» людей: они общаются и не осознают смысла ни своих, ни чужих слов. Слово! «Вначале было слово»! – Он почему-то раздражился. – Слушайте, вот меня «достают» все эти горнолыжники вокруг. В Альпы они собрались. «Буржуазные вожделения» – так меня учили в дни моей комсомольской юности. Вот этот парень – и бегает, и бегает… Спросите его про смысл жизни. Да ладно… – Дед вдруг растянулся в слащавой улыбочке. – А что, друзья мои, объединяет людей более всего? Правильно – аппетит! А разъединяет? Правильно – вкус! Соберутся вместе, забьют мамонта и ссорятся, кому какой кусок достанется… А уж вид набедренной повязки… И этот… ещё сидит рядом… А этот? Бездарь! Что он начертал на скале?! Что подумают потомки?! – Матвей Корнеевич – видимо, для убедительности своих тезисов, – встал со стула и, жестикулируя, продолжил: – Правда, следует уточнить: аура пустых или полупустых тихих вокзалов наполнена особым «белым» шумом, способствующим раскрепощению ума и сердца, а сейчас в этом аэровокзале очень много людей, гвалт, сконцентрирована энергия отчуждения и отторжения. Наша исконная русская энергия.
Пора сказать читателю, что Матвей Корнеевич Софьин, одна тысяча девятьсот сорокового года рождения, – весьма непростая, даже загадочная личность. Возможно, эта загадочность и непростость были привиты двенадцатилетней работой директором «режимного» института в структуре Академии наук, немалой ответственностью и огромными умственными усилиями сорокалетних исследований в области искусственного интеллекта. Одно название этого института – Институт информационных систем, управления и связи (ИИСУС) – обязывает быть многозначительнейшим. Но нет – другая Структура, о которой пойдёт речь позже, наложила таинственные печати особой харизмы на облик старшего Софьина. Дело в том, что в шестьдесят лет Матвея Софьина с почётом проводили на пенсию, а ИИСУС закрыли. Это двухтысячный год. Уже более десяти лет, как Россия распахнула двери на выезд евреев. И все Мойши, Изи и Сёмы из разных НИИ и политехнических вузов повезли в своих тяжёлых чемоданах и светлых головах разработки «флешек», «чипов» и прочего. Нет, евреи, конечно, ничем не обидели члена-корреспондента. Он их вполне уважал, и на его семидесятипятилетие, что «стукнуло» и было достойно отмечено буквально десяток дней назад, почти половина приглашённых были выходцами с Синая. Харизмы (той величественной, привычной холуйскому взгляду) у этих людей, конечно, не было (какая у еврея, везде чужестранца, харизма?), зато была «фига в кармане». Миловидный незлобный прищур и интеллигентность. А хамство и «шиловидный» прищур Матвей ненавидел.
На юбилее были и старые друзья – учёные, культурологи, литераторы, – и новые, причём новые называли себя «генераторами праны» (скромненько!), вскользь упоминали о некоей Структуре Игры и сотрудничали с Матвеем Корнеевичем в его журнале «У камелька». Но никакого экстремизма и намёков, что, дескать, «из искры возгорится пламя». Просто интеллектуальное пиршество! И если он, главный редактор, замечал грубые политические намёки, материал к печати не принимал и с автором более не встречался.
Но вернёмся к аппетиту.
– Может, я сбегаю вон в ту кафешку, наберу чего? Очень кушать хочется! – жалобно вымолвила Оленька. – Очередь… Эх…
Решимости теперь у неё не было. Там её «пуговки» не «прокатят». Зато дед, посмотрев на всех своими властными, тигриными глазами цвета виски и по-особому вытянув свою «гангстерскую» верхнюю губу без ложбинки, сказал:
– Моя харизма, продажная девка аристократических кровей, – выгодная штука! Даже Наталья это чует – смотрит снизу вверх. «Уважат»! Гипноз, батеньки…
На самом же деле на сей раз именно Наталья Кирилловна посмотрела на мужа сверху вниз, несмотря на то что ростом была существенно ниже, да ещё и сидела на стуле. Что ж, многие жёны умеют так смотреть на своих «подопечных» (бывает, и «подкаблучных»). Стоит ли упоминать, что и гипноз – женский, особенный – был у неё другим. Гипноз «тайны её глаз» – слоновьих, удлинённых, оливкового цвета с выразительными, тёмного ореха зрачками. Очаровывала мужчин и её верхняя губа с характерной округлой ложбинкой. Но главным, что притягивало к ней и покоряло, была её удивительная способность быстро прочувствовать человека, понять его, предугадать его желания и настроения. Как следствие, она умела повлиять на собеседника исподволь, незаметно для него и очень мягко. Этим милым оружием она владела с ранней юности. И тогда, когда восемнадцатилетней девчонкой, студенткой-вечерницей биофака, она попала работать в лабораторию, руководимую молодым кандидатом наук Матвеем Корнеевичем Софьиным – высоким стройным красавцем, подававшим большие надежды и вызывавшим всеобщее уважение (а среди молоденьких женщин-коллег – даже поклонение), – эта её сердечная теплота в сочетании с тактичностью, разумностью и даже своего рода мудростью пленили завлаба. Лаборантка же Наташа Никольская влюбилась с первого взгляда! Она совершенно пренебрегла (правда, очень вежливо и осмотрительно) ухаживанием за ней начальника первого отдела, пятидесятипятилетнего полковника КГБ Алексея Михайловича Тихого, частенько захаживавшего в лабораторию «Интеллектуальных машин», чтобы якобы убедиться, что «буржуазный ревизионизм, свойственный кибернетике», не отравил сознание комсомолки Наташи. Иногда, наведываясь в очередной раз, он любил повторять: «Эх, дочка! Какие имена-то у нас с тобой! Царские!» Его и правду за глаза иногда называли Тишайшим. Но чаще – просто Волкодавом. Он знал о прозвищах и гордился ими. Шутил: «Я тихий и скромный. Но если кто обидит – тихо закопаю и скромно отпраздную».
Матвей и Наталья быстро поженились, и в скором времени молоденькая жёнушка родила сыночка Женечку. Всё было замечательно: они получили «однушку» в Черёмушках, муж стремительно делал карьеру, жена «берегла тылы» и продолжала учиться, умело управляясь с бытовыми вопросами и ещё помогая мужу печатать и корректировать его научные работы. Тихо и скромно!
Сейчас она два раза в неделю ходила в «Склиф» – давала там практические консультации по нейробиологии и клинической психологии. И доктора, и больные обращались к ней по самым сложным вопросам и неизменно получали ценнейшую помощь. Теперь они с мужем жили в «трёшке» в районе Сухаревской площади, откуда до работы ей было совсем близко.
И вновь вернёмся к аппетиту.
– Ты, Мотя, поди, в кафешку идти намереваешься? Штурмом будешь брать или в очереди час стоять? – насмешливо спросила Наталья.
– Официанточку чуток соблазню – дело-то и выгорит! Без всякой очереди.
– Твой излюбленный мозговой штурм? Да она и сотой доли не поймёт… Твои эти любимые «откровенно радушные» девушки давно закончились. И образованные тоже.
Жена не любила, когда Матвей излишне, не осознавая своей старости, «распушал» свой уже «непышный» хвост.
– Я, разумеется, всё взяла с собой. В дорогу. – Она гордо открыла свой огромный чемодан.
Её предусмотрительность вновь одержала победу. Пять пластмассовых курверов с оладьями, котлетками и прочим, да ещё два термоса с фиточаями были извлечены под «бурные, нескончаемые» аплодисменты. Довольно бурно они были и употреблены по назначению. Евгений собрался было открыть рот, чтобы возблагодарить заботливую мать, но у него раздался звонок.
– Привет, Лёвчик! Рад тебя слышать! И тебя с наступающим! Нет, улетаем встречать Новый год в Париж, в Шереметьево ждём вылета… да, вот пятый час сидим… Да-да… Нет, Лялька прилетит в Париж к нам тридцать первого утром… На съезде, форуме ли… «сходняк» стилистов у них в Милане… Да? И как там в Болонье? Завтра вылетаешь домой, в Питер? Не расслышал… Послезавтра? …Ах, в Венецию!.. Да, отлично! Хорошо… Ты в своём амплуа… Дело на сто миллионов, говоришь? Помогу, конечно, чем смогу… Давай я к тебе… Хорошо, давай на твой «полтинник». Само собой! …Двадцать пятого января, в Татьянин день… Конечно… Хорошо… Счастливого Нового года! И Рождества! И ты передавай приветы и поздравления… Созвонимся ещё… Обнимаю!– Это дядя Лёва звонил? – обрадовалась Оля. – Что предлагает? Наверняка что-нибудь классное! Ты, папуль, ещё в прошлый раз обещал взять меня в компаньоны. Было? Помнишь? А что он делает в Болонье?
– ЕГЭ отменяет, – пошутил отец, памятуя, какое отвратительное ощущение оставило в своё время у дочери это экзаменационное бездарное действо. – Наши «образованцы-начальнички» хотят причесать «советскую» школу под так называемый «болонский» стандарт. Но ведь давно заметил мудрый Жванецкий, что «даже у наших лошадей наши лица, и для достоверного изображения итальянской жизни они негодны».
– Ты Лёвку спроси, – отозвался Матвей Корнеевич. – Дела ведь там у них вечно секретные. Но денежные. Это хорошо!
– Он тоже обещал! Дядя Лёва любит меня! Он говорит, что я толковая! Тем более уже взрослая! – хныкала Оленька.
– Хорошо, хорошо. Я к нему на пятидесятилетие в январе съезжу – мы с ним там и отпразднуем, и обсудим это его новое деловое предложение… Думаю, репертуар прежний: он нашёл некие древние истрёпанные письмена, мне нужно восстановить текст, расшифровать и т.п. Если… если… – Евгений чуть запнулся, – всё без… ненужных рисков, расскажу тебе суть дела, а там… поглядим. Взрослая она уже!
– Ты ведь с мамой полетишь в Питер! Вот и меня возьмите с собой. Хотя… хотя нет… я болею там зимой, а я пою в мюзикле. В последний декаде января как раз… – рассуждала дочь, подумав про себя: «Я рисков-то именно и хочу! Рисков и эффектов от побед! Эффектов и фейерверков! И аплодисментов в конце».
Ольга любила старинного друга отца Льва Антоновича Ирина – человека обаятельного, щедрого, делового и бывалого. Лев к своим пятидесяти годам «обвалялся, поджарился и зарумянился» в разных образовательных, трудовых и коммерческих горнилах. Учился Лёва в Москве, в одном классе с Женькой и был пытлив в постижении наук. Причём всех! Эта пытливость сказалась и позже, ибо Льву довелось «похудожничать» после школьной приготовки один год в «Строгановке». В одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмом отца-чекиста из центрального московского аналитического отдела перевели в Ленинград, что «ненароком» совпало с назначением в стране новых демократических свобод, но «для порядку» нужно было напрячь пальцы разжавшегося кулака, чтобы «тормоза перестройки» не протащили до тупика. Но, черти, протащили-таки, и в одна тысяча девятьсот девяносто третьем генерала Антона Ирина перевели на руководящую работу на Северный Кавказ. Лёва за эти годы уже подучился-подвалялся в питерском архитектурно-строительном институте на отделении архитектуры, потом пару лет подвизался-поджаривался в археологических партиях в южных солнечных районах огромной страны. Наконец ему далось окончательно зарумяниться и получить красный диплом исторического факультета по кафедре археологии. В этом выпуске в последний раз было напечатано в дипломах словосочетание «СССР», и союз-сгусток соединений центростремительно развалился на осколки несоединимого. «Красный» Союз не оказался вечным, а красный диплом не давал гарантии финансового успеха. Страна куда-то понеслась; жульё, ворьё, партийные и комсомольские функционеры снова, в соответствии с поговоркой, всплыли, зажирели. «Если стадо баранов повернуть назад, хромая овца зашагает впереди», – горько повторял отец дагестанскую поговорку. «Нет, – решил Лев, – творческая работа пусть пока подождёт. Румянец нужно подзолотить!» И он впрягается в начавшиеся в «новой» стране коммерческие инициативы. Одно, другое, третье, и вот – своё дело! Пусть сначала маленькая антикварная лавочка, крохотный ювелирный магазинчик. Зато дань рэкету платить не нужно – у отца оказались «непристроенными» четверо его бывших сотрудников. Двое из них просто занимались охраной и безопасностью, а другие двое работали по своему прежнему профилю – «искусствоведами в штатском», – помогая Льву в аналитической работе и маркетинге. Сейчас он – крупнейший антиквар Санкт-Петербурга. Авторитет его крепок по всей России; знают Льва Ирина и коллекционеры Европы.