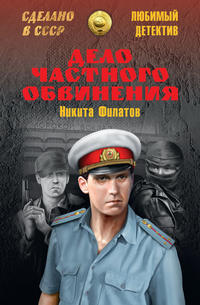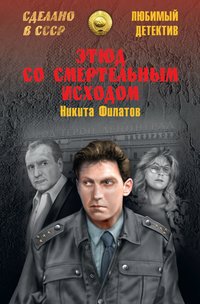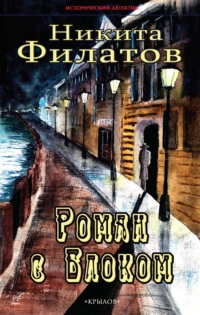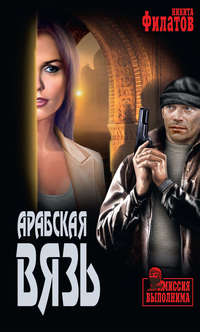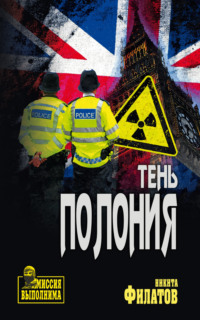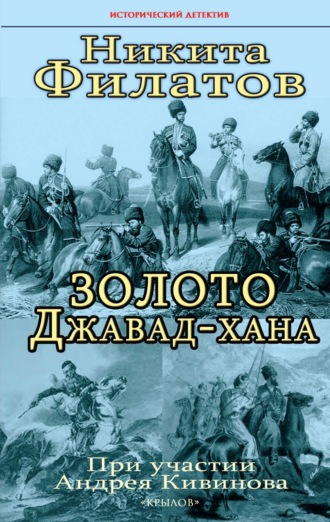
Полная версия
Золото Джавад-хана
Особое внимание уделялось точной стрельбе каждого солдата – в отличие от обычной пехотной тактики, где предусматривался залповый огонь всего подразделения. Егеря, например, обучали правильно судить об удаленности предметов. Для этого предлагалось «показывать ему какое-либо дерево, дом, ограду или другой видный предмет, спрашивая, в каком он полагает его расстоянии; потом приказывать считать шаги до этого предмета и таким образом узнавать свою ошибку…». Егерь приобретал «твердый навык хорошо зарядить, верно прицелиться и метко стрелять во всяком положении, стоя на коленях, сидя и лежа, а равно и на походе». В отличие от солдат тыловых и придворных парадных полков, егерь был приучен содержать свое ружье «в чистоте нужной, не простирая сие до полирования железа, вредного оружию и умножающего труды, бесполезные солдату», а также «заряжать проворно, но исправно, целить верно и стрелять правильно и скоро».
В русской армии егеря появились во время Семилетней войны – заметив пользу, которую они приносили пруссакам, легендарный фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский сформировал из охотников особый батальон при двух орудиях, который проявил себя в битве под Кольбергом.
Для боевых действий егерям предписывалось избирать места «наиудобнейшия и авантажнейшия, в лесах, деревнях, на пасах… в амбускадах (засадах) тихо лежать и молчание хранить, имея всегда перед собой патрули пешие, впереди и по сторонам». Примерно тогда же граф Петр Иванович Панин, командуя русскими войсками в Финляндии, «где положение земли такого существа, что в случае военных операций совсем невозможно на ней преимуществами кавалерийско-лёгких войск пользоваться, но требует она необходимо лёгкой и способнейшей пехоты», сформировал команду егерей в три сотни человек и обучил их действию «в тамошней земле, состоящей из великих каменных гор, узких проходов и больших лесов».
На основании накопившегося военного опыта был сформирован егерский корпус из 1650 человек при полках Финляндской, Лифляндской, Эстляндской и Смоленской дивизий – как ближайших на случай войны с теми державами, «коих ситуация земель и их войска требуют против себя лёгкой пехоты».
Польза от егерей обнаружилась почти сразу же – в войне с польскими конфедератами, в первую турецкую кампанию, а также на Кавказе в экспедициях против горцев. Фельдмаршал граф Румянцев и генералиссимус Суворов всегда назначали их в авангард, наряду с лёгкой кавалерией, а в боевых порядках ставили рядом с артиллерийскими батареями – создав новый тип боевого порядка и тактику рассыпного строя. Согласно наставлению для обучения егерских полков, «рассыпное действие» было присвоено егерям «преимущественно пред остальной пехотой».
Вскоре егерские команды были введены во всех пехотных полках, затем появились отдельные егерские батальоны, сведенные в корпуса, преобразованные впоследствии в номерные полки. И одним из таких полков был 17-й Егерский полк, который мог с полным правом считаться старейшим в русской императорской армии – он был сформирован еще в 1642 году из регулярных стрельцов как Московский выборный солдатский Бутырский полк…
Вместе с Павловым на лазаретной телеге ехали несколько человек. В основном, это были гренадеры Тифлисского мушкетерского полка со стертыми от непривычки в кровь ногами. Кроме них, в самый центр, на шинели и ранцы положили молоденького артиллериста, через которого прошлым вечером перекатилось пушечное колесо. Артиллерист лежал тихо, почти не приходя в сознание, и только время от времени просил водицы.
– А ну, гляньте, ребята… вон там… возле дерева!
Мишка вместе со всеми повернул голову в том направлении, которое указывал один из гренадеров.
Недалеко от дороги, на высоком холме был заметен отчетливый силуэт человека в косматой папахе. Увидев проходящую колонну, всадник некоторое время разглядывал ее из-под руки, потом стремительно развернул коня и, нахлестывая его плетью, скрылся из виду…
– Лазутчик, – со знанием дела пояснил кто-то из солдат.
– Видать, скоро уже, – вздохнул в ответ его товарищ.
Нельзя сказать, чтобы от этих слов Мишке Павлову стало страшно. Он еще никогда в бою не был и, очевидно, по этой причине даже не представлял, что ему предстоит испытать. Однако возникшее в эти минуты предчувствие близкой опасности, тревожное ожидание, смешанное с любопытством, заставляли его теперь то и дело оглядываться по сторонам.
Никакое оружие Мишке не полагалось. Поэтому он поправил на поясе короткий офицерский кортик, оставшийся на память о старом цирюльнике, подобрал поводья и со всей силы хлестнул вола:
– Не спи, дохлятина… не отставай!
Полковой обоз состоял, в основном, из открытых телег и подвод, на которых перевозились палатки, мешки с продовольствием и фуражом, солонина, мука, и наполненные водой большие бочки. Офицерский обоз был оставлен в гарнизоне – с собой Карягин распорядился брать только самое необходимое.
Прямо перед Мишкой, под охраной дежурного офицера и двух часовых с ружьями наизготовку следовала полковая казна в закрытой наглухо повозке. Вслед за лазаретной телегой тащилась старая, скрипучая арба, на которую погрузил свои барабаны, литавры и прочую музыкальную утварь оркестр 17-го Егерского полка во главе с толстяком-капельмейстером. На привалах они останавливались также рядом, и Павлов каждый вечер по-соседски забегал перед сном поболтать со своим дружком Саней Ровенским…
– Посторонись, ребята!
– Давай в сторону… не зевать!
Эти окрики в первую очередь относились к пехоте, шагающей вдоль обочины. Но и Павлов, конечно же, не удержался от того, чтобы глянуть назад, на дробный стук копыт.
Впереди остальных, на кауром, с подпалинами донском жеребце приближался полковник Карягин. Полотняный мундир его довольно основательно намок от пота, сапоги запылились, однако в седле Павел Михайлович держался уверенно. За ним следовал проводник – красивый, крепкий парень с черными усами. Одет он был так, как одевались в здешних краях состоятельные купцы и ремесленники: яркая чоха[5], обшитая позолоченным шнуром и бархатом, свободные штаны, сапоги с загнутыми носами. Дополняли костюм проводника круглая меховая шапка, кинжал, сабля и два пистолета, засунутые под широкий матерчатый пояс. Мишка слышал от старших солдат-егерей, будто Карягин во время командования полком оказал его отцу какую-то неоценимую услугу, и теперь уже сын сам отправился добровольцем в поход, чтобы отдать семейный долг чести. Сразу вслед за проводником подгоняла породистого вороного скакуна девушка-подросток, одетая по-восточному – так, чтобы не оставалась открытой ни одна, даже самая малая, часть ее тела. Даже лицо ее было, от подбородка до глаз, укутано полупрозрачной вуалью – скорее, впрочем, не по обычаю магометан, а для того, чтобы защититься от дорожной пыли. При этом сидела девушка на коне по-мужски, широко раскинув ноги в шароварах и упираясь подошвами крохотных туфелек в стремена. Мишка знал уже, как и все остальные в отряде, что зовут ее Каринэ и что состоит она толмачом при своем старшем брате-проводнике.
Замыкал эту живописную конную группу недавно назначенный полковой адъютант – худощавый поручик с причудливой иностранной фамилией, которую Павлов еще не успел запомнить.
– Управляешься, эскулап? – Карягин настолько внезапно и резко решил осадить своего жеребца рядом с лазаретной повозкой, что Мишка не сразу и сообразил, что полковник обращается именно к нему:
– Как там пушкарь? Живой, дышит?
– Так точно, ваше… – от растерянности Мишка попытался не то отдать честь, не то встать, чтобы вытянуть руки по швам, однако только понапрасну дернул вожжи и едва не повалился вместе с ними на дорогу. Получилось смешно и неловко.
– Да сиди уж ты… Аника-воин!
Изогнувшись в седле, полковник поближе глянул в бледное лицо артиллериста, лежащего без сознания на дне повозки.
– Ох ты, матушка Богородица… на все твоя воля!
Карягин истово перекрестился, подобрал поводья, и сразу же, обращаясь скорее к усталым солдатам в колонне, громким голосом пообещал:
– Смотрите вот ужо, кто провинится на марше – пошлю вечером к нашему новому лекарю зубы выдергивать! – И расхохотался во весь голос над собственной шуткой.
Вслед за ним засмеялись и все, кто оказался поблизости: полковой адъютант, егеря, гренадеры. Даже проводник, почти не понимающий по-русски, позволил себе улыбнуться вслед за остальными. Не удержалась от смеха и девушка – Мишка Павлов даже не разглядел, а угадал это по ее глазам, которые именно в этот момент в первый раз показались ему невыносимо огромными и прекрасными.
Конь полковника Карягин переступал копытами и дергал головой. Но прежде чем пришпорить его и направиться дальше, в начало походной колонны, полковник опять обратился к солдатам:
– Потерпите, ребятушки, скоро привал… Веселей, веселее, ребята!
И действительно, еще до наступления ранних сумерек отряду удалось дойти до места, которое авангард майора Котляревского выбрал для предстоящей ночевки.
– Вольно! – послышалась команда офицеров, и солдаты, свободные от караула, тут же начали составлять ружья в козлы. Утомленные долгим дневным переходом, они торопились присесть, отдохнуть, сделать пару глотков из походной фляги или пожевать сухари в ожидании общего ужина.
Палатки ставили только для штаба, да и то не на каждом привале. Поэтому многие принялись разбирать из повозок шинели – днем в горах было жарко и солнечно, однако по ночам до костей пробирал отвратительный холод. Унтер-офицеры по очереди отрядили молодых солдат за водой – в этот раз прямо в лагере протекал шумный горный ручей, так что вполне можно было набрать ее не только на вечер, но и про запас. Сразу начали разгораться костры, сложенные из веток, пустых ящиков и пришедших в негодность, поломанных досок. Над огнем появились артельные котлы для каши…
Некоторые закурили, большинство – самодельные трубки из глины или из дерева. Тем более что обычай нюхать табак, весьма распространенный еще совсем недавно, при славном Суворове, теперь почти исчез не только между офицерами, но даже среди нижних чинов.
Необходимо отметить, что все эти, безусловно, приятные хлопоты и суета как нельзя лучше отвлекали от мыслей о предстоящей опасности и о близком сражении с неприятелем. И потому, привычно разобравшись с волом и повозкой, Мишка Павлов решил пойти на ужин.
По договоренности с каптенармусом он кормился при отделении Гаврилы Сидорова. Хотя, впрочем, имел у себя в лазаретной телеге и собственные запасы, состоявшие, в основном, из провизии, которую предусмотрительный Мишка собрал на дорогу из кухни покойного Ивана Карловича. К тому же, почти все больные солдаты, которых он подвозил по дороге, непременно старались побаловать юного «лекаря» чем-нибудь сытным и вкусным.
Однако прежде следовало исполнить два дела.
В первую очередь Павлов прислушался к дыханию покалеченного артиллериста, лежавшего на повозке, и немного подержал в руке его запястье – так, как это много раз проделывал на глазах Мишки старый полковой цирюльник. Убедившись, что сердце артиллериста по-прежнему бьется и что сам солдат все еще без сознания, Мишка краем холщовой тряпицы убрал струйку крови, которая вытекла у больного изо рта. Это было все, чем он мог помочь.
Оставалось еще пробежаться до штаба с обязательным суточным рапортом.
– Санька!
– Чего тебе? – отозвался с соседней повозки дружок, Сашка Ровенский.
Музыканты полка во главе с толстяком-капельмейстером уже сели поужинать возле костра, а горниста как самого молодого оставили караулить арбу с инструментами.
– Присмотри тут пока? Я бегом, вон туда и обратно.
– Ну, чего с тобой делать…
– А вернусь – у меня настоящего кулича кусок есть, ей-богу! Высох, правда, но ничего, погрызем. Или можно будет его в кипятке размочить… – посулил Мишка Павлов.
– Кипятка я достану! – охотно откликнулся на предложение музыкант…
Отставших по болезни в отряде Карягина не было ни одного человека.
В соответствии с рапортом по лазарету, больными за дневной переход сказались трое солдат. Зато сразу несколько их товарищей унтер-офицеры вернули обратно в строй, посчитав, что они окончательно привели свои ноги в порядок и вполне могут маршировать наравне с остальными. Так что на завтра число подопечных у Мишки Павлова должно было даже уменьшиться.
…Возле соседней повозки, обтянутой плотной материей и наглухо зашнурованной со всех сторон, как обычно, замерли караульные. А неподалеку разговаривали о чем-то полковой казначей и поручик Лисенко.
– У него, знаете ли, сударь мой, детишек четверо! Две девицы на выданье, шутка ли?
– Да, прибавка в окладе служивому человеку всегда значение имеет.
– И про пенсион, сударь мой, про пенсион не забывайте! Это за год ему, получается, выйдет…
Очевидно, беседа между офицерами шла по поводу состоявшегося недавно производства штабс-капитана Парфенова в следующий чин. Известие об этом застало отряд уже по дороге, так что нынче в палатке полковника предстояла небольшая дружеская вечеринка.
Трубач и барабанщик отыграли вечернюю «Зарю».
Возвращаясь из штаба, Мишка остановился послушать, как полковой батюшка отец Василий читает распевным, раскатистым басом «Отче наш…», «Богородицу» и другие молитвы. Было очень торжественно и красиво. В отдалении группа солдат ожидала раздачи положенной чарки вина.
Неожиданно из-за поворота дороги, пригибаясь к шее своего донского жеребца, вылетел поручик Васильев.
– Неприятель, ваше высокоблагородие… в пяти верстах, за речкой! – доложил он, соскочив с коня прямо перед Карягиным.
Голова поручика была не покрыта, и растрепанные волосы в беспорядке спадали на лоб…
4. Оборона
«Кровь русская, пролитая на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая на берегах Москвы или Сены, а пули галлов и персов причиняют воинам одинаковые страдания. Подвиги во славу Отечества должны оцениваться по их достоинствам, а не по географической карте…»
Генерал КотляревскийДвадцать четвертого июня 1805 года возле реки Шах-Булах отряд полковника Карягина атаковала персидская конница – общим числом примерно в три тысячи сабель.
Первое нападение удалось отразить довольно легко.
Неизменно наталкиваясь на беглый ружейный огонь и на штыки гренадеров, противник несколько раз откатывался назад, пока не прекратил бесплодные попытки найти слабое место в оборонительных порядках русского отряда.
Перед шеренгами солдат, на вытоптанном и разбитом поле осталось лежать десятка три убитых персов и примерно столько же лошадей. Еще несколько лошадей, потерявшие седоков, продолжали бродить между мертвыми, а неподалеку от левого фланга какой-то подстреленный конь с храпом бился в конвульсиях. В теплом воздухе над полем боя неторопливо растекались облака порохового дыма…
Значительных потерь в отряде не было. Одного егеря, зарубленного насмерть, сразу же унесли назад, а пять или шесть солдат, получивших ранения, выразили желание оставаться в строю – их легко можно было заметить по белым, с кровавыми пятнами самодельным повязкам.
– Ну, с Богом, братцы!
До Шуши оставалось немногим более сорока верст.
Выстроившись в каре, под прикрытием пушек отряд продолжил медленное продвижение к теснинам Аскаранского ущелья…
– Полюбуйтесь-ка, Петр Степанович.
С очередной возвышенности, на которую поднялись передовые шеренги гренадер, открылся такой вид, что полковник посчитал не лишним протянуть майору Котляревскому подзорную трубу. Впрочем, и невооруженным глазом вполне можно было разобраться, что все открытое пространство впереди заполнено персидскими войсками: бесчисленные пестрые шатры, пехота, конница и по меньшей мере две тяжелых батареи.
– Значит, Аскаран уже действительно пал…
Офицерам было известно, что несколько далее по ущелью единственную дорогу перегораживает Аскаранский замок. Укрепления его расположены по обеим сторонам реки Аскаран и состоят из каменных башен, связанных между собой высокими стенами – даже в русле реки возвышаются две башни. Скалистые берега ее так круты и обрывисты, что обойти по ним замок нет ни малейшей возможности.
Таким образом, путь на Шушу оказался окончательно отрезан персами. Можно было продолжить движение и с боями через какое-то время добраться до замка. Но тогда неприятель, конечно же, преградил бы русскому отряду обратный выход из ущелья и тем самым надежно захлопнул ловушку.
Оставалось одно – без промедления заняться подготовкой к обороне.
– Здесь не самое лучшее место для оборудования позиции, – заметил майор Котляревский, оглядывая густой кустарник, подходящий вплотную к шеренгам пехоты, а также череду сухих оврагов, которые непременно позволят противнику незамеченным собрать силы на расстоянии ружейного выстрела.
– Да, надо было бы поискать что-то более подходящее… – согласился Карягин: – Что скажете, уважаемый юзбаши?
Полковник обернулся к проводнику, который почти безотлучно был рядом с ним на протяжении всего похода. Подождал, пока Каринэ переведет вопрос.
– Брат говорит, что он знает хорошее место…
– Далеко это?
Вани показал рукой куда-то в сторону.
– Нет, не очень далеко. Вон там… видите?
Дальше двигаться русским пришлось на виду у изумленного неприятеля. В его лагере, конечно же, царила суета, которая всегда предшествует сражению, однако уверенный в собственном превосходстве персидский военачальник Пир-Кули-хан позволил Карягину почти беспрепятственно довести свой отряд до старинного мусульманского кладбища на кургане.
Место было, действительно, подходящее.
С высоты все подходы просматривались и свободно простреливались, а внизу, у подножия, протекала река. На вершине кургана были разбросаны многочисленные надгробные камни и небольшие постройки, которые вполне могли послужить защитой от пуль и картечи. По команде полковника позицию дополнительно окружили составленными друг за другом телегами и арбами, соорудив из них так называемый «вагенбург» или гуляй-город.
– Ай, спасибо, Вани-юзбаши… молодец! – в очередной раз похвалил проводника Карягин и принялся отдавать последние распоряжения перед боем: – Подпоручик, вы здесь одну пушку поставьте! А вторую – сюда, вот и славно получится…
Егеря, гренадеры, артиллеристы до самого вечера оборудовали окопы и огневые позиции. Земля на холме была каменистая, не податливая, однако же все понимали, что стараются для себя и для близких товарищей. Припекало июньское солнце, поэтому работали солдаты, скинув мундиры и сапоги. Закончив работу, почти все обливались холодной водой и надевали чистые рубахи – было ясно, что предстоящая битва для многих может оказаться последней.
Кто-то сел покурить, кто-то грыз сухари. Стрелки в который раз выцеливали расстояние до приметных ориентиров.
Обер-офицеры находилась при своих взводах и ротах. Отец Василий обошел позиции.
Время шло. Нарастало тревожное и томительное напряжение. Артиллеристы сидели с зажженными фитилями в руках…
Наконец, приблизительно в шесть часов пополудни, персы все-таки атаковали русский лагерь.
Пологий склон перед позициями отряда в одно короткое мгновение заполнился атакующей персидской конницей. Стремительная лавина, подбадривая себя воинственными криками и бесцельной стрельбою из пистолетов, устремилась вперед – так, что, кажется, не было и не могло быть человеческой силы, способной ее остановить.
Однако русские артиллеристы, подпустив неприятеля на расстояние пушечного выстрела, первым делом хлестнули по нему картечью. Как оказалось, на большой дистанции прицел был установлен совершенно правильно – обе 12-фун-товые полевые пушки в буквальном смысле слова выкосили передовой отряд отборных всадников.
Затем к артиллерийскому огню прибавился частый, рассыпчатый треск нарезных карабинов, так называемых штуцеров, и винтовальных ружей. Обычная пехота их почти не имела, и даже в егерских частях нарезное оружие по штату полагалось только унтер-офицерам и наиболее метким стрелкам – не более двенадцати на роту. Егерские штуцеры обладали в два-три раза большей прицельной дальностью, чем гладкоствольные ружья, поэтому у «застрельщиков» оставалось достаточно времени для того, чтобы высмотреть среди наступающих подходящие цели и поразить неприятельских командиров.
И только после этого, по команде господ офицеров, раскатистым залпом ударили по наступающим персам солдаты, укрывшиеся за повозками. Тотчас же все вокруг исчезло в пороховом дыму и в облаках пыли, поднятой вражеской конницей – и совершенно отчетливо стали слышны крики раненых персов, тягучее ржание, конский топот…
Склон кургана перед укрепленным лагерем с каждой минутой все более загромождался телами убитых людей и лошадей – настолько, что всадники, наступавшие позади, вынуждены были перепрыгивать через эти препятствия. К этому времени артиллеристы подпоручика Гудим-Левковича уже успели откатить оба орудия обратно на позицию и развернуть их в нужном направлении. Стволы быстро прочистили банником, смоченным в уксусе и воде, затем вновь навели их на цель, вложили и плотно забили заряд в канал ствола, воткнули в заряд быстрогорящую трубку…
– Пали!
В этот раз шквал картечи, опять угодившей в передовые ряды наступающей конницы, все-таки остановил и отбросил назад неприятеля, который предпочел укрыться за холмами.
Заговорили персидские пушки.
Стрелять им приходилось вслепую, издалека, поэтому поначалу огонь вражеской артиллерии не причинял русским особого вреда. Тяжелые пушечные гранаты и ядра, по большей части, вообще не долетали до линии обороны – в основном, они падали и разрывались чуть ниже по склону, подбрасывая над землею фонтаны пыли, осколки и оторванные конечности мертвых тел.
Потом персы все-таки перетащили свои батареи на более выгодные позиции, отчего их снаряды все чаще начали попадать на территорию лагеря. Появились убитые, раненые и контуженные взрывной волной. Одно ядро упало даже в табун офицерских и обозных лошадей, которых коноводы перед боем отвели на противоположный склон кургана, учинив продолжительный беспорядок среди покалеченных и перепуганных животных…
После двух или трех безуспешных атак своей конницы Пир-Кули-хан решил пустить в дело пехоту. Его солдаты двинулись в атаку, не соблюдая ни регулярного строя, ни воинского порядка – скорее, это была какая-то беспорядочная вооруженная толпа, в которой задние ряды просто-напросто напирали на тех, кто бежал впереди, не позволяя им остановиться.
Персидские пехотинцы не имели общей формы. Пожалуй, единственное, что их объединяло – это головной убор. Так называемая «каджарская» шапка представляла собой усеченный высокий конус из шкуры черного ягненка или барана, с маленьким суконным донцем, немного примятая спереди. Солдаты отпускали бороды, а волосы, брови и даже ресницы красили хной не реже одного раза в неделю. Просторные шаровары длиною до пят надевались ими под рубаху и были завязаны спереди: точно так же, как шелковые рубахи, они могли оказаться самого разнообразного цвета. Поверх сорочки и шаровар персы круглый год носили темный, стеганый архалук – нечто вроде камзола, перетянутого кушаком. Вместе с солдатами в атаку шли также и музыканты – пронзительные звуки флейт и удары больших барабанов, которые волокли на себе неторопливые ослики, предназначались для поддержания боевого духа и доблести персидской пехоты…
Впрочем, в этом бою пехотинцы не смогли одолеть и половины расстояния до вершины холма. И напрасно ее командиры своим собственным личным примером, свирепыми воплями и ударами сабель не раз и не два предпринимали попытки заставить солдат возвратиться, чтобы возобновить атаку. Пройдя медленным шагом какое-то расстояние, постреляв для порядка по сторонам и потеряв от картечи и пуль еще несколько десятков человек, персы снова и снова откатывались назад, на безопасное расстояние.
Тела убитых воинов персидской армии плотным, пестрым ковром усеяли подступы к русскому лагерю. Увидев это, Пир-Кули-хан отдал команду прекратить наступление в пешем строю и приказал опять отправить в бой немного отдохнувшую, зализавшую раны персидскую конницу.
…Ожесточенные атаки следовали одна за другой до наступления темноты. Время от времени самым храбрым, умелым и самым удачливым неприятельским всадникам, группами в несколько человек или даже поодиночке, удавалось прорваться за ограждение, составленное из телег. И тогда против них приходилось сражаться штыками, теряя солдат и младших офицеров…
Ночью персам пришлось сделать вынужденный перерыв, чтобы собрать тела погибших, и Пир-Кули-Хан отвел войска на близлежащие высоты. Счет потерь у него давно уже перевалил за тысячу, однако и полковнику Карягину удержание позиции на кладбище обошлось едва ли не в половину отряда – сто девяносто семь человек убитыми и ранеными. В числе прочих геройски погибли командир второй роты, поручик из гренадер, два молоденьких прапорщика, полковой казначей и недавно назначенный адъютант с иностранной фамилией, которую мало кто в полку успел выучить и запомнить.