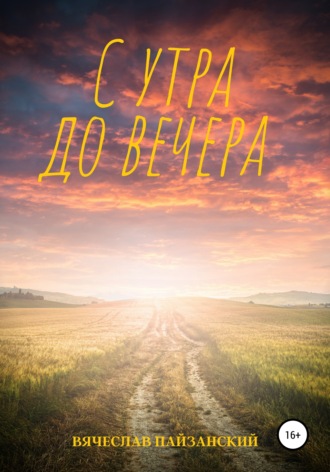 полная версия
полная версияС утра до вечера
После ужина, с хорошей винизацией, в которой деятельно участвовали и дамы, перешли опять в гостиную, только другую, золотую, с красным свечением электроламп. На середине комнаты стоял большой рояль. Сестры по очереди играли и пели и в одиночку и вдвоем.
Потом танцевали, отдыхали и снова танцевали.
Когда стрелка часов подходила к 12, Койранский поднялся.
Гости откланялись, приложившись к холеным ручкам хозяек, и отправились восвояси.
«Приходите к нам», приглашали дамочки.
В школе друзей встретил дежурный офицер, поручик Невзоров, сразу почуявший запах вина.
«Где были?» – строго спросил дежурный.
«У моих родителей», ответил Розанов.
«А где пили?» – последовал другой вопрос.
«Дома», коротко пояснил Розанов.
«Завтра доложите ротному командиру!» – приказал поручик Невзоров и отпустил юнкеров спать.
Когда юнкера пришли во взводное помещение, они тоже задали друг другу вопрос:
«Действительно, у кого мы были и у кого пили?»
Сказать ротному, что были у родителей Розанова и там выпили, было рискованно: он мог проверить, и обнаружился бы обман.
На другой день, между занятьями и обедом, Койранский и Розанов пошли в ротную канцелярию. Там был и ротный, подполковник Осиниянц. Он разрешил доложить о приказании дежурного офицера.
«Очень были пьяные?» – поитересовался офицер.
«Нет, пьяными мы совсем не были, только от нас немного пахло», уверяли провинившиеся.
А Койранский добавил:
«Мы сказали поручику Невзорову, что пили у родителей Розанова, не хотели говорить у кого по понятным причинам. А были мы в гостях у грфини Завалишиной».
Эта наугад сказанная фамилия и титул возымели свое действие.
«Они вам родня, что ли?» – интересовался ротный командир.
«Никак нет, хорошие знакомые!» – поспешно сболтнул Розанов.
«Ну, так идите, больше не попадайтесь поручику Невзорову», отпустил друзей подполковник.
Но Розанов, житель Москвы, в первое же воскресенье опять побывал в гостях у высокопоставленных дам, обедал у них и, уходя, спрсил у дворника соседнего дома, кто живет в особняке.
Поздно ночью Койранский вернулся из отпуска и был встречен на лестнице Розановым.
«Знаешь, кто наши знакомые?» – на ухо спросил он появившегося друга.
«Кто?» – спросил тот.
«Княгиня Виктория Сергеевна Завалишина и грфиня Екатерина Сергеевна Муравьева, вот кто!»
«Здорово же я угадал!» – рассмеялся Койранский.
«Только титул ты перепутал», в тон ему смеялся Сергей Розанов.
До окончанья школы Койранский не был больше в гостях у сиятельных дамочек, а Розанов был несколько раз и даже влюбился в младшую. Имел ли он какой-нибудь успех, он не рассказывал, лишь хвастался, что дважды катался с ней на рысаке и пил с ней на брудершафт.
13. Производство в офицеры и назначение в часть
10 февраля 1917 года Койранский был произведен в офицеры.
К этому дню готовилась вся рота, все, кто по выпускным баллам были признаны достойными надеть офицерские погоны с одним просветом и одной звездочкой – получить первый чин прапорщика.
Заранее шилось обмундирование, пригонялось оружие и снаряжение, на заказ делалась фуражка и шилась зимняя шапка-папаха, покупался бинокль и разные вещи офицерского обихода как для боевой обстановки, так и для тыловой, мирной.
В день выпуска, с утра, были произведены ученья в присутствии московского командующего войсками и его свиты для проверки, насколько будущие офицеры постигли искусство командования и строевой подготовки. В течении 3-х часов производились все возможные манипуляции на походе и в бою. Каждый выпускник должен был побывать в ролях командира взвода, роты и батальона.
Потом был зачитан высочайший указ о производстве всех ста сорока человек, и рота юнкеров была распущена с приказом, чтобы «господа офицеры» построились уже в офицерской форме для благодарственного молебствия.
И через 20 минут новоиспеченные господа офицеры, при огнестрельном и холодным оружии, выстроились в зале, где обычно устраивалась походная церковь.
Койранскому было неловко в непривычной форме, шашка мешала, револьвер, несмотря на портупею, давил и оттягивал ремень.
И на душе было неловко. Еще вчера отдавал он честь каждому офицерику, становился во фронт любому отставному генералу, которых в Москве можно было встретить на каждом шагу, а сегодня самому тебе будут козырять несчастные нижние чины.
Тебе вверят сотню человеческих сердец, поручат твоему воспитанию, и потом ты поведешь их в бой.
От твоего уменья и от твоей проницательности и способности будет зависеть жизнь этих людей.
И если небольшая часть вновь произведенных шумно выражала свой восторг от погон, от оружия, от своей новой значительности, то большинство было молчаливо, серъезно и задумывалось над той ответственностью, какая свалилась на них волею самодержца всероссийского, бросившую свою неграмотную и отсталую страну в жесточайшую бойню, каких не знала история человечества.
Койранский не хотел этой роли командира, он не считал себя вправе вести других в бой. Он предпочел бы самому лечь в бою обязанности вести на смерть других.
Но это было не в его власти. И никакого чувства патриотизма или военной гордости он не испытывал. Скорее ему было грустно от той роли, какую с этого дня ему придется играть.
Но вот послышалась команда «Господа офицеры!» – вместо привычной команды «смирно» – и пожаловал командующий войсками генерал Мрозовский.
Он поздравил новых офицеров с производством и пожелал им боевого счастья и верной службы царю-батюшке.
Офицеры ответили ему возгласом «ура».
Затем был молебен, а после него все, без строя уже, направились в столовую. Обед был не очень хороший для такого случая, и не было традиционной рюмки.
А после обеда начался разъезд, с тем, чтобы на другой день явиться еще в последний раз в школу за получением назначения и денег.
Койранский провел вечер и ночевал у Розанова; там был и Гиацинтов. Вечер прошел оживленно. Отец Розанова достал где-то две бутылки самогона, и после третьей рюмки стали заплетаться языки. Уже поздно ночью молодые офицеры пошли гулять по Москве.
Однако, мороз заставил их разойтись по домам.
Но предварительно они сговорились, если назначенье будет зависеть от них, ехать в одну часть и подальше от Москвы, где слишком много соблазнов, много знакомых и родительских глаз.
Койранского это касалось мало, но не хотел отрываться от друзей.
На другой день было получено назначенье: в распоряжение начальника штаба Казанского военного округа.
Получив документы и деньги, Койранский в тот же день приехал в Дмитров, к семье.
10 дней отпуска, перед отъездом в Казань, он отдыхал, наслаждаясь тишиной и заботами жены.
Из полученных денег Койранский не только расплатился с долгами, но и хорошо снабдил семью, и себе оставил приличную сумму. Перед отъездом все поэтические труды Койранского были вновь сожжены, хотя содержание всех стихов было исключительно лирическим.
14. По дороге в часть
Наконец, кончился отпуск. Напутствуемый плачущей Марусей и всеми ее детишками, своими воспитанниками, Койранский уехал на службу офицером, начинавшуюся в глубоком тылу, но предназначенную для фронта, для боя.
Чем она кончится? Придется ли ему вернутся к родным людям, или он отдаст жизнь за чуждые ему и народу интересы?
Койранский мало задумывался над своим положением, он видел, что выхода нет, что он попал в зубы зверя, именуемого войной, и ему не вырваться из ее пасти.
В Москве Койранский остановился у Розанова, так как они и Гиацинтов решили ехать в Казань вместе.
В день приезда в Москву вечер прощанья со своей многочисленной родней устроил Гиацинтов.
Это была артистическая семья. Отец был пианистом Большого театра, старшая дочь – артисткой Малого театра, две другие учились в студии Малого театра, и только Иван, самый младший, был юристом, хотя и прекрасным музыкантом, игравшим чуть ли не на всех инструментах и даже композитором, автором нескольких студенческих и юнкерских песен, сложенных в содружестве с Розановым и Койранским.
Он так и отрекомендовал их, знакомя со своей семьей: «поэты, мои друзья и соавторы».
Вечер прошел весело, в непринужденной обстановке. Только отец был грустным, будто чувствовал, что потеряет сына, ставшего жертвой случайной пули неразумного взбесившегося офицерства.
Но сам виновник торжественных проводов был весел, как всегда остроумен, и музыкален. Он пел под собственный аккомпанемент и танцевал с сестрами под музыку отца.
В конце вечера появилась еще одна гостья, Мурочка, девушка в форме милосердной сестры, дальняя родственница Гиацинтовых и любовь Ивана.
В 12 часов ночи все вышли на улицу, провожали Мурочку, гуляли по Александровскому саду, где Иван очень ловко имитировал соловьиную песню. Это в феврале-то! И разошлись под утро.
Второй вечер Розанов и Койранский были в гостях у сиятельных знакомых, на Большой Садовой.
Обе барыньки были в ударе. Они так радовались приходу гостей, что, занавесив шторами окна и закрыв двери гостиной, занялись испытанием мужской стойкости защитников Отечества.
Розанов сдался скоро, а Койранский выстоял, изрядно удивив и помучив Викторию Сергеевну.
Зато и дала же она ему за ужином, то и дело подливая ему в рюмку и чокаясь на брудершафт!
Скоро Койранский опьянел и был растянут на диване в кабинете неизвестного супруга.
Утром опохмелились и расстались опять «под мухой».
Веселящиеся дамочки просили вечером опять приехать, офицеры обещали, хотя знали, что в первом часу ночи их поезд отойдет от дебаркадера Казанского вокзала.
Так оно и было.
Провожали Розановы и Гиацинтовы. Не было Мурочки, что очень опечалило Ваню Гиацинтова.
И Койранскому было невесело. Ни одна родная душа не провожала его. Чужой была и Москва. В ней уже не было Марины Закревской, высланной под надзор полиции на родину, не было Смыклинского, друга по Варшавской гимназии, укатившего на фронт в качестве зауряд-врача.
Но, при прощании, Розановы и Гиацинтовы обняли расцеловали его, как родного.
Спасибо вам, милые, родные – чужие люди!
Под пенье застольной студенческой старинной песни «За святой девиз вперед!» поезд медленно, как бы нехотя, постукивая колесами на стыках рельс, покинул Казанский вокзал, где когда-то физически трудился Койранский.
Конец 4-й частиВойна и мир
Повесть
Начата в июне 1962 года.
1. Казань
Вагон, в котором ехал в Казань Койранский с товарищами Розановым и Гиацинтовым, был битком набит военной публикой.
Здесь были полковники и капитаны, но подавляющее большинство составляли прапорщики, вновь ехавшие за назначением в Казань после госпиталя и, главным образом, только-только испеченные, как Вячка и его друзья.
Здесь были военные батюшки с огромными нагрудными крестами и с нагрудным же значком, изображавшим скрещение креста и меча.
Здесь были и сестры милосердия в своих белых косынках и с белым же нагрудником, украшенным большим красным крестом.
Вагон гудел, как муравейник и, несмотря на ночь, никто не ложился. Все сидели, стояли, ходили – знакомились или вспоминали «битвы, где вместе рубились они».
Только в последнем открытом купе (вагон был второго класса, купированный) лежал пожилой раненый. Около него сидела миловидная сестра милосердия, которая поминутно поправляла его одеяло, подушку или давала пить из маленького оловянного стаканчика, которым накрывался стоящий на столике термос.
Прислушавшись, Койранский услыхал, что она называла больного полковником, а иногда Александром Александровичем. И среди общего шума неожиданно возвысился звонкий молодой голос:
«Отец, тебе же нельзя! Врач предупреждал. Ну, погоди до завтра. А сегодня выкури еще одну сигару вместо этого. Я тебе сейчас зачищу».
И из купе скоро поплыл густой и крепкий дым сигары.
Койранский отошел от окна против этого купе и занял свое место в соседнем, на верхней полке. Он почти сейчас же уснул и, проснувшись, понял, что уже день, поезд стоит на какой-то станции, в купе никого нет. Он соскочил с полки и вышел в коридор.
У окна стояла с вещами новая пассажирка, сестра милосердия.
Она обратилась к Койранскому:
«Никого нет в вагоне. Не знаете ли, где есть местечко?»
«А какая станция?» – вопросом же ответил Койранский.
«Муром, а мне нужно в Свияжск. Где же приткнуться?» – спрашивала сестра.
«Пожалуй, идите в мое купе и занимайте мое место на втором этаже. Деем будем бодроствовать, а ночь переспим где-нибудь. Пожалуйста, не стесняйтесь, сестрица, пожалуйста!» – просил Койранский.
Но сестрица недоверчиво оглядела любезного прапорщика и спросила: «А разве нет свободных мест?»
«Что вы! Яблоку негде упасть! Право!» – ответил тот.
«Ну, хорошо! Показывайте!» – решилась сестра.
Койранский подхватил ее чемодан и защитного цвета наволочку, перехваченную ремнями, и понес в купе.
Чемодан был устроен на третьем этаже, а постель положена на разосланном одеяле Койранского.
«Спасибо! Познакомимся: я – Бронислава Витольдовна Коссаковская», отрекомендовалась она.
Назвав себя, Койранский выразил удовольствие, что встретил польку. Он рассказал, что долго жил в Польше, учился в Варшаве и у него сохранились очень хорошие воспоминания об этом городе.
Оказалось, она тоже из Варшавы, жила и училась там в русской второй гимназии в те же годы, что и Койранский.
Весь день они разговаривали, как старые знакомые. Она угощала его пирожками и пряниками, а он ее – чаем.
Вечером Койранский устроил ее на своей полке, заботливо укрыв своим легким одеялом, а сам примостился в коридоре, у окна, на своем чемоданчике.
Но, видно, Коссаковская была достаточно щепетильна: она вышла к нему и заявила, что ей неловко лежать, когда он сидит. И вдруг предложила: «А знаете, что я придумала? Мы оба уместимся на полке. Пусть себе смеются, кто хочет. А мы зато будем удобно спать».
И они забрались на полку, легли на одну подушку и накрылись одним одеялом. Правда, было тесновато, так что пришлось лечь боком, лицом друг к другу. Так они и уснули: Койранский уткнувшись лицом в мягкую грудь милосердной сестры, а она обняв его за шею.
Утром они долго смеялись сами над собой и уверяли, что это была самая приятная ночь из всех, какие они прожили.
«Мужу рассказывать не стоит!» – смеясь, говорила она.
«И жене тоже!» – подтвердил Койранский.
В Свияжске он вынес на перрон ее вещи и крепко расцеловал на прощанье.
Было уже совсем темно, горели свечи в вагоне, когда чей-то громкий бас возвестил словами песни «Как в городе было в Казани!» – что поезд подходит к этому городу.
Все стали готовиться.
Розанов и Гиацинтов, подсмеиваясь над приятной ночью Койранского, требовали, чтобы назначенье он брал обязательно в Свияжск, где у него уже есть такая милая сестрица.
Койранский молчал. Ему не хотелось опошлять воспоминания, в котором не было ни одной капли грязи.
Приехали в Казань. Нагрянули носильщики – татары и татарки.
Приезжих было так много, что носильщиков не хватило. Но друзьям повезло. Один носильщик на троих, перевязав их чемоданы и другие вещи, взвалил на себя и повел их к извозчичье стоянке, нашел извозчика и распорядился, как будто знал, что им нужно:
«В Рыбновские номера!»
И через 40–50 минут они уже устроились в большом, двойном номере Рыбновской гостиницы.
Устроившись, они вспомнили, что не худо бы поужинать.
«Да ведь сегодня началась широкая масленица! Плохие мы будем русские офицеры, если не почтим эту языческую бабу!» – воскликнул Розанов. И друзья решили идти ужинать в ресторан и заказать блины. Через полчаса, с помощью языка и прохожих, нашли ресторан.
Заняв свободный столик, они заказали блины и все, что к ним прилагается. Только водку отказались сначала подать, но зеленая бумажка, протянутая Гиацинтовым, помогла преодолеть это препятствие. Графин нельзя было открыто подать, тогда его завернули в салфетку и разливали не в рюмки, а в пивные стаканчики.
По-дружески тепло беседовали друзья за блинами, стараясь не привлечь внимание публики. Но их все же заметили.
К ним подошел казачий офицер и попросил предъявить воинские документы, показав свои, из которых было видно, что он дежурный офицер штаба Казанского военного Округа.
Еще в вагоне знающие рассказывали о порядках в Казанском гарнизоне, где командующий войсками генерал Сандецкий так свирепствовал, что за малейшую провинность безжалостно сажал под арест и особенно офицеров, и что военные в казани очень были напуганы, так что вставали во фронт перед черным автомобилем командующего, будь он пустой или в нем сидела кухарка генерала, направляющаяся на базар за продуктами.
Естественно, молодые офицеры струсили.
Но случилось неожиданное. Есаул еще не успел документы друзей, как к нему подошла представительная дама, взяла под руку и увела из зала.
Койранский с приятелями поспешили закончить ужин и выйти, при чем официант провел их до гардероба другим путем, через кухню. Он понял все, и за это получил хорошо на чай.
Офицеры вернулись в номер и уже готовились ложиться спать, как в номер кто-то постучал.
Вошла дама, та дама, которая отвела беду от них в ресторане.
Она бесцеремонно села и, глядя с насмешкой на растерявшихся офицеров, спокойно и деловито заявила:
«По красненькой с брата. Деньги на кон или завтра пожалте на гаубвахту».
Все трое беспрекословно положили перед ней по десяти рублей.
Дама, не спеша, спрятала деньги в сумочку и весело предложила:
«Вот что, птенцы! Не худо бы сейчас еще дернуть по маленькой. Давайте еще по десятке, и я организую все!»
Офицеры выложили еще по десятке. Дама взяла деньги и вышла из номера. Она, конечно, не вернулась, хотя ее ждали довольно долго. Приятели посмеялись и улеглись спать, дав обещание больше не попадаться.
На другой день, к 10 часам утра, они явились в штаб округа, в приемную начальника штаба.
Здесь было столпотворение вавилонское.
Документы были сданы в начале одиннадцатого часа, а очередь до них дошла только в шестом часу вечера.
Койранский и его друзья проголодались, и хотели было пойти пообедать, но неожиданно к ним подошел писарь-еврей.
«Студиозы? Из Москвы? А я из Харькова, окончил юридический в прошлом году. Так вот что: вам покажут список запасных полков и места их расквартирования. В течение нескольких минут вы должны выбрать полк. Выбирайте Саранск, 234-й или 101-й запасный полк.
Этот гарнизон неблагополучен по холере и брюшному тифу, а потому числится в карантине, хотя ни одного больного в городе не было и нет. Зато гарантируете себя от фронта по крайней мере на четыре месяца. После назначения я подойду опять к вам и вы мне дадите по две красных. Понятно? Такая механика: господа офицеры штаба любят погулять. А я, что ж? От фронта освобожден за услугу им».
И он ушел, показав красивые зубы в веселой улыбке.
«Я за то, чтобы в Саранск», заявил Койранский, подойдя к большой карте России, висящей на стене.
«Только это безобразие!» – добавил Розанов.
«Сволочи! Но лучше Саранск, чем в окопах вшей кормить», резюмировал Гиацинтов.
Так, как сказал писарь, все и вышло. Друзья получили назначение в 234-й пехотный запасный полк, в город Саранск, получили по 26 рублей прогонов и, отблагодарив своих «благодетелей», через сутки выехали в неизвестный до того им город Саранск, Пензенской губернии.
2. Саранск и саранский протопоп
В Саранск Койранский и его товарищи прибыли под вечер. Солнце уже село, но еще было светло. Пошатались по вокзалу, примериваясь, где бы закусить «сытной» Казани: после блинов, кроме чая, ничего во рту не было.
Но в буфете ничего не оказалось, кроме папирос и засиженного мухами с прошлого года сыра.
Выдя с вокзала, удостоверились, что и транспорта, в виде извозчиков, тоже нет, а города вблизи и не видно.
Пошли пешком, но вещи мешали и голод давал себя знать.
На счастье, попался навстречу военный парный фургон. За рублевку солдат-возница согласился подвезти вещи до города.
Солдат был далеко не глуп. Он довез вещи до постоялого двора на окраине города и здесь сдал офицеров настоящим извозчикам, почему-то торчавшим около трактира, соседствуещего с постоялым двором.
Три извозца с готовностью взялись свезти их благородия в гостиницу Тувыкина.
«Далеко это?» – спросил Койранский.
«Да верст шесть будет», ответствовал ихзвозчик, заломивший большую плату.
Поехали, и через пятнадцать минут были на месте.
«Вот так шесть верст!» – с упреком воскликнул Койранский.
«Для кого как, а для ваших благородий завсегда удружим!» – весело подхватили все трое, плучая свои деньги.
Что они хотели сказать: то ли, что с офицеров всегда немилосердно дерут, то ли, что шесть верст покрываются за пятнадцатьминут только для офицеров? Раздумывать было некогда.
Вошли в гостиницу, попросили один большой номер или три одинарных.
«Свободных нумеров нет», флегматично заявил дежурный.
«Где еще гостиница?» – справились приезжие.
«Больше нет, в городе одна. Но вы не беспокойтесь. Сейчас позову прапорщика Семенова, он живо устроит» – успокоил дежурный и ушел. Офицеры, недоумевая, ожидали возвращения заботливого дежурного.
Они уже потеряли надежду, так долго его не было, и вдруг услышали разговор:
«Трое, говоришь? Это плевое дело. Втащим в зальцу три койки и делу конец!»
«Иван Семеныч заругают. Они не позволяют пущать в зальцу».
«Тогда иди к черту со своим Семенычем! Выгоняй из шестого его бабу и сдавай офицерам, вот что!»
«Никак невозможно! А к себе, ваше благородие, вы их не возьмете? Чай места для трех коек хватит!»
«Дурак ты, дурак! Да нешто офицеры могут жить как сельди в бочке? Ведь дуэли будут, тогда пиши все пропало!»
«Ваше благородие! Возьмите одного, а двоих помещу в шестом, скажу временно отдайте одну комнату, бывший седьмой номер».
«Вот это дело! Давай пойдем!»
И в комнату вошли дежурный и прапорщик, одетый небрежно, растрепанный, но любезный.
«Честь имею представиться! Прапорщик Семенов, ремонтер N-ского кавалерийского запасного полка!»
Приезжие представились. Семенов почему-то выбрал Койранского и предложил ему свой номер.
«Кстати, я завтра еду на всю неделю к мордве, будете один, а там устроитесь в полку».
Койранский изъявил согласие и очутился в одиннадцатом номере, где уже была вторая койка, очевидно, не раз используемая таким же образом.
Друзья Койранского после небольшого ожидания были помещены в комнате рядом с дамой, церемонно согласившейся уступить временно одну комнату милым защитником отечества.
Когда все устроились, Семенов собрал приезжих у себя в номере. Зашел разговор об обеде.
«Что вы? Какой сейчас, в седьмом часу, обед?» – что называется, «утешил» Семенов друзей.
«Как же быть? Хоть в трактир куда бы попасть! Может, пойти туда, около постоялого двора?» – рассуждали Койранский и его приятели. Семенов и тут выручил.
«Ничего! Переодевайтесь, да пойдем в гости к протопопу. Там и покормитесь, и в железку рванете, и за девочками поухаживаете. Только условие: никто не должен сказаться женатым. Там лафа холостым. Ниночка и Раечка безумно хотят замуж. И отец протопоп не может дождаться, когда это случится. Вам, новеньким, будут рады: те, кто ходит к ним, жрут, пьют, а не женятся. Есть, правда, один, подпоручик Барабанов, который не прочь клюнуть, да ходит слух, что на фронте кое-что у него отбили. Вот Ниночка и стала бегать от него. А вы – на выручку ей! Ухаживайте, говорите, что хотите, даже похабщину, только рукам воли не давайте».
Так Семенов бегло познакомил приезжих с протопоповской обстановкой. Через некоторое время они уже звонили у парадного подъезда, на дверях которого висела медная дощечка, и на ней, даже в темноте, друзья прочитали:
Александр Свиридович Беневоленский,
Протоиерей Саранского Собора.
Дверь открыла девушка, очевидно, прислуга, потому что спросила:
«Вы к батюшке или к барышням?»
Но увидела Семенова, затараторила:
«Федор Минич! Это вы? А я не узнала в темноте-то! Пойдем в столовую. Там все наши и поручик».
Офицеры разделись в прихожей и, возглавляемые Семеновым, двинулись в столовую. Дверь туда была полуоткрыта. Издали еще была видна висящая над столом керосиновая лампа под белым мтовым абажуром и слышались голоса.
Первым вошел Семенов. За ним Койранский, Розанов и Гиацинтов.
Все сидевшие за столом поднялись. Началось представление, по старшинству – батюшке, матушке, дочерям.
Батюшка провозгласил красивым, густым баритоном:
«Честь имею просить за стол. Рады вам, господа, очень рады! Люди мы простые, провинциальные. Просим любить, да жаловать! Предупреждаю: меня, как всех попов, отцом не зовите. Терпеть не могу! Я – Александр Свиридович, так и зовите. Жену мою зовите Ксенией Афанасьевной, ну, а дочки – вот старшая Нина, а младшая Раиса, по отчеству, значит, Александровны. А вы из каких мест будете?» Когда протопоп и другие узнали, что друзья приехали из самой Москвы, интерес к ним еще больше усилился.

