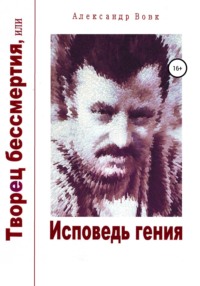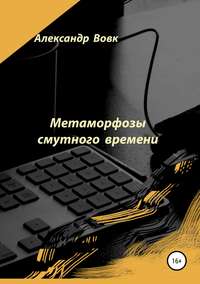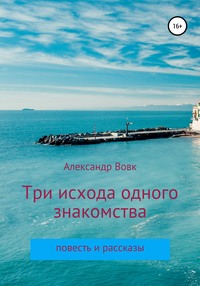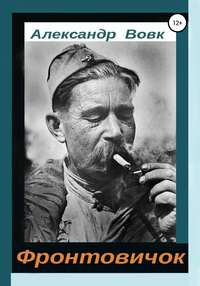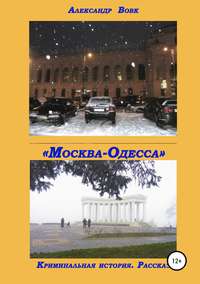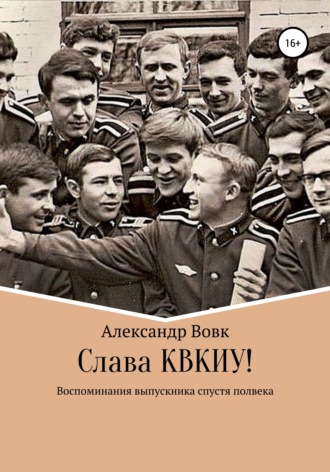 полная версия
полная версияСлава КВКИУ!
Вспоминаю рассказ своего товарища Юрия Сухова. Однажды он нёс службу дневальным по курсу. Неожиданно на входе в казарму появился генерал Савельев. Обычно с других курсов всех нас обязательно предупреждали: «К вам направился…» А в тот раз это правило не сработало; вынырнул прямо перед носом.
Курсант Сухов, как и подобало дневальному, громко подал команду: «Курс! Смирно! Дежурный по курсу – на выход!»
Генерал остановился перед ним и спокойно поинтересовался, кто ещё находится в казарме?
– Товарищ генерал! – доложил Сухов. – Весь личный состав находится на занятиях! Здесь остался только наряд. Если считать со мной, то три человека! Из командования курса – только старшина Бушуев, он находится в каптёрке.
– Вольно! Оставайтесь! – разрешил Савельев и по длинному коридору направился вглубь казармы.
Перед ним в соответствии с уставом внутренней службы вынырнул с докладом дежурный по курсу младший сержант Дегтярёв. Взмахом руки генерал прервал его доклад и велел отвести в каптёрку.
Дверь в нее в конце коридора была распахнута, но старшины Бушуева на месте не оказалось. Это показалось странным, ведь в каптёрке много ценных материальных средств, потому бросать всё вот так, безнадзорно, никто бы не стал.
Но ситуация оказалась весьма показательной для понимания нашего генерала Савельева. Иначе говоря, если угодно понять, какой ужас охватывал кое-кого при встрече с генералом Савельевым, достаточно вспомнить ту незапертую в каптёрку дверь и последующее поведение нашего бравого старшины Бушуева.
– Где же ваш старшина? Испарился он, что ли? – усмехнулся генерал Савельев в сторону младшего сержанта Дегтярёва.
– Не знаю! – растерялся дежурный. – Только что был здесь!
– Ладно! – опять усмехнулся генерал, поглядывая на открытую форточку. – Плохо вы, товарищ младший сержант, знаете обстановку на курсе. – А теперь проводите меня в умывальник и туалет!
Там, благодаря усилиям наряда, всё оказалось в порядке. Но старшину не нашли и там.
На обратном пути генерал обстоятельно осмотрел все курсантские кубрики. Проверил прикроватные тумбочки, в которых редко бывал должный порядок. То голый обмылок прилипнет к непокрытому салфеткой донцу ящичка, то зубная паста скручена рулетом, а то и вообще всё брошено навалом. Но теперь не к чему было придраться.
Савельев заглянул даже под матрасы наших металлических кроватей, нет ли чего лишнего и хорошо ли натянуты на пружинных сетках матерчатые подматрасники? Проверил порядок в так называемой шинельной, а потом и в сушилке. Заглянул в канцелярию начальника курса, где поморщился от табачного дыма и вида окурков в пепельнице – символа неаккуратности. Сам генерал не курил даже на фронте.
Не встретив более никого, Савельев махнул рукой дежурному, мол, оставайтесь, и покинул казарму нашего курса. Вполне возможно, что капитану Титову в тот день пришлось выслушать кое-что неприятное.
А наши мужички после ухода генерала принялись гадать, куда же, в самом деле, спрятался Бушуев? Ведь не испарился же он, как предположил генерал! Но ни к чему не пришли, поскольку мест, чтобы спрятаться от курсантов в их собственной казарме, просто не существовало. Загадка осталась неразгаданной!
Старшина Бушуев появился минут через двадцать, нервно озираясь, будто едва оторвался от погони:
– Генерал ушёл? – в первую очередь выяснил он настороженно, кивая вглубь коридора, и готовый ретироваться.
– Ушёл он! Давно ушёл, товарищ старшина! – ответил Сухов.
– Уф! – стал шумно отдуваться Бушуев, прислонившись к тумбочке дневального и вытирая лицо солдатским платком. – Кажись, пронесло! Надо же! – никак не мог он успокоиться. – Пришлось из-за него в форточку вниз головой нырять! Едва шею не сломал! Окна-то из коридора на техническую территорию зарешёчены, будь они неладны! Думал уже, не просочусь! Тесная, чёрт бы её побрал! – обрадовался, наконец, старшина своей удачливости.
– А зачем вы так сложно, товарищ старшина, маневрировали? – подколол его Сухов.
– Ты ещё молод, чтобы мне вопросы задавать! – огрызнулся Бушуев. – Поживи с моё, так и не в такую щель залезешь!
– И всё же – зачем в форточку, а не через дверь? – добивал старшину Сухов.
– Зачем, да зачем! – разозлился вдруг старшина. – Будто не знаешь, как генерал Савельев нашего брата-сверхсрочника любит?! Он бы мне матку на изнанку вывернул! Ни за что! А если бы нашёл упущение, то я и не знаю, что бы он придумал? Вот я, на всякий случай, и использовал запасный выход!
– Так ведь генерал Савельев и нас всех крепко любит! – посмеялся Сухов. – На всех, в случае чего, и форточек не хватит!
– Ты у меня… Ты у меня скоро не только в форточку пролезешь, а сам ещё не знаешь, куда! – пригрозил старшина и направился в каптёрку завершать пересчёт портянок и курсантского белья. Он готовился к очередной помывке личного состава.
37
Было когда-то и такое! – тепло вспомнилось мне приключение старшины. – Но припоминаю и более интересный случай. Уже с другим моим товарищем, с Ковалем Адамом.
Имя у него несколько неожиданное, прямо-таки, первочеловек, а не военнослужащий! Но для Западной Украины оно привычно, поскольку он и сам оттуда. А парень Адам, с какой стороны ни глянь, отличный. Правда, тот случай больше характеризует генерала Савельева, нежели нашего Адама.
Так вот! В тот памятный день курсант Коваль исполнял обязанности помощника дежурного по училищу. Нам, старшекурсникам, столь ответственные роли уже доверяли!
Дело было днём. Начальник Адама в наряде, дежурный по училищу полковник Кожевников, интереснейший, между прочим, мужик, в соответствии с распорядком дня ушёл в столовую на пробу пищи. Так положено, прежде чем дать своё разрешение на ее выдачу. Ну, а Адам, конечно, остался за него, сидя в помещении для дежурного.
В традициях армии это помещение располагалось на входе в управление училища. Большое окно в коридор позволяло Адаму контролировать входящих и выходящих.
Ему на беду, хотя время подходило к обеду, но впервые в тот день в управление вошёл генерал Савельев. Адам, оформляя служебные журналы, замешкался и не вскочил своевременно, замерев в воинском приветствии. Или еще что-то генералу не понравилось, но он остановился и взмахом ладони подозвал курсанта Коваля к себе.
Адам метнулся в коридор, представился генералу, как и положено, уже почувствовав своей задницей, что дело пахнет керосином, и заодно сообщил ему, что из облисполкома поступила телефонограмма. В соответствии с ней генералу Савельеву в пятнадцать часов следовало явиться в зал заседаний облисполкома города Казани!
– Когда приняли телефонограмму? – доброжелательно к Адаму, но с досадой в сторону облисполкома уточнил генерал.
– Около десяти утра, товарищ генерал-майор! – ответил Адам.
– А сейчас уже сколько? – с ярко выраженным сожалением спросил генерал.
Не все из нас тогда знали, что генерал Савельев голос на людей никогда не повышал. Случалось, он крепко ругался. Такое бывало, но всегда без крика. Если же он обнаруживал у курсантов значительные промахи, то при одном лишь взгляде на генерала всем казалось, будто у него схватило сердце. Лицо кривилось, словно от боли, и выражало разочарование и сожаление. Хотя жалко-то ему всегда было нас, бестолковых.
И за наши промахи генерал ругал не нас, а себя! Да! Это было заметно, и совершенно удивительно для нас. Он не искал виновных, считая проступки курсантов своей собственной недоработкой или других командиров. Ни на кого не ругался, выражая даже самое сильное недовольство не в лицо виновному, а куда-то вниз и в сторону. Это выглядело так, будто рядом с собой генерал видел нерадивую собаку, которой всё и высказывал. И голоса опять же не повышал.
Правда, виновникам от его разочарования легче не становилось. Более того, столь странная реакция генерала действовала сильнее, нежели эмоциональные разносы со стороны некоторых несдержанных офицеров. Курсантам становилось стыдно и обидно за себя. Это работало безотказно.

Ещё вспоминается, что генерал Савельев ко всем обращался на «ты». И хотя в армии это не дозволено, но на Савельева никто не обижался. У него это получалось по-отечески тепло. Тем более, солидный возраст, огромная фигура и генеральские погоны вдобавок. Потому понятно, что его фамильярность все принимали как должное и без обид.
В годы нашей курсантской юности над нами возвышалось немало и других офицеров, которые тоже обращались к нам на «ты». И мы всегда чувствовали, каким именно тоном это сказано – с пренебрежением или по-отечески. В соответствии с этим ощущением и реагировали.
– Сейчас тринадцать часов десять минут, товарищ генерал! – ответил Адам, слегка робея.
– Так почему же ты, сынок, не предупредил меня раньше? Почему сразу не разыскал? – с сожалением выдохнул в сторону генерал.
– Так я же здесь вас ждал, товарищ генерал! В управлении! Думал, вы вот-вот в свой кабинет…
Генерал прервал Адама как раз с тем сожалением, которое у него всегда выходило наружу, если он чем-то был не доволен:
– Ну, какой кабинет? Какой ещё кабинет!? – в сердцах махнул он рукой. – Ты на четвёртом курсе и до сих пор не знаешь, что я штаны по кабинетам не протираю? Действительно, не знаешь?
Наш Адам был тем человеком, которого должностями и большими звёздами не испугать. Он с кем угодно говорил, не теряя головы и достоинства, зато совершенно забывал о воинской выправке, более всего напоминая собой крестьянина, да и только:
– Товарищ генерал! Я, конечно, слышал, что вы не любите кабинеты! Да! Но ведь и я до обеда на занятиях! Откуда же мне о вас знать? Может, вы в это время и работаете в кабинете!
Генерал Савельев поглядел на курсанта с удивлением – этот ответ напоминал выговор самому генералу, но спросил с улыбкой:
– Напомни свою фамилию, сынок…
– Курсант Коваль, товарищ генерал.
– Коваль, говоришь? Это кузнец, что ли? Так? А полное имя?
– Адам Петрович, товарищ генерал!
– Белорус?
– Нет! Украинец! Из Ровенской области! – как-то по-крестьянски потупившись, произнёс Адам.
– А отец кто? Чем занимается?
– Фронтовик он! – застенчиво ответил Адам. – Без ног вернулся. А вообще-то, он в колхозе всегда… Из крестьянской семьи!
– Вот что, сынок! За то, что ты меня оставил без обеда, я тебя прощаю, но за твою пышную шевелюру я тебе объявляю трое суток ареста. Это для начала! Но если к вечеру ты мне не покажешься в образцовом виде, то накажу и твоего командира! Пусть не зевает впредь! Ясно тебе, Адам Петрович?
– Так точно, товарищ генерал! Разрешите идти?
Генерал не стал отвечать, лишь устало встряхнул ладонью в сторону курсанта, мол, иди, что с тебя взять, и стал тяжело подниматься на второй этаж.
Зато Адам, вернувшись в помещение дежурного, поскрёб пальцами лоб, как это делают русские люди, сожалея, что опять промахнулись, и стал ждать дежурного по училищу. Без него помощник не мог покинуть свой пост, чтобы срочно постричься.
Минут через пятнадцать генерал Савельев с кожаной папкой для бумаг прошёл мимо Адама к выходу. Возле двери он притормозил, что-то вспомнив, повернулся в сторону Адама и громко, чтобы курсант услышал через стекло, сказал ему с усмешкой:
– Насчёт ареста я, сынок, пошутил! Это забудь! А всё остальное остаётся в силе! – и вышел из здания.
Вот такая простенькая история имела место в нашей курсантской жизни. История ещё об одном командире, о котором остались самые хорошие воспоминания. Командир ведь всегда воспитатель. И отношение подчиненных к нему зависит не от строгих законов, не от жёстких уставов, не от дисциплинарной практики. Оно зависит от личности самого командира. Потому-то при равенстве всех факторов за одним командиром подчиненные готовы идти на смерть, доверяя ему во всём, а другого ни во что не ставят, и подчиняются лишь затем, чтобы минимизировать свои неприятности от общения с ним.
Но как можно из большого количества претендентов выявить тех командиров, за которыми пойдут? Как их выбрать, если это не очевидно?
Никто не подскажет волшебного решения этой задачи. Никто не подскажет решения, которое бы помогло любому командиру или кадровику безошибочно и, действуя чисто формально, решить такую задачу.
Но всегда остаётся логическая зацепка, позволяющая решить ее правильно! И ею может стать только авторитет командира у своих подчиненных. Если командир пользуется им в своём малом коллективе, то успех, скорее всего, будет ему сопутствовать и в дальнейшей карьере, то есть, по мере продвижения на всё более высокие должности, когда и подчиненных у него становится всё больше. У маршалов подчиненных могут быть миллионы.
Но мне, к сожалению, часто приходилось наблюдать выдвижения некоторых офицеров совсем по другим принципам. Потому, наверно, и среди генералов встречаются люди уважаемые, но ведь много и других. У нас, случалось, даже министром обороны назначали людей, которые уже с первого взгляда оцениваются, как совершенно непригодные по профессиональным, моральным и нравственным критериям. Всякие сердюковы и прочие! А долгое время население вообще готовили к тому, чтобы на этот пост поставить женщину! Это, за какие заслуги перед отечеством? Или совсем не перед ним? Так или иначе, но и любое государство, и армия, и рыба всегда гниёт с головы!
Кстати, в аттестации, подготовленной ещё до войны командиром кавалерийской дивизии Рокоссовским на своего подчиненного, командира полка Жукова, сделан очень точный и принципиальный вывод. Не ручаюсь за его формальную безупречность, но ручаюсь за смысл: «Нецелесообразно использовать (Жукова) на штабной работе, поскольку он ее органически ненавидит!»
Однако этот объективный вывод во внимание не приняли, и перед войной Жукова не только назначили на штабную должность, но, более того, даже на должность самого главного штабника – Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.
Это стало серьёзной ошибкой, отразившейся на всей истории нашей страны. Если человек ненавидит какой-то вид деятельности то, понятное дело, успехов в нём ожидать не приходится.
Промашку, скорее всего, допустил Сталин. Он был гениален во многом, он и в поступках человеческих разбирался гениально, но только не в людях. Он не видел их насквозь. Потому они часто подводили. Вот и с Жуковым получилось так же. Сталин сразу разглядел выдающиеся волевые качества Жукова и посчитал, что такими же должны оказаться и его общечеловеческие качества. Это вышло иначе! И промашка Сталина лишь подтверждает чрезвычайную сложность подбора нужного человека на должность командира и начальника.
Что же касается Жукова, то, несмотря на стремительный карьерный рост, его редко кто уважал. Близкое окружение его опасалось или даже боялось, но никогда не уважало, и, тем более, не любило. Потому, идти за ним с тем высоким вдохновением, без которого не бывает действительно великих побед, мало кто собирался.
Чтобы нейтрализовать отсутствие уважения, Жуков использовал жестокость. Уже потому его назначение в качестве начальника Генштаба или командующего никогда не могло стать более удачным, нежели назначение человека, которого люди просто уважают.
38
Кстати, только сейчас пришло на память нечто, вполне достаточное и для оправдания нашего генерала Ромашкина, к которому, как я уже вспоминал, курсанты любовью не пылали. Но за свой вывод я уже оправдывался тем, что с нашего уровня многое в генерале мы могли не увидеть и не разглядеть.
Так вот, теперь я считаю большой заслугой генерала Ромашкина его реакцию на одно позорное происшествие в училище, которое вспомнилось по ходу дела.
Читателям, далеким от армейских будней, для начала следует понять, что в наших вооруженных силах большинство командиров умышленно замалчивали происшествия (если удавалось, конечно), чтобы не портить мнение начальства о своей деятельности. Практика эта, безусловно, абсолютно порочная, зато распространенная! Потому решение генерала Ромашкина не замазывать, а изжить грязь, всплывшую в училище, вызывало к нему моё уважение.
События развивались так.
Известное дело, что за отличия в учёбе курсантов всегда как-то поощряли. И правильно делали!
Для этого победителей разумнее всего выявлять по результатам учебы в конце учебного года. Так и делали. Потому однажды личному составу училища объявили о присуждении весьма отличившемуся старшекурснику (фамилию не помню) Ленинской стипендии.
Ого-го! Для этого было недостаточно одних отличных оценок! Требовалась, как мы все представляли, и выдающаяся активность в общественной жизни, и в спорте, и в художественной самодеятельности, в олимпиадах и еще, бог знает, что!
Но раз уж присудили, то курсант, само собой, заслужил не только почетнейшую стипендию, но и наше всеобщее уважение! А как же иначе, если он во всём – самый-самый! Если оказался лучшим среди всех!
В общем, мы все так и считали. Но через полгода генерал-майор Ромашкин объявил личному составу училища, что в выборе кандидатуры для присуждения Ленинской стипендии командование допустило непростительную ошибку. Оказалось, что нынешний лауреат не только не достоин почётной стипендии, которой он теперь лишен, но, более того, не достоин считаться нашим товарищем и курсантом. Оказалось, что он уличен в краже денег у своих товарищей.
Реакция многих сотен военных людей, стоявших в строю, была одинаковой – полное молчание! Люди, как говорят, переваривали обрушившуюся на них информацию.
Всем было ясно, что генерал произнёс слова, не подлежащие сомнению. Всё, конечно, так и было! Хотя те слова оказались для всех странными и неожиданными.
Так же стало ясно, что меры, принятые начальником училища, вполне соразмерны проступку.
Но столь громкого разоблачения в училище мы еще не знали. Не потому, что не случалось воровства – во многих воинских коллективах, где бок о бок сутками напролёт трутся почти полтораста человек, изредка происходили кражи. Как говорится, песню без слов не оставишь! Но с негодяями, если они выявлялись, всегда расправлялись тихо, своими силами, не поднимая шума и не привлекая посторонних. А чтобы вот так, открыто, при всех, без намёков, и сразу в лоб, такого многие и представить себе не могли.
Но получилось именно так! Никакого сокрытия, несмотря на позорность события! И получилось, благодаря решению лишь одного человека – генерала Ромашкина. Его поступок, считали мы, достоин уважения! И его воспитательное воздействие оказалось очень сильным. Все поверили, что теперь не одни пострадавшие будут бороться с этим позором, но и руководство училища станет с ними действовать заодно.
Заодно и урок преподали, чтобы никому неповадно было.
С провинившегося курсанта при всех срезали погоны, после чего он был переведён в дивизион обеспечения учебного процесса на должность рядового.
Вот так и должны поступать командиры, но бывает… В общем, не стоит продолжать!
39
А Маршал Советского Союза Якубовский в Казань, между прочим, в тот раз так и не прилетел! Потому и мы его не дождались! Только на четвертом часу ожидания у взлётной полосы нам скомандовали: «Торжественную встречу отставить! Возвращайтесь в своё подразделение!»
Теперь я не помню, все ли мои товарищи выдержали то издевательское испытание, не заболев? Перенести-то его мы были обязаны, но и свои выводы сделали. А всем ли удалось избежать последствий для своего здоровья? Честно признаюсь – этого я не помню, ведь сразу навалились другие заботы. Но несостоявшуюся встречу маршала Якубовского я запомнил хорошо. Он бы лучше к врагам нашим так относился, а не к нам!
Через полгода его попытка встретиться с нами повторилась. Хорошо, хоть летом!
Во второй раз в связи с встречей больших начальников события развивались чуть иначе. У нас как раз заканчивалась летняя экзаменационная сессия, когда сообщили, что на базе нашего училища во время летнего отпуска, то есть, в августе, будут проведены сборы высшего командного состава Вооруженных Сил.
Казалось бы, нам следовало радоваться – нас-то здесь в августе не будет, то есть, вся встречная суета пройдёт мимо! Однако, уже наученные кое-каким военным опытом, многие из нас предостерегли товарищей от поспешного излияния чувств: «А не пожелаете ли вы ещё разок изобразить почётный караул?»
В чём-то они оказались правы. Наша радость оказалась преждевременной.
Уж не знаю, кому на территории нашего училища что-то не понравилось? Могу лишь предположить, что некий гонец из МО приехал сюда предварительно, перед визитом маршала, чтобы проверить учебно-материальную базу училища, но, как теперь можно вообразить, выразил недовольство начальнику училища генерал-майору Ромашкину земляными кюветами, водосточными канавами, тянувшимися вдоль одной из внутренних дорог.
Та дорога вела к важному для учебного процесса учебному корпусу №120. Теперь училищу следовало срочно задернить земляные кюветы вдоль всей дороги, то есть, засадить их газонной травкой. Не сомневаюсь, что гонец добавил от себя, будто «в противном случае маршалу Якубовскому ваша дорога может не понравиться». Понятно, что с упоминанием имени маршала указание гонца приобретало наибольшую убедительность. Возможно, при этом он говорил правду.
Так было или иначе, мне это не известно, но подготовка к задернению началась немедленно. Более того, столь «почётная» задача на наш курс и была возложена.
Простая на первый взгляд работа в реальности оказалась грандиозной по многим критериям.
Первые же расчёты поразили. Оказалось, что задернению подлежала площадь около тысячи квадратных метров. Как будто, и не много. Всего-то квадрат со стороной тридцать пять метров!
Измеренная же на местности площадка виделась огромной. Нам предстояло где-то раздобыть дерн именно в таком количестве, потом уложить его вдоль дороги, слева и справа, и обеспечить надёжное приживание травы. Из курсантов-ракетчиков мы на время превращались в юных мичуринцев. А ведь экзаменационную сессию никто не отменял!
Нас ждала титаническая работа! Понятное дело – начальникам всегда виднее, как ее выполнять! Вот только они забыли учесть очистку кюветов и тщательное нивелирование их поверхности. А эти работы оказались чуть ли не самыми трудоёмкими.
Чтобы рассеять появившиеся массовые сомнения в возможности столь срочного выполнения столь титанических работ, нам без обиняков объяснили, что трудности в ходе выполнения приказа могут возникать любые, это никого не интересует, но если задание не будет выполнено к первому августа, то далее всё продолжится за счет наших отпусков. Столько дней, сколько понадобится для завершения работ!
Стимул оказался действенным. Мы пахали самоотверженно! Но теперь мне вспомнились даже не сами работы, а лишь некоторые их фрагменты.
Сразу выяснилось, что труднее всего отыскать бесхозную площадку-донор с хорошей, но никому ненужной травой, откуда потом и предстояло черпать тот самый дёрн. Но у кого-то из особо ушлых ребят, уже не вспомню имя, вовремя возникла чудесная идея – подраздеть задернённые участки, тянувшиеся вдоль взлётной полосы аэродрома. Они имели девственную траву, поскольку были недоступны населению, входя в зону отчуждения. Эта трава на наше счастье совсем не интересовала руководство аэропорта. Нам легко отдали ее в полное распоряжение. «Только не приближайтесь к взлётной полосе, не выходите на неё и не пересекайте ни при каких условиях! Ясно вам? Тогда работайте!»
Скоро наш Пётр Пантелеевич получил официальное разрешение на срезание и вывоз части дёрна из зоны отчуждения аэропорта, и мы навалились на это дело!
Так уж при распределении обязанностей получилось, что я со своим взводом весь тот период занимался только укладкой дёрна. Конечно же, он укладывался после подготовки поверхности кюветов, которая также легла на нас. Другими делами я не только не занимался, но и не имел времени интересоваться ими. Я, как и все мои товарищи, зарылся носом в землю в самом прямом смысле слова! Работа оказалась не столь уж простой, если оценивать ее первые результаты, не понравившиеся командованию, и совсем не лёгкой.
Одновременно с нами кто-то подрезал дёрн в аэропорту. Кто-то грузил его большими и тяжелыми пластами на автомобили. Кто-то аккуратно разгружал в нужном месте, чтобы не порвать на куски. Кто-то с теодолитом следил, чтобы в струнку вытягивались края будущего газона.
Да! Ещё кое-что добавлю ко всему!
Скоро, уже ближе к завершению работ, жизнь заставила нас сформировать «особую бригаду большой мощности». Бригада отвечала за одуванчики. Как нас предупредили, своим неорганизованным цветением они вполне могли до слёз расстроить старого маршала-фронтовика. Пришлось в это поверить!
Главная забота бригады большой мощности вытекала из того, что милые одуванчики распускались совершенно неравномерно и беспорядочно. Они не по-военному покрывали яркими желтыми пятнами весьма большой прямоугольный луг напротив того самого учебного корпуса №120, мимо которого маршал не прошёл бы ни за что, поскольку в нём старшекурсники оттачивали своё профессиональное мастерство.