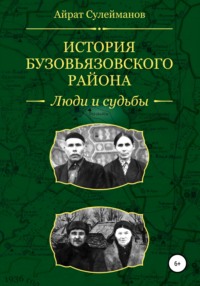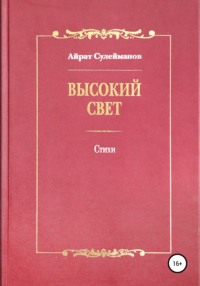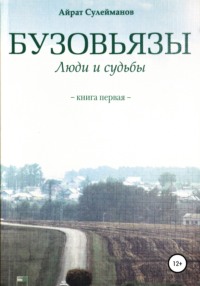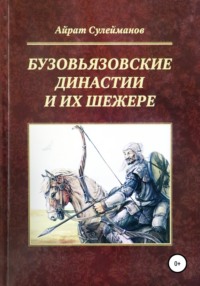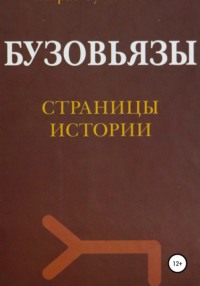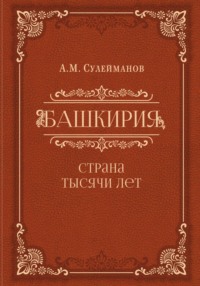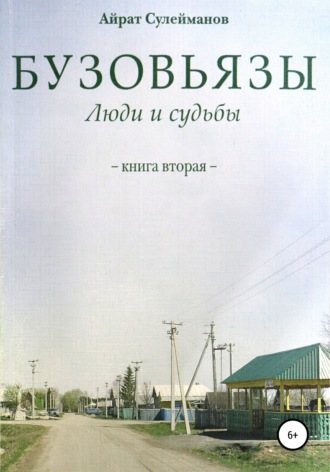 полная версия
полная версияБузовьязы. Люди и судьбы. Книга вторая
Не все шло гладко, как по мановению волшебной палочки. Но для Ивана Фомича выражение «Кадры решают все» всегда оставалось аксиомой. Работа с кадрами велась скрупулезно, целеустремленно. Требования ставились жесткие, но и проявлялась забота, терпимость к тем или иным упущениям, людям по заслугам воздавались почести. Словом, Иван Фомич, как дирижер, все делал для того, чтобы оркестр не фальшивил.
Помнится такой случай. Это было зимой. В пионерском лагере Иван Фомич собрал всех руководителей района с женами на отдых. За счет участников вечера был накрыт прекрасный стол. Перед собравшимися Волик представил жен руководителей, не забыв адресовать каждой из них слова благодарности и признательности. Вечер продолжался допоздна. Протяжные песни сменялись зажигательными танцами, кто-то «ввязывался в бой» за шахматным столиком, кто-то гонял футбол по рыхлому и глубокому снегу, кто-то мирно «травил» анекдоты. Возвращались люди домой, получив массу впечатлений, мощный заряд энергии.
Всегда на переднем плане у первого была забота о людях, о создании нормальных условий для производительного труда и хорошего отдыха. Это по его инициативе появились полевые станы, была налажена работа красных уголков при фермах, нормально шло выездное торговое, бытовое, медицинское и культурное обслуживание земледельцев и животноводов. Причем он настаивал, чтобы все это делалось не формально, а на высочайшем уровне. А кто пренебрегал этими требованиями, тот не избегал внушений.
…Шла подготовка к посевной. Иван Фомич, объехав хозяйства бузовьязовской зоны, попросил своего водителя:
– Давай, Асхат, заедем в столовую «Подлубовской сельхозтехники». Узнаем, как обслуживают здесь механизаторов.
«Гости» оказались очень кстати – шел обед. Но увиденное вывело из равновесия первого. Он вызвал заведующую столовой, руководителя предприятия и устроил настоящий нагоняй:
– Зачем вы издеваетесь над людьми? В меню – одна лапша. Неужели нельзя достать мясо, овощи, фрукты? А культура обслуживания вообще никуда не годится. Мыла нет, полотенца нет. Умывальник пуст. Настоящая антисанитария.
Те то краснели, то бледнели:
– Завтра же, Иван Фомич, наведем порядок. Виноваты.
Верно, слов они на ветер не бросили. Работа столовой в корне изменилась.
В районе мудрость аксакалов умело сочеталась с кипучей энергией и душевным порывом молодых. Этот сплав оборачивался замечательными делами. И здесь можно сослаться на очень наглядный пример. В колхозе им. Жданова освободилась должность председателя. Выбор пал на Рашита Жданова. И неспроста. Сын потомственного механизатора Исламутдина уже в школьные годы работал помощником комбайнера. Колхозный стипендиат. Окончил сельхозинститут. Отслужил в армии. Его организаторский талант проявился на посту главного инженера. Так что потянет, решили райкомовцы. Правда, кое-кто засомневался: дескать, слишком молод, нет еще и тридцати.
– Зато хватка у него, как у бывалого, – рассеял сомнения Иван Фомич.
И жизнь подтвердила, как прав был первый. Почти 35 лет Рашит уверенно ведет «корабль» в штурмующем рыночном море. Хозяйство – одно из крепких и стабильных не только в районе, но и в республике. Ярчайшее доказательство тому – награды и высокие звания. Рашит Жданов – кавалер многих государственных наград, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Это с благословения Ивана Фомича молодой агроном Хамза Ахметов окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Свердловске, избирался первым секретарем райкома комсомола, возглавлял Шаймуратовский сельсовет, в течение семи с половиной лет руководил районом.
Таких примеров много.
В решении экономических и социальных проблем Иван Фомич очень гибко налаживал контакты с руководителями разных министерств и ведомств и умело использовал их в интересах дела. Вот один из примеров.
На очередную оперативку пожаловал сам Брежнев. За прекрасно накрытым столом поднимались тосты, завязалась непринужденная беседа. А тут как бы невзначай вмешалась в разговор Лия Ахметжановна, жена Ивана Фомича:
– Спасибо вам, дорогие гости, за огромную поддержку. Какие великолепные помещения вы построили! Чего стоят только здания райкома партии, Дворца культуры! А вот меня как врача коробит то, что у нас нет настоящей поликлиники.
Несколько разгоряченный, Брежнев сразу поддержал идею:
– Товарищ Вильданов, вы как управляющий трестом возьмитесь за работу.
– Как я возьмусь, если нет даже проекта?
– Проект будет. Расчет держите на 600 посещений в день.
– Мы в деревнях поликлиники с такой посещаемостью не строим – Министерство здравоохранения не разрешит.
– А вы постройте – население будет на руках вас носить.
За словами последовали конкретные дела. В короткий срок выросло трехэтажное здание поликлиники. Здесь особое усердие проявил главный врач района Гафур Ишмухаметов.
* * *
За прошедшие годы выросли настоящие мастера полей и ферм, толковые организаторы, предприимчивые специалисты. Приумножили традиции свекловодки Банат Батыровой Раиль Камалов и Фарит Садыков из колхоза им. Фрунзе. Они удостоились звания Героев Социалистического Труда. Кавалерами ордена Ленина стали их коллеги Фарит Акбашев из «Правды», Асхат Сафин из «Буляка». Звание лауреата премии Совета Министров СССР заслужил главный агроном колхоза «Победа» Базиль Галяутдинов. Председатель колхоза «Буляк» Минсаяф Сагитов был избран депутатом Верховного Совета СССР. А доярка колхоза «Правда» Валентина Михайлова избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР.
Всю жизнь посвятили процветанию района агрономы Флюр Билалов, Вадут Асадуллин, Фагима Латыпова, бригадиры Мидхат Канбеков, заведующие фермами Зуфар Бикметов, Рафаэль Хурамшин.
Маститыми руководителями зарекомендовали себя Рифгат Алимгафаров, Хашим Ситдиков, Усман Назыров, Фатхлислам Бикметов, Газим Кудакаев, Валентин Фокеев, Фарит Сахибгареев, Фаниль Вагапов, Флюр Гайнуллин, Ядкар Биккузин, Риф и Радик Халиковы, Флюр Турьянов, Хатмулла Биккулов, Риф Фатихов, Мударис Хабибуллин, Гафур Ардаширов, Малика Жданова.
Заметный след в истории района оставили такие личности, как Еремин, Мосталюк, Изгородин, Альбеков. Первый основал ЛПУ, второй – мощную дорожную службу, третий построил железную дорогу «Белорецк – Чишмы», четвертый создал знаменитую ПМК-539. Большую лепту в экономическое и социальное развитие района, в воспитание масс внесли члены бюро райкома партии разных лет Ильдус Ижбульдин, Явдат Кильдибеков, Марина Алдакаева, Иван Шеин, Павел Табаков, Рафиль Халиков, Мухтар Абакачев.
Славные страницы вписали в летопись района секретари парткомов Махмут Сулейманов, Иван Токарев, Роберт Уразбахтин, Равиль Абакачев, Файзрахман Якупов, Ясави Хамитов, Гаяз Салихов, Мадьяр Мирхайдаров, Ильяс Садыков.
Именно на партийной и советской работе получили настоящую школу будущие руководители разных служб – секретарь совета муниципального района Андрей Буйлов, управляющий делами администрации района Фаргат Кутлубаев, председатель совета райпо Равис Хазиев, заместитель начальника управления сельского хозяйства Абузар Гирфатов, заместитель начальника межрайонной налоговой службы Флюра Сагадеева…
Можно было бы перечислить сотню имен, которые оставили о себе добрую память в сердцах людей. И среди них бузовьязовцы всегда будут помнить замечательного партийного и хозяйственного деятеля – Ивана Фомича Волика…
«От аула до Кремля»
Проснувшись рано утром, я стал готовиться к встрече с человеком, который в моем воображении был настоящей легендой. Меня все еще волновал вчерашний телефонный разговор, во время которого мы договорились о встрече. Человек этот чрезвычайно интересовал меня, потому что некоторое время работал с моим дедом Сулейманом. И у нас в семье частенько шли разговоры о том, как этот человек-легенда, став первым секретарем Башкирского обкома партии, приезжал в Бузовьязы.
Мы договорились встретиться в полдень в сквере по улице Пушкина, который в прежние годы назывался парком Луначарского. Ближе к назначенному времени я пересек улицу, прошел вдоль берега тихого озера и присел на скамейку.
Стоял жаркий летний день. На вековых деревьях еле слышно трепетали листья. Такое безветрие и такая томительная духота случаются перед грозой. И действительно, где-то в бельской дали над горизонтом клубились облака, сгустились тучи.
В четыре часа дня в театре оперы и балета должно было состояться торжественное собрание, на которое прибыл из Москвы этот далеко уже не молодой человек. Я сидел на скамейке и представлял его не по тем портретам, какие видел в газетах и книгах, а седым старичком с тросточкой в руке.
Мое ожидание затягивалось. Мимо по тропинке проходили люди, на озере молодая парочка каталась на лодке. За цветочными клумбами вдалеке стайка ребят играла в классики.
Прошло более часа, скоро уже надо было идти на собрание. Его все еще не было, и я стал волноваться – не случилось ли чего? Подождал немного и тихо зашагал к оперному театру.
Председатель Курутлтая РБ К. Б. Толкачев открыл торжественное собрание, а затем предоставил слово Президенту РБ М. Г. Рахимову. Закончив доклад, он неожиданно обратился к залу и оповестил присутствующих о том, что в Президиуме находится человек, долгие годы занимавший высокий пост секретаря Башкирского обкома партии, – 3. Н. Нуриев. Зал взорвался аплодисментами.
«Что же могло случиться? Что произошло? – думалось мне. – Почему Зия Нуриевич не пришел на встречу? Человек такого ранга не может нарушить данное им слово!» И я, забыв о скромности, прошел за кулисы.
В гостевой комнатке он был окружен людьми, среди которых были руководители, министры республики. Длительный разговор с ним был невозможен. Я протиснулся поближе. Его пронзительные глаза остановились на мне, он улыбнулся и спросил: «Это не вы ли будете внуком Сулеймана?». От неожиданности я оторопел: каким образом он сумел узнать меня всего лишь после одного телефонного разговора? По-видимому, огромный опыт работы, чуть ли не ежедневные встречи с сотнями людей, сама жизнь обострили его природный ум.
«Твоего дедушку, Сулеймана Сулейманова, я неплохо знал, – сказал он. – По работе приходилось сталкиваться. Да и домой к нему захаживал. А вот отца твоего что-то припомнить не могу». «Отец-то мой тогда еще мальчишкой был», – пояснил я. Мне было неописуемо приятно услышать из уст этого глубокоуважаемого человека теплые слова о моем деде.
Дома я разыскал книгу Зии Нуриева «От аула до Кремля», нашел страницы, где он пишет о тех днях, когда работал в нашем районе. Думаю, не будет лишним привести здесь строки из этой книги.
* * *
… В октябре 1940 года вернулся я на родину, в деревню Верхний Лачинтау, где эти два года, пока я служил в Красной Армии, жена моя Айсылу работала заведующей врачебно-акушерским пунктом. Погостив несколько дней у родных, мы с женой поехали в Уфу. Пришел в наркомпрос, обошел своих близких знакомых. Все они тепло меня встретили, расспрашивали о Дальнем Востоке, о службе. Зашел к начальнику отдела кадров Давыдкину. Он обнял меня, мы с ним крепко поцеловались. Он пошутил:
– Где же ты так долго болтался, я уже стал думать, не свернул ли ты куда-нибудь в сторону от Башкирии!
Расспросив, где, как в Уфе устроился, сказал:
– Давай завтра к 10 часам утра приходи ко мне, пойдем к наркому Хасанову. Это не тот Хасанов, который работал в обкоме, другой, однофамилец того Хасанова.
Как условились, на следующий день я пришел к Давыдкину, и мы с ним сразу пошли к наркому. Хасанов меня знал по прежней работе в Бураевском районе. При мне он позвонил в Бузовьязовский район. Сперва разговаривал с первым секретарем райкома партии Гумеровым, а затем – с председателем райисполкома Абдеевым. Рассказал им мою биографию. В заключение сказал:
– Испытанный работник, кадровый наркомпросовец, до армии работал заведующим Бураевским районо.
Получив согласие бузовьязовских руководителей, он сказал Давыдкину:
– Подготовьте приказ о назначении и завтра же выезжайте с товарищем Нуриевым в район, представьте его в райкоме партии и райисполкоме.
На следующий день мы с Давыдкиным приехали в Бузовьязы, это в сорока километрах от Уфы. Сперва он представил меня первому секретарю райкома партии Гумерову, а затем председателю райисполкома Абдееву. Встреча с обоими руководителями района прошла нормально. Вижу, мои биографические данные пришлись им по душе, и сам я как человек с армейской выправкой, в шинели, в военной фуражке, понравился. Абдеев к вечеру назначил заседание исполкома, на котором меня утвердили заведующим Бузовьязовским районо и членом исполкома райсовета. Давыдкин в тот же вечер уехал в Уфу, я остался в Бузовьязах. Абдеев мне сказал:
– Денька два посвятите знакомству с делами районо, определитесь с квартирой, затем надо будет привезти семью. С трудоустройством супруги вопроса нет, будет работать по своей специальности в районной больнице.
Познакомившись с работниками районо, определившись с квартирой, на машине райисполкома через Уфу мы с женой выехали в Верхний Лачинтау. За нами в деревню райисполком прислал грузовую машину. Погрузив все, что было у нас, а было вещей очень мало, мы вернулись в Бузовьязы.
Так вот я вновь стал заведующим районо. Школьная жизнь, работа школьных коллективов были мне знакомы. По сравнению с Бураевским, этот район был компактным, небольшим по количеству школ. За два месяца я успел побывать почти во всех школах, на месте познакомиться со многими учителями, поприсутствовать на их уроках. Многие школьные здания были приспособленными. Учителя, особенно молодые, жили на так называемых хлебах у колхозников.
Итоги инспекторской поездки по школам я доложил первому секретарю райкома партии и председателю райисполкома. Они мне предложили подготовить мероприятия по оказанию неотложной материальной помощи особо нуждающимся школам и улучшению жилищных условий учителей. Разработанные районе мероприятия рассмотрела сессия райсовета. По докладу, с которым выступил я, было принято постановление. На сессию были приглашены все председатели сельских советов, председатели колхозов, руководители районных организаций. Мероприятия были рассчитаны на пять лет.
Для реализации принятого на сессии плана мероприятий, кроме бюджетных средств, были привлечены средства колхозов, районных организаций и МТС. К весне 1941 года уже построили около пятидесяти учительских квартир, начали строительство 10 начальных школ и двух пристроек – в Подлубовской средней и Андреевской семилетней школах. Все школы и учительские квартиры минувшей зимой полностью были обеспечены топливом.
Моя активная работа в районе не осталась незамеченной. В конце 1940 года на очередном пленуме райкома партии я был кооптирован в бюро райкома. В те годы кооптирование допускалось. Первый секретарь райкома в прошлом, до партийной работы, был учителем, нужды народного образования знал хорошо. Мои предложения, направленные на улучшение быта учителей, материального положения школ района, всегда активно поддерживал.
В районе никаких промышленных предприятий не было, его благополучие всецело зависело от работы МТС и колхозов. Деятельность райкома партии и райисполкома была сосредоточена на контроле за этой работой. Контроль осуществлялся через уполномоченных. Члены бюро райкома партии были шефами отдельных наиболее крупных колхозов. За мной закрепили колхоз имени К. Е. Ворошилова, расположенный в украинском селе Александровке, в 5-6 километрах от райцентра.
Председателем этого колхоза работал Иван Платонович Гончарук, участник гражданской войны. В колхозе он поддерживал твердый порядок. Колхозники его уважали и побаивались. С членами правления и бригадирами он был очень строг. В колхозе я бывал часто, но не для того, чтобы подменять председателя, а для того, чтобы помочь в организации производства, во внедрении передовых методов возделывания зерновых, масличных и других технических культур.
Колхоз, несмотря на то, что входил в зону Карламанского сахарного завода, возделыванием сахарной свеклы не занимался. Подсчитав экономическую выгоду от возделывания этой культуры, я убедил Гончарука в необходимости заняться ею, помог колхозу достать семена, минеральные удобрения. Весной 1941 года посеяли сахарную свеклу на площади в 60 гектаров. Учить колхозников возделывать ее, по существу, не надо было. Их предки были переселенцами из Полтавской губернии Украины. Свеклу растили в деревне на приусадебных участках на корм скоту, а некоторые мужики из нее гнали самогон.
Колхоз возделывал подсолнечник только на силос. Между тем, колхозники у себя на приусадебных участках получали семена. Реализация семечек приносила солидные деньги. Убедившись в экономической выгоде возделывания подсолнечника на семена, Гончарук решил весной 1941 года отвести под это дело более ста гектаров.
Так вот руководителям районных организаций, членам бюро райкома партии, кроме основной своей работы, приходилось заниматься делами колхозов. Конечно, в теперешние колхозы и совхозы никто уже уполномоченных не посылает. Но когда-то они были нужны. Оценивать прошлое, исходя из современных условий, материально-технических возможностей, нельзя. К нему, прошлому, к труду и методам работы предшественников надо относиться с уважением. Некоторые остряки – председатели колхозов, выступая на собраниях районного актива, пленумах райкомов партии, сессиях райсоветов, говорили:
– Не надо нам уполномоченных. Пусть вместо них МТС посылает ЧТЗ, если не хватает ЧТЗ, хотя бы пару ХТЗ.
Но посылать в хозяйства столько, сколько нужно было техники, тогда еще не могли. Нехватку техники приходилось восполнять организаторской работой.
И. П. Гончарук и многие ему подобные руководители колхозов, хотя и не имели специального образования, были крепкими хозяйственниками, умели считать копейки. На колхозных отчетновыборных собраниях, в которых мне приходилось участвовать, я с большим уважением слушал доклады председателей колхозов, председателей ревизионных комиссий, которые без «воды», дельно подводили итоги года, раскрывали недостатки, промахи в работе. Критика на собраниях была конкретная, именная. Четко определялись задачи на предстоящий год.
Особенно бурно обсуждался вопрос о вкладе бригад в общий колхозный «котел». Исходя из этого вклада, по каждой бригаде определялись размеры натуральной и денежной оплаты труда колхозников, то есть в оплате труда уравниловки не было. До внедрения денежной оплаты взамен натуральной в колхозах существовал настоящий хозрасчет. За вычетом поставок продуктов государству и оплаты денежных налогов все шло на оплату трудодней. Весомость трудодня зависела от объема выращенного урожая, продуктивности животноводства и от поступления в кассу колхоза денег после реализации произведенных продуктов сельского хозяйства.
Весна 1941 года для сева в районе сложилась очень благоприятной. В начале мая прошли обильные дожди, зябь под весенний сев была поднята еще в сентябре, в здешних условиях она считалась полупаром. Мой подшефный колхоз закончил сев одним из первых. Намеченные площади посевов, в том числе сахарной свеклы и подсолнечника, были не только выполнены, но и перекрыты. Вскоре Гончарук позвонил мне, попросил приехать для оценки качества посевных работ. Вместе с главным агрономом райземотдела Галиевым мы приехали в колхоз. В сопровождении Гончарука, колхозного полевода и председателя ревизионной комиссии поехали по полям. За световой день успели объездить поля всех трех бригад колхоза. Состояние посевов во всех бригадах признали хорошим. Всходы были ровные, нормальные по количеству растений на квадратном метре.
Подводя итоги проверки, вечером на заседании правления лучшим признали качество посевов первой бригады, ей была присуждена первая премия. Отметили премиями и работу двух других бригад. Хорошую оценку качеству весеннего сева дали и приглашенные на заседание правления колхозные старики. Они, видавшие виды хлеборобы, в деревне пользовались большим авторитетом. К их голосу прислушивался и сам Гончарук. Участники заседания разошлись в оптимистичном настроении с надеждой на получение богатого урожая в этом году.
Хороший урожай в 1941 году был выращен не только в колхозе имени К. Е. Ворошилова, но и во многих других хозяйствах района. Однако собрать этот урожай без потерь не смогли. Помешала война, навязанная советскому народу фашистской Германией.
22 июня 1941 года был воскресный день. Утром я с прокурором Мухаметкуловым и заведующим орготделом райкома партии Вильдановым поехал в Адзитарский лес, что в 10 километрах от районного центра, открывать пионерский лагерь. Мухаметкулов и Вильданов присоединились ко мне потому, что их дети были в этом лагере.
Я только-только официально открыл лагерь, это было около 12 часов дня, как прискакал на лошади гонец с пакетом. Я вскрыл пакет. В нем была записка первого секретаря райкома партии Гумерова, в которой мне предлагалось немедленно прибыть в райком. В записке, кроме этого, ничего не было. И гонец не знал причины вызова. Мы все трое быстренько запрягли лошадей и поехали в райцентр. Не заходя домой, я направился в райком. К этому времени все члены бюро райкома партии и члены исполкома райсовета были собраны. Зашли в зал заседаний. Там уже сидели Гумеров и Абдеев. Оба они были взволнованы, по выражению их лиц нетрудно было предположить, что нас пригласили по какому-то чрезвычайному поводу.
Накануне выходного дня наш радиоузел был остановлен на ремонт. Жители района, кроме тех, которые имели свои приемники, в этот день уфимское радио не могли слушать. Вот почему до начала совещания мы о начавшейся войне ничего не знали.
Секретарь райкома Гумеров зачитал телеграмму, полученную из Уфы за подписью первого секретаря Башкирского обкома партии И. С. Аношина. В ней сообщалось о нападении фашистской Германии на нашу страну. После оглашения текста телеграммы нам всем было предложено оставаться у себя в учреждениях, без доклада райкому партии никуда не отлучаться, заняться рассмотрением своих мобилизационных планов, внести в них при необходимости соответствующие коррективы.
На второй день войны наш радиоузел уже заработал, транслировал Уфу, население района было проинформировано о боевых действиях на западной границе страны.
В соответствии с полученным из Уфы заданием, в районе началась мобилизация запасников для отправки на фронт. В соответствии с мобилизационными планами, было получено задание по подготовке для отправки на фронт грузовых автомобилей, гусеничных тракторов марки ЧТЗ и рабочих лошадей. Так со второго дня войны район начал жить интересами фронта.
Спустя несколько дней я обратился с письмом в райком партии и райисполком – просил отправить меня на фронт. Обратился с письмом потому, что я имел бронь, без разрешения райкома партии и райисполкома уйти на фронт не мог. На одном из заседаний бюро райкома Гумеров огласил мою просьбу и, обращаясь ко мне, сказал:
– Товарищ Нуриев, война только началась. Мы не знаем еще, сколько она будет продолжаться. Фронт без хорошо работающего тыла победить врага не сможет. Ваши патриотические чувства мы высоко оцениваем. Но патриотизм мы обязаны проявлять и в тылу. Думаю, что члены бюро вашу просьбу не поддержат.
Члены бюро райкома единогласно поддержали первого секретаря. Затем рассмотрели просьбу райвоенкома Гапоненко о прикреплении к нему для оказания помощи в проведении мобилизационных работ одного из членов бюро райкома. Очевидно, по договоренности с Гумеровым, председатель райсовета Абдеев предложил мою кандидатуру.
На мне остановились, наверное, потому, что среди членов бюро райкома я был самым молодым, с армейской выправкой работником – все еще ходил в своей армейской шинели. И с начала войны до января 1942 года без освобождения от основной работы я исполнял роль помощника райвоенкома, непосредственно участвовал в делах райвоенкомата. Самое тяжелое, что осталось в памяти от тех дней, – это плач матерей, жен и детей, провожавших на фронт своих сыновей, мужей, отцов. Уходящие, однако, были тверды, слез не лили, сжав зубы, успокаивали своих близких:
– Не плачьте, ждите нас, уберите хлеб, не запускайте колхозное хозяйство. Мы вернемся, обязательно вернемся с победой.
Наступила глубокая осень. Уже в середине октября выпал снег, да такой, что обычно выпадал лишь в декабре. В связи с проводами мужчин на фронт уборка в районе затянулась. В октябре не была еще убрана значительная часть зерновых. На уборку подняли все взрослое население. На месяц были закрыты все районные учреждения, кроме школ, больниц и почты. Рабочие и служащие райцентра наряду с колхозниками участвовали в уборке урожая. Хоть и с большими потерями, все-таки хлеб был убран. С семенных участков зерновые были убраны и обмолочены еще до снегопада. Семена к весеннему севу во всех хозяйствах заготовили. В уборке урожая я участвовал в своем подшефном колхозе. Вместе с Гончаруком, стоя в снегу по колено, косил косой пшеницу…