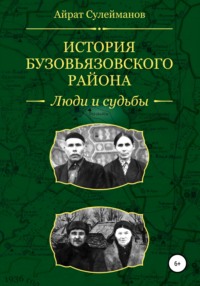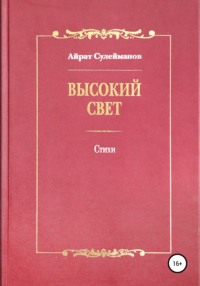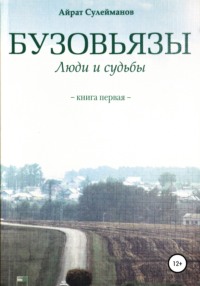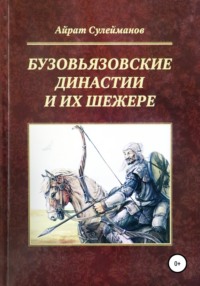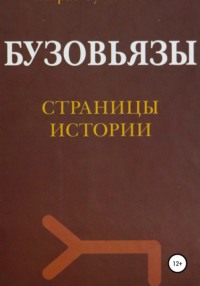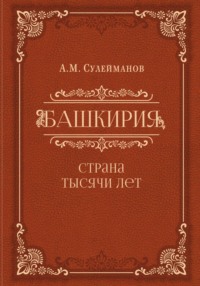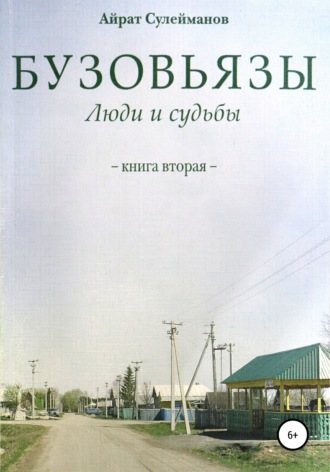 полная версия
полная версияБузовьязы. Люди и судьбы. Книга вторая
Ставился спектакль по пьесе местного автора Мавсили Мустаевой. И мне посчастливилось тем вечером стать зрителем этого необычного представления. Я сидел в первых рядах и видел на сцене знакомые мне лица. Вот дочка наших соседей в цветастом полушалке, вот школьный учитель, с которым мы знакомы с детства, вот медсестра из больницы, школьники…
Странное дело, по прошествии буквально нескольких сцен знакомые лица стали как-то тускнеть перед моим взором, в воображении рисовались другие образы со своими характерами, судьбами, предписанными им автором пьесы. Тут же вспомнился театральный термин «талант перевоплощения». Вот какой-то паренек с нашей улицы вдруг с поразительной неожиданностью предстает перед зрителем вернувшимся с войны раненым фронтовиком. И все «знакомые мне лица», превратившись в некий сгусток драматической энергии, начинают волновать сердца зрителей.
Я всегда удивлялся талантам. Сцена требует от выступающего, кроме таланта, всех его сил. Каким образом рождаются стихи? Откуда берется нежнейший голос певца? Почему живописец видит мир вокруг себя и передает его на холсте в красках? Как и почему почти автоматически бегают по клавишам рояля уверенные пальцы музыканта?
Еще в детстве мама прочитала мне несколько стихотворений и таинственно сказала, что их сочинила ее подруга, наша односельчанка Мавсиля. Я в буквальном смысле слова растерялся. «А что, она Пушкин или Хади Такташ?» – спросил маму. Тогда в моем сознании творцами стихов представали люди, подобные Пушкину и Лермонтову, Тукаю и Такташу. А оказалось, что деревенская женщина, односельчанка пишет стихи, и неплохие! Не тогда ли шевельнулась во мне мысль: а не попробовать ли самому сесть за сочинение стихов? Одна красивая строфа так глубоко врезалась в память, что со временем я перевел ее на русский язык.
О чем заречные березки
Печалятся из века в век
И золотистые сережки
Роняют на апрельский снег?
Не оттого ль, что ошалело
Морозы вас студили вновь,
А может быть, сердца задела
Неразделенная любовь?
И действительно, как-то, утаившись от всех, я написал несколько первых своих рифмованных строчек. Только намного позднее понял, что для создания настоящих стихов одних рифм недостаточно – нужны духовный взлет и знание всех достижений поэзии прошлого. Арсенал ее средств на сегодня огромен. Потому-то у выдающихся поэтов есть сугубо свой стиль, свой слог, свой язык.
Творческая зрелость Мавсили сформировалась, по счастью, в так называемую «хрущевскую оттепель». После многих лет господства газетных лозунгов в советскую поэзию бурным потоком влился звонкий стихотворный ручей таких молодых поэтов, как Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Рубцов, наш земляк, зилаирский парень Валентин Сорокин. В это же время у нас в Башкирии выпустил свою первую книгу «Зарницы» А. Филиппов, ныне народный поэт Башкортостана.
В смысле раскрепощенности слога, некоторой идеологической свободы Мавсиле Калимулловне повезло. Конечно, заедал повседневный быт, тяжелая работа по хозяйству; к тому же, на руках четверо детишек. Казалось бы, здесь не до стихов. Тем не менее, она выкраивала каждую минуту свободного времени, чтобы посвятить себя стихам. Стихи были и остаются ее отдохновением…
Неиссякаем родник народного творчества. Сегодняшнее время особенно благоприятно для самодеятельных талантов. Уже прочно входит в традицию проведение всевозможных народных праздников, конкурсов, не говоря уже о ежегодных сабантуях, где представляют свое мастерство певцы, танцоры, кураисты. Во всех районах и городах есть самодеятельные творческие коллективы, которые по уровню исполнительского мастерства мало чем уступают профессиональным. И настоящие таланты находят дорогу к сценическим подмосткам республиканских театров.
Наш народ никогда не был обделен людьми, талантливыми в искусствах. Бузовьязы – песенный край. С кем сегодня ни заговоришь о нашей культуре, каждый припомнит и певцов, и танцоров из далекого прошлого. В детстве и мне казалось, что лучше нашего Дома культуры нет нигде в округе. Даже в труднейшие военные годы в Клубе, как называли тогда районный Дом культуры, не утихала своя жизнь. По субботам проводились танцы, по праздничным дням ставились концерты и даже театрализованные представления, и частенько заглядывали сюда уфимские артисты.
Где-то на западе грохотала война, а здесь, в глубоком тылу, шла своя трудовая жизнь. Однако же и в эти тяжкие будни вливалась задорная искра празднеств. Многие бузовьязовцы старшего поколения и по сей день добрым словом вспоминают артиста Талюта Глюмова. В военные годы он работал директором Дома культуры. Когда он пел татарскую народную песню «Райхан», слушатели в зале не могли сдержать слез. Был он и прекрасным танцором. Выходил на сцену, начинал выбивать дроби так, что казалось – искры брызжут из-под его сапог. Позднее он работал в Башкирском государственном драматическом театре им. Салавата артистом и режиссером. В те же годы блистал своим талантом Мидхат Даутов. Вот они-то и дали путевку в творческую жизнь многим подросткам тех лет. Позднее многие из них с глубоким уважением говорили, что именно они побудили их к творчеству. В первую очередь к ним можно отнести Фаниля Асянова и певца Назира Абдиева.
Мавсилю Мустаеву бузовьязовцам представлять не надо – ее талант писать и рисовать знают и любят все. Обаятельная, общительная, одним своим появлением в обществе она вызывает у людей чувство причастности к прекрасному, задевает в душах самые добрые струны. Она, вспоминая далекие военные годы, тоже говорит, что поэтическую искорку в ее сердце зажгли именно бузовьязовские таланты.
Вдохновенная песнь, поэтическая строка и вся психология творчества – явление пока еще малоизученное. Почему, как, зачем неожиданно возникает в юношеских душах неодолимая тяга к самовыражению? В школьные годы, обуреваемые вдохновением, многие начинают писать. Но мало кто ведает, что у поэзии есть свои законы. Пишущий человек познает их в основном на собственном опыте. Теоретическая литература по стихосложению, конечно, помогает в начальный период творчества. Всевозможные амфибрахии, анапесты, дактили, ямбы, хореи со временем улетучиваются из памяти, и поэт творит, не вспоминая ни о ритме стиха, ни о рифмах. Вдохновение движет его пером.
Я сам много раз испытывал на себе это состояние. Удивлялся, когда в процессе работы как бы сами по себе, словно с неба, ложились на лист бумаги интересные образы, эпитеты, метафоры, усложненные рифмы. И местная поэтесса, думается, испытывала в душе те же чувства, какие посещали сердца многих творцов. Была бы у нее возможность учиться, окончить институт – глядишь, стала бы блистательной поэтессой, талантливым драматургом, удачливым режиссером. Что ж, судьба не к каждому поворачивается доброй стороной.
Жить Мавсиле Мустаевой пришлось трудно. Вспоминая сейчас родную деревню Ямбай, она говорит, что там в каждой семье было по десять, а то и больше детей. Слава Богу, смогла окончить десятилетнюю школу на «отлично». Учителя называли ее «звездочкой». Она очень хорошо знала и любила математику, до сих пор с глубоким уважением вспоминает школьных учителей по этому предмету: с 5 по 6 класс преподавал Ишмаков, с 6 по 7 класс – Валитов, в 9-м классе – Булатов и Исамбердин, а в 10-м – Даутов. Кроме школьных учителей, многому научила ее бабушка – Гарифа-аби. Она хорошо владела грамотой, знала наизусть чуть ли не весь Коран. Все в доме замолкали, когда она начинала нараспев произносить какую-либо суру.
– Я тоже с открытым ртом, с распахнутым сердцем ловила каждое слово из красивых, ручейково льющихся фраз молитвы, – вспоминает сегодня Мавсиля-апа. – Уже в те годы во мне возникали поэтические образы. Я садилась за тетрадь и начинала то стихи сочинять, то рисовать чернилами пейзажи, портреты, что-то типа графики – красок-то в те годы было не достать. Это уже позднее стала я рисовать на картоне, на фанере и даже на полотне.
Мавсиля Мустаева улыбается мне и спрашивает, не хотел бы я взглянуть на ее живописные работы. Я охотно соглашаюсь. Она ведет меня в дом, где перед моим взором открывается целый мир красок и вдохновения. Оказывается, она еще и замечательная художница! Простые, доходчивые пейзажи, сюжетные картины, портреты знакомых и родных радовали взор и волновали душу.
– Такие хорошие работы вполне возможно было бы выставлять на продажу в художественных салонах, – говорю я.
– Да нет, – отвечает она с задорным блеском в глазах. – Я их своим детям дарю, односельчанам, несколько картин подарила родной школе.
С нежной теплотой Мавсиля Калимулловна стала рассказывать мне о неурядицах и перипетиях, о редких радостях прежних лет. Вспоминала, как после окончания школы вместе с моей мамой поехала в Уфу поступать в статистический техникум.
Обе неплохо сдали экзамены по истории и по математике, а по русскому языку получили по тройке. Эти злосчастные тройки не дали им возможности поменять деревенскую судьбу на городскую.
Мавсиля Калимулловна задумалась.
–А может, это было и к лучшему, потому что жизнь у нас, я бы сказала, сложилась удачно. Ведь человек мужает с победами и разочарованиями. Тогда нас в статтехникум приняли, но с тройками стипендия не выдавалась. У родителей-колхозников денег не было. Постоянно возить из дома продукты – тоже нереально. И пришлось нам забрать документы и несолоно хлебавши возвратиться домой. Позже, когда в стране улучшилась жизнь, мы с Магданией все-таки сумели окончить педагогический институт.
В конце 50-х годов советское общество стало ощущать некий тормоз в развитии государственной экономики и политической мысли. После развенчания культа личности Сталина на XXII съезде партии начался период «оттепели». Из лагерей и тюрем выпускаются многие репрессированные представители творческой интеллигенции. Руководство государства и партии ищет пути демократизации общества. Создаются новые журналы и газеты, в печати впервые за многие десятилетия появляются спорные статьи по многим проблемам и вопросам развития общества.
К сожалению, именно это время было отмечено тем, что верхушка партийного руководства все дальше отходила от нужд народа. Стала падать экономика, огромные средства оттягивал на себя военно-промышленный комплекс.
– Во времена «оттепели», – продолжает вспоминать Мавсиля Калимулловна, – в городах и даже в деревнях все прилавки магазинов были завалены продуктами. Банки с красной и черной икрой, с крабами, как египетские пирамиды, высились на витринах и полках. Однажды мы с твоей мамой купили на обед по баночке икры и крабов. Открыли икру, попробовали, и нам показалась, что едим голую соль. Крабов попробовали – их вообще есть невозможно. Мы, деревенщина, не знали тогда, что икру надо кушать со сливочным маслом да с белой булкой, как бутерброд. А крабов – использовать в салате. Нынче же ни настоящей икры, ни настоящих крабов простому человеку и во сне не увидать.
Надо признаться, Магдания Гатаулловна была первым моим читателем и критиком. Бывало, только напишу новые стихи – ночь ли, полночь – бегу к ней. Если в окне горит огонек, я, вся разгоряченная, взволнованная, залетаю к ней в комнатку и упоенно читаю только что состряпанные вирши. Подружка внимательно слушает меня и удивляется: откуда, дескать, у простой деревенской девчушки появился дар рифмованной речи?
Моим удачливым строчкам Магдания неподдельно радовалась, но зачастую перебивала, указывая на какую-либо неточность. Самой ведь поначалу не видятся те или иные огрехи, а со стороны они виднее. Первую свою пьесу я тоже прочитала ей первой. И после этого, мне показалось, подруга Магдания окончательно уверовала в мои литературные способности. Это она, спасибо ей, посоветовала мне обратиться со стихами в журналы и газеты города Уфы, а пьесу показать какому-либо драматургу.
Действительно, однажды я решилась – приехала в Уфу, разыскала известного драматурга Наиля Гаитбаева. Наиль Асхатович прямо при мне прочитал пьесу и очень одобрительно отозвался о ней. «Как вы пишете, как у вас рождаются такие жизненные сценические персонажи?» – спросил меня драматург. «Все они вокруг меня живут, это же люди нашего села, – ответила я. – А литературные образы, языковые находки, красочность фраз чуть ли не с детских лет пчелиным роем крутятся в моей голове». «Значит, у вас несомненный талант», – подбодрил меня известный драматург…
…Районный Дом культуры в тот вечер, когда шел спектакль «Грозные годы», был набит битком. Сценическое действие все больше притягивало внимание зрителей. Многие украдкой смахивали навернувшиеся слезы.
Спектакль явно удался. А когда опустился занавес, в зале на несколько минут воцарилась тишина…
Теплый узор ее судьбы
Одно дело, когда рассказывают и пишут о человеке на основе архивных документов, чьих-то отрывочных воспоминаний, дополняя их своими рассуждениями и обобщениями. Другое дело, когда человек сам скромно, но достоверно и точно вспоминает свою жизнь и эпоху. Именно такая автобиография, написанная ровным красивым почерком на 20 стандартных страницах нашей известной многим своими славными делами землячкой Маликой Шайбековной Ждановой и дополненная документами из ее семейного архива, стала основой этого небольшого повествования.
Невольно вспомнились строчки песни из старого фильма «Женщины»: «…вышло так, что все шелками вышито судьбы моей простое полотно». Именно так получилось в жизни обычной деревенской девочки Малики, родившейся 4 апреля 1916 года в семье крестьянина-бедняка…
* * *
Мама умерла через 9 месяцев после моего рождения. А вскоре отца, ранее имевшего льготы, отправили на полыхавшую тогда империалистическую войну. Меня на время взяла к себе старшая сестра папы. А вскоре я была увезена в Уфу к ее знакомым. Этой бездетной немолодой чете хотелось понянчиться с ребенком.
Когда я уже могла выполнять кое-какую домашнюю работу, меня взяли назад, к отцу. Здесь я встретилась с новой мамой. Мачеха приняла меня неласково. Работу давала часто не по детским силенкам, оскорбляла, а то и давала волю рукам. Старший брат умер в 9 лет, и нас, родных, осталось трое. Еще семеро родились от новой мамы.
Мы, дети, росли дружно, всегда помогали друг другу. С малых лет я привыкла к самостоятельности. Рано начала работать у богатых соседей: носила воду, ухаживала за огородом, зарабатывая на одежду и обувь. Позднее, уже подростком, стала вместе со сверстниками участвовать в прополке колхозных посевов, посадке овощей и уходе за ними. Тогда химической обработки не было, все делалось вручную, и наши руки были очень нужны.
Программу начальной школы из-за постоянной занятости домашними хлопотами и поденщиной у зажиточных соседей я осилила самостоятельно. Только 10 дней удалось походить в школу перед сдачей выпускных экзаменов. Их я выдержала успешно и получила свидетельство об окончании Бузовьязовской начальной школы. Записалась в пионерскую организацию, с удовольствием участвовала во всех отрядных мероприятиях. В феврале 1930 года вступила в комсомол.
Время было интересное – бурное и тревожное. Начиналась сплошная коллективизация, ломались старые, привычные устои всей деревенской жизни. Все друг друга знали, многие состояли в родстве, но среди односельчан закипали нешуточные страсти. Коммунисты, комсомольцы, советские активисты как могли объясняли людям положение в стране, новую внутреннюю политику. Доказывали, что крестьянам, особенно безземельным и безлошадным, нужно объединяться в колхозы. С другой стороны, их противники агитировали против такой «перестройки», пугали людей всякими небылицами.
Наша семья одной из первых вступила в колхоз в 1930 году. Отец был среди организаторов этой работы и вел агротехнический сектор. Он вел его до конца своей жизни. Скончался перед самой посевной в апреле 1943 года, успев приобщить к своим заботам и любимому делу нас, детей.
Тогда на объединенных больших полях нужно было срочно внедрять севооборот, проверять качество семян, готовить и сортировать их. Одновременно нужно было доставать и подбирать комплекс удобрений, составлять и контролировать графики посевной. Для главного агротехника колхоза не было отдельного помещения, даже комнаты. Качество семян он определял дома. Мы всей семьей, чем могли, помогали ему допоздна. Отец настойчиво просил правление колхоза определить ему рабочее место и выделить хотя бы 5 гектаров земли для сортоиспытательных посевов. Он завел деловые связи с научными работниками, свое дело знал, любил и трудился с полной отдачей.
Мы, комсомольцы, активно помогали подготовить семена к севу, собирали удобрения и дружно участвовали в первой коллективной посевной. Чтобы молодые колхозницы могли спокойнее и эффективнее работать, мы организовали на общественных началах детский сад. Я и Зигана Мустаева стали в нем добровольными воспитательницами.
Позднее я окончила школу колхозной молодежи, а затем педагогические курсы в Аургазинском районе, где меня определили на работу в начальную школу. Мне, 16-летней учительнице, в сентябре 1932 года дали 1-й класс, состоящий из 60 неграмотных учеников в возрасте от 7 до 14 лет. Инспектор РОНО при первой же проверке ахнул: как допустили такое! Девчонке – и сразу дали такую сложную группу! Он дал указание старших отделить, а из оставшихся младших сделать два класса. Но и после этого у меня осталось 52 человека. На следующий год все они успешно перешли в следующий класс.
Работали в те годы с утра до ночи. Кроме преподавания, была школьной пионервожатой, комсоргом колхоза и председателем женсовета при сельсовете, пропагандистом комсомольской учебы, руководила драмкружком, заодно играя роли в наших постановках. Параллельно сама училась заочно в средней школе и на педагогических курсах повышения квалификации, вела занятия в ликбезе для взрослых. Сейчас сама себе удивляюсь – как успевала справляться со всеми этими делами? Ответ один – молодость, горение, жажда новой жизни. Поработала год с четвертым классом. Здесь некоторые второгодники были мне почти ровесниками.
К тому времени наше родное село Бузовьязы стало районным центром. Меня назначили заведующей Тугаевской начальной школой. Здесь нагрузка была не меньше. Также приходилось заниматься и в ликбезе со взрослыми – грамотность среди наших земляков была еще довольно низкой.
В 1937-38 годах, после настоятельных советов врачей о смене климата, пришлось поработать в Ташкенте в средней школе. Когда вернулась домой, стала преподавать в Ишлинской средней школе.
На летние каникулы всегда приезжала в родной колхоз «Урняк». Он был тогда одним из лучших в республике. В горячую пору работала вполезвеньевой. На трудодни люди получали зерно машинами. Некоторые не могли найти столько места для его хранения и продавали излишки в «Заготзерно». Трудились тогда до седьмого пота, но и отдыхать умели. Росли благосостояние и культура на селе. Деревни были многочисленными. Жизнь в них кипела, как в родниках. Но однажды все заволокло черными тучами…
Война!
На второй день после ее начала нас, активистов, пригласили в райком партии и сообщили, что все отпуска отменяются, а мы будем работать в составе комиссии социального обеспечения. Сотни матерей и жен отправленных в армию мужчин шли сюда с заявлениями, за справками и другими документами, дающими различные права и льготы. Но мы не считали эту работу за главную. Рвались на уборку урожая, на выполнение заказов фронта.
Через год меня избрали первым секретарем Бузовьязовского райкома комсомола. Весь его «аппарат» состоял тогда из двух человек – секретаря и заведующего сектором учета. Работали сутками. Потоком шли ребята и девчата с заявлениями об отправке на фронт, направлениями на учебу в ФЗО. Позднее стали приходить разнарядки на отправку комсомольских групп для восстановления разрушенных объектов.
А колхозы, из которых были взяты почти все лучшие лошади, самоходная техника, здоровые мужчины, задыхались от нехватки рабочих рук. Но все преодолели. На полях и фермах трудились и глубокие старики, и дети. Собирали и отправляли на фронт последние продукты, теплые вещи, отдавали деньги на строительство самолетов и танков.
В ноябре 43-го меня направили на годичные партийные курсы при Башкирском обкоме партии. После их окончания в июне 44-го меня назначили ответственным редактором районной газеты, а на общественных началах одновременно и директором типографии.
По тем временам здесь также было туго со штатом. Редактор, ответсекретарь, одна наборщица и одна печатница на две газеты. А они выходили трижды в неделю. Печатались вручную на примитивном старом станке. Редактора часто посылали уполномоченным райкома в колхозы. А срыв номера считался преступлением военного времени. Но справлялись. И газеты выходили вовремя, и свежие материалы передавались по местному радио. На эту работу я приехала, уже будучи членом партии. Это не только накладывало двойную ответственность, но и обязывало работать хоть за десятерых. Такой была сложная обстановка того времени.
Частые командировки в колхозы были насущной необходимостью. Во многих из них председателями, бригадирами, заведующими зернотоками назначались совершенно неопытные и малограмотные люди, часто глубокие старики. Приходилось помогать организовывать работу на важных участках, заодно обучать самому необходимому, поднимать у людей настроение, а частенько и самой впрягаться в черновую работу.
А материалы для газеты и радио собирались живые, появлялись добровольные помощники, селькоры, начали практиковать и выступления специалистов, обмен опытом. По радио иногда звучали свои концерты и постановки («театр у микрофона»). Все – «вживую», о магнитофонах тогда и не знали…
* * *
Долго и подробно рассказывает Малика Шайбековна о своей работе в молодые годы. Именно тогда сформировался и закалился ее характер, стало частью души внимательное отношение к нуждам и просьбам каждого человека. Позднее ей пришлось работать на различных ответственных, очень беспокойных и трудных должностях.
Когда в 12 районах республики, в том числе и в Бузовьязовском, сократили должности редакторов радиовещания, Малику перевели на работу в Министерство трудовых резервов БАССР. Почти постоянно выезжала в командировки: набор рабочих для восстановления разрушенных войной и строительства новых заводов и других объектов, сопровождение их к месту назначения, улаживание конфликтов…
Дело в том, что нередко помещения для размещения прибывших еще не были готовы, а работа и оплата были не всегда те, какие обещали. Она привыкла к этой «карусели», отлично справлялась со всеми трудными ситуациями. Ио ее энергия и опыт были очень нужны в родном районе, руководство которого энергично добивалось возвращения знающих местные условия специалистов, тем более что послевоенный «кадровый голод» был очень острым.
Сначала ее звали вернуться, чтобы возглавить отдел социального обеспечения, затем решили назначить завотделом культпросветработы, и на заседании партбюро райкома партии, утверждая в должности, поручили одновременно исполнять
обязанности ответредактора районной газеты на время его нахождения в отпуске. Кроме того, временно – до назначения нового заведующего райсобесом – возложили на нее и эти обязанности. А по обязательному закреплению номенклатурных работников за колхозами дали ей еще и оставшееся «безнадзорным» самое отдаленное хозяйство.
К четырем утра она приходила в райсобес, чтобы прочитать и подписать все накопившиеся документы, затем бежала в редакцию, где вместе с ответсекретарем газеты вычитывала подготовленный и планировала следующий номер. Затем пешком спешила в свой закрепленный колхоз и оттуда докладывала по телефону в райком, что находится на месте.
С кадрами тогда было очень трудно. Многие на занимаемых должностях в районной системе культпросвета далеко не соответствовали необходимому уровню. Наиболее способных направляли на курсы, на заочное обучение в культпросветшколу, в библиотечный техникум, в училище искусств. Сама Малика Шайбековна без отрыва от работы заочно окончила Ленинградский институт работников культуры.
Много и плодотворно пришлось потрудиться Малике Шайбековне и на ниве развития культуры на селе, и на главной ниве, на земле-матушке. В самый разгар работы, когда начали добиваться реконструкции и строительства помещений в сфере культуры, поднимать уровень самодеятельности, молодую энергичную коммунистку в 1954 году перевели завотделом социального обеспечения. А в 1957 году ее как хорошо знающую специфику села, имеющую большой организаторский опыт и талант избирают председателем Подлубовского сельсовета, а вскоре и секретарем парторганизации колхоза, в которой было почти 100 коммунистов. Излишне говорить, сколько дел, хлопот и ответственности сразу легло на ее плечи. Особенно когда в состав сельсовета включили Бекетовский совхоз, и число населенных пунктов увеличилось до 18. Иногда на сон оставались буквально считанные часы.
После четырехлетней работы в сельсовете в марте 1961 года Малику Шайбековну назначили заведующей центральной районной сберкассой в Кармаскалах. И дело новое, и деньги после реформы 61-го – тоже новые. Вновь приходилось на ходу учиться, вникать в тонкости банковского дела. Но главный надежный фундамент – умение работать с людьми, организаторский талант – помог и здесь добиться успехов. Не раз заведующую и коллектив награждали Республиканское управление сберкасс и даже Министерство финансов СССР.