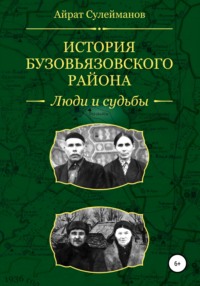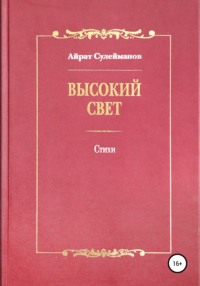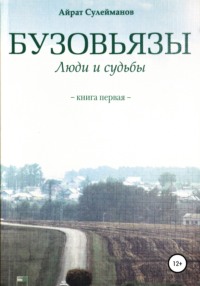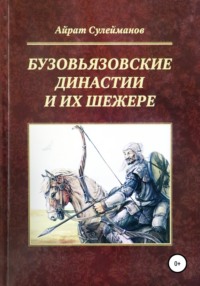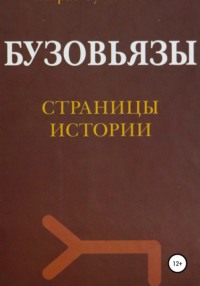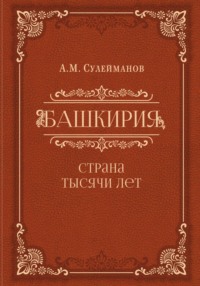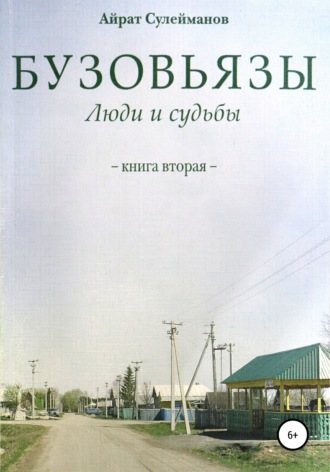 полная версия
полная версияБузовьязы. Люди и судьбы. Книга вторая
С первых дней работы в театре им были спеты все ведущие партии не только национального, но и классического репертуара, которых насчитывается более шестидесяти. В советских и классических операх исполнил партии Дона Карлоса («Дон Карлос»), Хозе («Кармен»), Самозванца («Борис Годунов»), Во-демона («Иоланта»), Князя («Русалка»), Лыкова («Царская не-веста»), Молодого цыгана («Алеко»), Пинкертона («Чио-Чио-Сан») и другие.
Будучи единственным исполнителем всех ведущих партий в операх башкирских композиторов, Н. Абдиев представлял башкирское искусство на всех съездах композиторов БАССР, РСФСР, СССР, за что получал Почетные грамоты и благодарности. Как солист оперы Абдеев обладал хорошей вокальной техникой и голосом, красиво звучащим во всех регистрах, яркой характеристичностью. Создаваемые им образы были выпукло очерчены и детально разработаны.
В последние годы Н. Абдиев серьезно занимался творческой деятельностью. Им было создано свыше 100 романсов и песен, за что он 8 раз был удостоен звания лауреата Республиканского конкурса на лучшую песню. Назир Абдиев был отмечен и Дипломом Всесоюзного конкурса оперных певцов в 1967 году за образ Зайнуллы («Волны Агидели»), в 1969 году – Дипломом I степени, в 1973 году – Дипломом II степени.
Он рос в многодетной семье. Отец в самом начале Великой Отечественной войны ушел на фронт и вскоре погиб в боях под Смоленском. Четверо детей остались на руках у матери Масуры Султангареевны. Наверное, в любой деревне в те годы люди жили одинаково: вместе бедовали, сообща работали, познали холод и голод.
Мне неоднократно приходилось встречаться с сестрой известного певца Байзой Закировной Абдиевой и с ее мужем, бывшим связистом Хамитом Нуриахметовичем Канбековым. Как-то поздним декабрьским вечером, проезжая мимо их дома, заглянул к ним на огонек. Гостеприимные хозяева тут же поставили самовар. Я стал было отказываться, но Байза Закировна упрекнула:
– Айрат, у нас не принято отказываться от угощения. Таков уж обычай.
Мы сели за стол. Байза Закировна – скромная деревенская женщина, повидавшая много на своем веку. Она рассказывает о былых тяжелых временах, а сама улыбается; глаза ее светятся, и порой на них появляются слезинки.
Отец ее работал бухгалтером в колхозе «Урняк», мать – простая колхозница. В семье было четверо детей: Мунир, Назир, Фарид и Байза. Все они увлекались музыкой, что сейчас кажется странным, ведь они росли в трудные, голодные военные и послевоенные годы. Байза Закировна, словно догадавшись, что я обязательно спрошу об этом, сказала:
– Все мы к музыке пристрастились еще с малых лет, трое братьев и я играли на гармошке. Любовь к музыке у нас, видимо, по наследству передавалась: наша мама Масура была лучшей певуньей в округе. В ауле ее называли соловьем – до того она любила музыку. И так хотелось ей, чтобы и мы, ее дети, переняли эту любовь, что в голодное военное время выменяла на мешок картошки тальянку. То-то была радость в доме! Назиру, наверное, было лет пять, когда он бегал учиться играть на гармошке к соседям. А когда появилась своя тальянка, он взял ее в руки и тут же подобрал мелодию какой-то песни.
Не хотелось бы вспоминать всю тяжесть тех лет, но очень уж врезался мне в память случай со спиленной в казенном лесу березой. Тогда только снег выпал, в доме сильно похолодало, а дров нет. Выгнала мама коровенку из сарая, запрягла ее в сани, взяла меня с Назиром, и побрели мы по первому снегу в лес. Свалили три березы, перепилили их, порубили ветки и погрузили в сани. Но корова-то не лошадь, легла на снежок и тянуть повозку не хочет. Еле-еле мама подняла ее на ноги. Вернулись назад поздней ночью, чтобы никто не видел.
На следующий день пришел лесник Шаяхмет-агай, стал укорять за спиленные деревья, а мы к тому времени успели наколоть и попрятать дрова. Лесник был хорошим мужиком: немного поругал маму, а потом сказал, чтобы в следующий раз не оставляли пеньков, да и след от саней к нашим воротам шел…
Долго длилась наша вечерняя беседа. Мне было приятно слушать воспоминания хозяйки. Всю семью Абдиевых я неплохо знал по рассказам мамы и по тому жизненному следу, какой оставили они на земле. Старший брат Байзы, Мунир, стал инженером-нефтяником, работал в Ишимбае. Назир – тенор, солист оперного театра, Фарид работал в «Башкирэнерго».
Сама Байза выбрала самую гуманную профессию – воспитателя, музыковеда в детском саду. Несколько поколений бузовьязовских ребятишек прошли через ее ласковые, добрые руки, в том числе и я. С тихой улыбкой она вспоминает сейчас меня, четырехлетнего мальчишку. Был я, по ее словам, довольно неугомонным, резвым ребенком. Лез куда ни попадя, и потому частенько плакал.
– Байза-апа, – спрашиваю я ее, – вы всю свою жизнь проработали в детсаде. Как вы выбрали эту благородную профессию, которую и профессией-то трудно назвать – это скорее призвание, зов сердца?
– После окончания Бузовьязовской средней школы я поехала в Уфу, к дяде Ибрагиму, который единственный из семьи Абдиевых вернулся с фронта живым. Он занимал большую должность в обкоме партии и посоветовал мне поступать в педучилище. Я сдала вступительные экзамены и все годы учебы жила в дядиной семье. После окончания училища в 1959-60 годах работала в Уфе. В это время я жила на квартире у Шакировых – очень известных впоследствии людей. Закир-агай – крупный ученый-лингвист, в одно время он даже был ректором педагогического института им. Тимирязева. Сын же его, Мидхат Закирович, работал инженером на моторостроительном заводе. Стал первым секретарем Уфимского горкома и без малого 20 лет возглавлял Башкирский обком партии. Что бы о них ни говорили позднее, от себя могу сказать, что это были люди очень хорошие, деловые, работящие и воспитанные.
В Бузовьязы я вернулась, когда вышла замуж за Хамита Нуриахметовича. Главное, что я уяснила для себя в жизни, – это что у человека обязательно должна быть внутренняя цель. Именно это помогает людям выдержать самые ужасные физические и душевные муки и внести достойный вклад в жизнь всего человечества…
Натруженные руки
Руки Хамита Нуриахметовича Канбекова, связиста с 52-летним стажем, выдают биографию человека, прожившего жизнь, наполненную заботами и тяготами.
У каждого человека есть свой «внутренний» возраст. Это не цифра, определяемая метрикой, а состояние души. И, несмотря на то, что на днях ему исполнилось 70 лет, трудно в это поверить – настолько он бодр, подвижен и полон энергии. Однажды выбрав нелегкую стезю, Хамит Нуриахметович «прилепился» к связи душой, полностью посвятил себя любимому делу.
Он родился в бедной крестьянской семье. Жизнь в те годы была тяжелой, особенно в семье, где воспитывали одиннадцать детей, и Хамит был младшим. Ему было всего семь лет, когда началась Великая Отечественная война, старшие братья ушли на фронт, трое из них так и не вернулись. Хамит рано повзрослел, старался, как мог, помочь семье. После окончания школы в 1950 году выучился на электромонтера и начал работать в радиоузле Бузовьязовской районной конторы связи.
– Информацию о состоянии линий связи запрашивали каждые три часа, приходилось много мотаться по району, а на пятерых монтеров был один-единственный служебный велосипед, – вспоминает Хамит Нуриахметович.
Выбор профессии предопределил всю дальнейшую судьбу X. Н. Канбекова. После ликвидации Бузовьязовской районной конторы в 1956 году он работал в Аургазинском, Кармаскалинском районах, обеспечивая бесперебойную связь, за что не раз был отмечен руководством.
В 1962 году были востребованы специалисты для обслуживания междугородной линии связи, и Хамит Канбеков, уже опытный работник, был приглашен в Уфимский ЭТУС электромехаником для обслуживания воздушной и кабельной линий связи Уфа – Стерлитамак. Здесь он проработал тридцать лет, не допустив ни одного срыва в работе связи.
– Мы обслуживали НУПы. Аппараты часто выходили из строя, и мы выезжали на места, работали сутками – и в дождь, и в снег. Пока не устраним повреждение, не уезжали, жили в палатках, – рассказывает он.
Канбековым проводились эксплуатационно-ремонтные работы, охранно-разъяснительная работа в организациях, на предприятиях, с частными лицами. Участвовал во всех работах, связанных с пересечением кабельных линий связи различными пользователями, а их за долгую практику было несколько сотен.
С выходом на пенсию в 1994 году ветеран не смог усидеть дома – продолжил работать электромонтером. С благодарностью вспоминает о том, как приехал в район Ш. Б. Янышев и вручил ему удостоверение «Ветеран связи Башкирской АССР».
Случилась в молодости у Хамита Нуриахметовича романтическая история, связанная с супругой Байзой Закировной. Как рассказали в РУМСе, родители любимой считали Хамита, крестьянского сына, партией невыгодной, ведь Байза была барышней, играла на пианино и прекрасно пела. Но Канбеков был не из тех, кто отступает перед препятствиями. Упрямый жених решил проблему – украл свою невесту.
С тех пор живут супруги Канбековы душа в душу, вырастили пятерых детей, всем дали высшее образование, а два сына пошли по стопам отца, работают в сфере связи. Старший, Альфред, работает в РУМСе, а второй сын, Роберт, окончил Куйбышевский институт связи и ныне работает начальником Уфимского ЭТУС.
Две жизни, слитые воедино…
22 июня 1941 года. В тот день в деревне был какой-то праздник. Но когда районный военный комиссар объявил, что на нас напала Германия, и началась война, на миг все остановилось и замолчало.
Тут же началась запись добровольцев. За первые два дня войны в райвоенкомат поступило более сотни заявлений от добровольцев, в том числе и от женщин. Среди добровольцев были люди всех возрастов – молодые и пожилые. Комсомолки писали: «Мы, женщины, готовы в любую минуту помочь Красной Армии в борьбе с врагом. На фронте будем работать медсестрами, а в случае необходимости – с оружием в руках защищать нашу Родину!».
Армия несла большие потери в личном составе, постоянно требовалось пополнение. На замену военнослужащих-мужчин в частях ПВО, связи, ВВС и в органах тыла проводилась мобилизация женщин.
Военкоматы с напором и энергией продолжали работу по выявлению дополнительных призывных ресурсов.
Это были трудные годы. Народ ликовал, надеялся на скорое улучшение жизни. А страна лежала в руинах. Тяжелым было положение и в глубинке: урожайность полей снизилась из-за ухудшения качества обработки почвы – не хватало тракторов, подготовленных механизаторов. Больше половины ушедших на войну бузовьязовцев не вернулось с полей войны.
Победоносно завершив Великую Отечественную войну, Советский Союз приступил к сокращению своих вооруженных сил. Многие бузовьязовцы возвращались к мирному созидательному труду.
Военные комиссары были из тех коммунистов, кто свято верил в идеалы партии, не щадя себя и требуя такой же отдачи от других, стремился сделать Советский Союз величайшим государством. Главная задача, поставленная тогда партией, – организация на уровне района военно-патриотического воспитания молодежи. И действительно, его подняли на новый уровень, наполнили живым, конкретным содержанием.
В 1955 году Бузовьязовский район был присоединен к Кармаскалинскому району, и поэтому военный комиссариат упразднили…
* * *
…Колеса товарного поезда стучали звонко, гулко и ритмично. Утренние лучи солнца, яркие и веселые, пробивались сквозь узкие окна. Если в перелесках кое-где лежал еще снег, то за Волгой в раздольной степи над побегами первой апрельской травы звенели жаворонки, и заливистое пение птиц сливалось со звоном колес состава. За окнами разливалась степь. Повсюду зацветали цветы-первопроходцы…
Давно осталась позади родная Башкирия; там, куда рвался состав, гремели бои Великой Отечественной. Впереди состава отфыркивался тяжелым дымом старенький паровоз, на платформах стояли зачехленные пушки и танки. В двух теплушках ехали на фронт девчата из Башкирии. И одна из них – Газима Бахтиярова. Стройная, как приречная тростинка, с ясными выразительными глазами – настоящая красавица. Когда поезд останавливался на станциях и полустанках, и она бежала с котелком по перрону, бравые солдаты обращали на нее внимание: «Куда едешь, красавица?». «Военная тайна», – отвечала она.
И слова ее не были шуткой. Девчата из двух теплушек действительно не знали, куда везет их поезд. В апреле 1942 года страна еще не знала о предстоящей великой битве на Волге, которая войдет в историю как Сталинградское сражение.
Со стороны Сальских степей, с Кавказа, с Черноморского побережья к городу подтягивались вражеские полчища, гремели гусеницами танковые армады. Туда же, на перехват врага, со всех концов Советского Союза спешили войска Красной Армии. Среди них была и Газима Бахтиярова. В конце апреля боевая часть, где она служила, дислоцировалась вблизи деревни Бикетовка, у подножия Мамаева кургана, где ближе к осени будут греметь одни из самых ожесточенных боев той войны…
…Зенитной артиллерии дремать не приходилось. Стволы орудий были буквально раскалены: вражеские самолеты беспрестанно кружили в небе над степью, и так же беспрестанно били по ним пушки. Сержант Газима в этих боях командовала отделением наводчиц зенитной батареи. Там же, под Мамаевым курганом, зенитные орудия, предназначенные встречать огнем самолеты, впервые били то по танкам, то по живой силе врага.
Вот со стороны Бикетовки показалась танковая лавина. Стальные громады со зловещими крестами на боках шли растянутой цепью, буквально в 10 метрах друг от друга, в несколько рядов. За ними, пригибаясь, с автоматами наперевес бежали фашисты.
Газима упала на дно траншеи, успев услышать над собой ужасающий скрежет гусениц; комья глинистой земли засыпали ее с ног до головы.
Она потеряла сознание. Не знала, сколько длился бой, в себя пришла только после того, как ее откопали и вытащили из траншеи солдаты. Где-то поблизости радостно звенел молодой голос: «Мамаев курган не сдается!».
Газиму погрузили в кузов полуторки и спешным ходом вместе с другими ранеными бойцами отправили в полевой госпиталь. В санбате города Энегельс Саратовской области пролежала она ровно месяц. Затем ее, контуженую, наскоро поставили на ноги и отправили долечиваться на родину.
По пути в Башкирию она неожиданно встретила в поезде своих землячек, бузовьязовскую девушку Малику Шайбековну Жданову, секретаря комсомольской организации, и Райфу Рауфовну Баталову из Иглинского района. Втроем они сели в один вагон и ехали до Уфы вместе. Дорога сблизила их. В Уфе подруги проводили раненую Газиму до самого дома. Дороги их не расходились долгие годы и после войны. Часто встречались, вспоминали грозные дни Великой Отечественной.
У себя дома, хотя и на скудных харчах военного времени, Газима быстро поправилась, некоторое время успела поработать фельдшером в Бузовьязовской больнице. А в начале мая 1943 года ее вызвали в военкомат и уже в звании лейтенанта поставили командиром над 55 молоденькими девчатами. 10 мая она получила приказ следовать в аэростатную часть Северо-Западного фронта, в Мурманск.
Уже ближе к прифронтовым местам в вагон к девчатам вошла молодая женщина. Она жалобным голосом просила помочь, кто чем может. «У меня, – плакала она, – пятеро ребятишек дома голодные сидят, кормить нечем». К женщине тянулись руки с подношениями: кто протягивал ломоть хлеба, кто отдавал кусок сала; в мешке у побирушки оказались даже банки консервов. Все девчата из Башкирии поделились с женщиной своим пайком.
Газима доставила всех землячек в предписанную им боевую часть. Аэростатчицы и зенитчицы противовоздушных батарей несли боевую службу, как и положено по Уставу, без всяких скидок на то, что они девушки. Воевали, как и все другие солдаты. После войны из 55 ее подчиненных домой вернулись только 12 девушек, считая Газиму. Остальные сложили свои лебединые крылья на полях сражений.
Удивительно интересная встреча произошла у Газимы, когда ее воинское соединение перебазировалось из Мурманска ближе к линии фронта. Под Архангельском на одном из полустанков она выбежала из вагона за кипятком – и глазам своим не поверила: увидела ту самую попрошайку. Она была одета в военную форму. Газима подбежала к женщине и недоуменно спросила: «А как же твои дети-малолетки, как же ты на фронт попала? Ты же по вагонам попрошайничала!». Стоявший рядом офицер засмеялся: «Какая же она вам попрошайка! Екатерина – партизанская гордость, в труднейшие дни она советских партизан от голода спасала. Сначала сухари с салом в лес носила, а потом и сама доблестной партизанской стала». Лейтенант ласково обнял девушку и добавил: «Теперь мы вышли из леса и вместе с армией идем добивать врага!».
* * *
Наверное, памятью прошлого жив человек, подумалось мне, когда я слушал рассказ Газимы-апы. Вроде бы давным-давно закончилась война, жизнь вошла в привычную колею. Тем не менее, о чем бы мы ни говорили, Газима Бахтиярова снова и снова рассказывает о фронте, о боевых подругах. Сидящий рядом ее муж Хасан Бахтиярович Бахтияров пытается вклиниться в нашу беседу, но жена постоянно прерывает его. Однако Хасан-агай сумел-таки деликатно найти момент и сказать свое слово.
– Советская власть с трудом вставала на ноги, – начал он свой рассказ. – Вертикаль власти, как сейчас говорят, уже была восстановлена повсеместно. Телеграфные аппараты отстукивали из Москвы по регионам циркуляры и распоряжения. Но одними циркулярами наладить, а тем более улучшить жизнь невозможно.
Сразу же после гражданской войны по всей необъятной стране разразились эпидемии. Тиф, чума, холера выкашивали людей чуть ли не целыми деревнями. Докатилось это и до наших краев. Только в нашей семье от холеры умерло семь человек. Моего отца, Бахтияра, к тому времени уже не было в живых, он погиб в боях гражданской. И надо же было такому случиться, что в 1921 году от западных границ страны и до Урала разразилась ужасная засуха. Всходы хлебов были буквально выжжены солнцем дотла. Голодный год в Поволжье и на Урале даже отмечен в учебниках истории.
Бескормица убивала людей пуще холеры. Помню, мы, мальчишки, как только сошел снег, бегали в поле собирать уцелевшие колоски. Никто тогда не знал, что зерно, прозимовавшее под снегом, становится ядовитым. И в деревнях люди ели его и умирали, даже не зная, от чего. К тому же, в те годы в башкирских селах и аулах не сажали картошку, не выращивали никаких овощей. Дыхание смерти, казалось, носилось в воздухе.
Согласно ленинскому декрету, было разрешено принимать помощь зарубежных организаций голодающему населению Поволжья и Урала. В Америке была создана соответствующая организация. Позднее, когда я стал работать в органах государственной безопасности, мне случилось наткнуться на документы, где были записи о роде работы многих сотрудников этой службы. Под видом помощи они вели в Башкирии – да и, наверное, в других краях – шпионскую деятельность.
Почти все американские сотрудники бесстыдно пользовались тем, что народ голодал. Многие за стакан пшена или манной крупы выменивали у населения женские украшения, старинные ковры, изделия народных умельцев. Даже самовары, сделанные тульскими мастерами, задарма уходили в руки проворных дельцов. Все это добро, выменянное у населения, целыми кораблями отправлялось за океан. Многие американцы воспользовались ситуацией: нажива и шпионаж были их первоочередной задачей. По-настоящему помогали тогда люди из комитета, созданного норвежским путешественником Нансеном. Неоценимую помощь России оказал в то время Нобель, имя которого носит самая престижная в мире премия.
Страшная эпидемия и ужасный голод уничтожили всю нашу семью. Остались лишь я и моя мама Хадича. И пришлось ей, бедняжке, отдать меня в детский дом. Только здесь я впервые почувствовал радость детства, кушая три раза в день. Впервые ощутил вкус сахара и повидла. Манная каша казалась мне блаженством. «Когда вырасту, – думалось мне, – буду есть только манку». Всем детдомовцам выдали форменную одежду. И мы, ребятишки, почувствовали, что нужны своей стране.
Через 2-3 года жизнь в деревне стала налаживаться. В выходные дни нас отпускали из детдома домой. По рассказам мамы знаю, что именно тогда в наши края завезли из Казахстана добротных, упитанных рабочих лошадей. Раздали их крестьянам авансом – под будущий урожай. Люди стали распахивать заброшенные земли, сеять пшеницу и рожь, просо. Каждая осень для крестьян была настоящим праздником. В деревне появились даже зажиточные мужики.
В свое время таких называли кулаками. Был у нас в деревне работящий мужик Гаффан, участник первой мировой войны, в Австрии воевал. В деревне говорили, что он после войны привез из-за границы сеялку. Этому трофею радовалась вся деревня, потому что во время посевной все ею пользовались. Но в 1932 году Гаффана раскулачили, все хозяйство вместе с сеялкой забрали в колхоз, а его с семьей выслали в Кемеровскую область. Уже через много лет объявилась у нас в деревне жена Гаффана, рассказала бывшим подругам, что работали они в Сибири на угольных шахтах. Сына их, Ахметхана, уже после войны я совершенно случайно встретил в Ташкенте.
Земляки есть земляки, мы с ним обнялись. У Ахметхана на ресницах блеснули слезы. Я – сотрудник госбезопасности, и он – сын кулака, оба были неимоверно рады этой встрече. Оказывается, Ахметхан воевал, имеет ордена, после одного кровопролитного боя его даже приняли в партию. Тогда и подумалось мне, что определенные круги говорят много лишнего о преследовании детей и внуков так называемых «врагов народа». Я наглядно увидел: те из них, кто преданно служили Родине и народу, не чувствовали на себе последствий репрессий. Многие их сыновья и дочери оканчивали институты, были членами партии, даже занимали руководящие посты.
…Вот два пожилых человека, муж и жена, рассказывают мне о своей жизни. И слышится в их словах то печаль, то радость. В их рассказе – история чуть ли не всей страны. Обоим уже перевалило за 90 лет, а в их памяти все еще живы картины прошлого. Воспоминания до такой степени воспламенили их души, что щеки у стариков порозовели, а в глазах заблестел азартный огонек молодости.
Газима-апа с некоторым недовольством машет рукой, упрекает мужа:
– Да подожди ты, Хасан, все о себе да о себе рассказываешь, дай мне хоть слово вставить!
– Успеешь, успеешь, Газима, дозволь досказать… Отвоевал я от звонка до звонка. По линии органов безопасности направили в Ташкент. Трудная работа была в лагере военнопленных. Тогда еще не всех немцев и японцев по репатриации отправили в свои страны. Наиболее провинившиеся досиживали свой срок в советских лагерях. В марте 1953 года умер Сталин. Я видел, как, не скрывая слез, плакали узбеки, русские, украинцы и даже поволжские немцы, которые жили в Узбекистане. Сейчас о Сталине говорят, что был он настоящим тираном. Но тогда почему же люди так близко к сердцу приняли его смерть? Все плакали; признаюсь, плакал и я.
В том же году я приехал в Бузовьязы, стал работать инструктором в райкоме партии. В те годы первым секретарем райкома был Закир Фазылович Мухаметшин, требовательный, строгий человек, но в то же время и очень справедливый. По роду своей деятельности мне приходилось часто с ним общаться: то с лекциями в колхозах выступали, то партийные собрания проводили.
А еще такой интересный факт: заработная плата инструктора была 75 рублей. На них концы с концами не сведешь. Поэтому нам доплачивали натуральными продуктами, как колхозникам. В один год был хороший урожай, и нам выдали 27 центнеров зерна. После лихолетий, голодных годов, после войны такое количество хлеба казалось нам настоящим богатством. Мы чуть ли не плакали от радости…
После небольшой паузы Хасан-агай стал вспоминать послевоенное время, те дни, когда вернулся из Ташкента в Бузовьязы. В 1952 году он женился. С женой вырастили пятерых детей, до глубокой старости работали на благо односельчан.
– Я демобилизовалась из армии намного раньше, чем Хасан, – продолжает вспоминать Газима-апа. – В августе 1945 года приехала в Бузовьязы, стала работать фельдшером в районной больнице. Какие хорошие, отзывчивые люди работали тогда там! Главным врачом была участница войны Зифа Мухамедьярова; кроме того, она вела еще и терапевтическое отделение. Акушерка – Ася Иванова. А инфекционными больными занималась Габида Абдюкова. Очень хорошо трудились санитарки Марьям Мустаева, Мадина Ишмакова. Савия Бикметова работала фельдшером, Резеда Бикметова – медсестрой.
А в начале 70-х годов главным врачом работал Ватан Хабибович Нургудин. После него главврачом был Рафис Рифкатович Бикметов. В 1989 году главным врачом стала Фия Галимухаметовна Кадаева, а после нее долгое время в этой должности работал ее сын. После 2000 года главным врачом был Филарит Хайбуллович Сайфуллин.
С победами и разочарованиями мужает человек
Ближе к вечеру, когда над селом только-только начали густеть сиреневые сумерки, к районному Дому культуры стали стекаться люди. Сцена нашего клуба знавала не только участников местной художественной самодеятельности, но и знатных артистов Республики. А наш знаменитый певец Назир Абдиев, как говорится, дневал и ночевал здесь. Сам он всегда признавался, что ему особенно приятно выступать перед земляками, на своей Родине. Но этим вечером в Доме культуры ожидалось неописуемое.