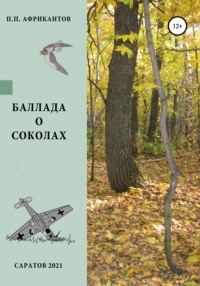полная версия
полная версияСтарый дом под черепичной крышей
– Вот и скачи со своим оружием где угодно, а то сядут за стол и копыта на стол.
– У меня, как у всякого уважающего себя кентавра, копыта под столом и хвост тоже, а чтоб калач откушать у меня и руки есть, а не то, что у некоторых.
– Это ты на что, на мои лапы намекаешь!? – озлился Пустолай.
– Ни на что я не намекаю… И потом, братец Пустолай, я попросил бы уважать мои седины.
– Ой! Ой!… Только вот этого не надо,.. древность твоя на воде трезубцем писана, у нас у всех одна мама, зовут её – Лена и родились мы все совсем недавно. Нашей мамушке 101 год, значит самому старому из нас не более девяноста годов, если учесть, что она кого-то слепила в десятилетнем возрасте.
– Где это видано, чтобы кентавру сто лет было?!– сказал Заступник. – Историю надо знать господа хорошие.
– А что, меньше? – спросил Мурлотик, – я так и знал… – желая этим обострить разговор.
– Не меньше, а больше, – поправил его Заступник.
– Правильно, брат Заступник, – проговорил сердито Свистопляс, – правильно что за меня заступился, а тебя я, Мурлотик, как лягну копытом, будешь знать, усатая скотина. Кентавр, даже если он только что родился, всё равно старше всех по определению.
– Скажите на милость, кто же это определил?.. – изумился кот.
– История определила… А тебе, как вижу, история не указ!
– Если уж кто и скотина, так это ты, – возразил кот. – Ты хоть на себя в зеркало когда-нибудь смотрел? Половина у тебя от лошади, а другая от человека…, хи… хи.
– Это что же такое? – возмутился Свистопляс, – чего это он издёвки строит. Я что ли в этом виноват? Правда, мамушь?
Следя за перебранкой, старушка глубоко вздохнула и проговорила спокойно и твёрдо:
– Слушайте мой последний наказ дети мои. – Все притихли. – Мне уже совсем ничего осталось, – и она посмотрела на опускающуюся гирьку часов,– вы останетесь жить одни. Будьте умненькими, не ссорьтесь. Вы все братья и сёстры и не кичитесь ни сединами, ни силой, ни ловкостью, ни обонянием, ни зоркостью глаз, ни цепкостью, ни быстротой. Каждый из вас имеет в жизни свои особенности и способности, но у всех у вас одно предназначение – дарить детям радость и учить их жить, а взрослым людям помогать избавляться от прилипшей к их душам скверны, не забывайте об этом. Живите в мире и согласии. Это вы сейчас наскакиваете друг на друга и ершитесь, а вот придёт лихое время, нагрянет беда, так роднее вас никого в целом свете не будет. Вы уж мне поверьте. – Она замолчала.
– Мамушь, расскажи сказку…, – тянет Глиняша.
– Не приставай к мамушке, – сердито посмотрела на Глиню Катерина.
– Не одёргивайте его, – сказала старушка, – он маленький. – Она немного помолчала, а потом проговорила: – Я расскажу, дети мои, вам сказку, – и погладила Глиню по головке. – Эта сказка для вас всех и для тех кто помладше и для тех, кто постарше. – Она помолчала и, собравшись с мыслями, начала говорить:
– Давным-давно жил в окрестных лесах отшельник.
– А кто такой отшельник? – спросил Глиня.
– Отшельником называют человека, который ведёт уединённый образ жизни, вдалеке от людей. Понял? – Глиня понимающе кивнул. – Так вот жил этот отшельник в лесу в самом глухом месте среди высоких деревьев и диких трав. Была у него там избушка махонькая на одно оконце, да высокое крылечко. А чем он занимался, спросите меня? – так молился богу и в свободное от молитв время лепил из глины игрушки и ставил их край просёлочных дорог и троп. И кто такую игрушку из людей находил, то вместе с игрушкой получал дар.
– Какой дар? – спросил Гуделка. Он любил сказки и смотрел мамушке буквально в рот.
– Так, если кто находил дикого вепря, то становился охотником и была ему всегда в охоте удача. –Продолжала говорить старушка. – Если кто находил глиняных домашних животных, то становился скотоводом, а если находил такого мальчика как ты, то быть значит тому, кто нашёл, игрушечником.
– А ты, мамушь, глиняного мальчика нашла, такого как я, да?
– Не перебивай мамушку, – урезонил Гуделку Мурлотик.
– И вот однажды слепил отшельник двух диких страшных зверей, которых люди не видывали и даже голоса их не слыхивали, – продолжила рассказ Елена Никаноровна. – И были эти звери лохматы, зубаты и поскокаты. И велел отшельник этим зверям являться только неправедным людям. И беда была тем, кто их встречал, видно человек этот был неисправимый и закоренелый во зле. Бежит этот человек прочь от страшной находки, да убежать не может. Ибо оживают глиняные звери, становятся больше волка и вепря. Бежит человек и слышит за собой шум лап и стук больших когтей и ужас обнимает бегущего, не спасут его ни стены толстые, ни заборы высокие, ни решётки на окнах кованые.
– А зачем они показываются людям? – спросил Гуделка.
– А затем, что может быть устрашаться неправедники и встанут на путь исправления, упадут на колени и от всей души раскаются в злых делах. Только они не сразу к человеку подступают, а вначале они этому человеку голос подают, а затем уж и себя показывают. А если и после этого человек творит неправду, то приходят они к нему и их приход для того человека страшен.
– Чем же страшен, а? – теребит старушку Глиня. Он среди всех самый впечатлительный и потому смотрит на мамушку широко открытыми не мигающими глазами. Жмётся Глиня к Дуне, а у самого слёзы на глаза наворачиваются.
– Ты что?.. испугался?.. – спрашивает Дуня, чмокая Глиню в затылок.
– Нет, не испугался. Просто человека жалко.
– Сердечко у тебя мягкое, – говорит мамушка,– что ж ты его жалеешь, когда он сам себя не жалеет, потому как зло и неправду творит?
– Всё равно жалко, – всхлипывает Глиня. – Он хоть и закоренелый неправедник, так всё равно по образу и подобию божьему создан, сама рассказывала, потому и жалко.
– А если звери хорошему человеку случайно встретятся, то тогда как? – спросил Пустолай.
Мамушка улыбнулась.
– А хороших людей они никогда не трогают и даже им помогают, но так, что человек и не знает, кто ему помог?
– Что? И добрые, и злые их голос могут услышать? – не унимался Глиня.
– Могут, – ответила мамушка, – только каждый его по-своему воспринимает. Недобрый человек со страхом и трепетанием в душе, а добрый – как знак божий.
– К чему же знак то? – спросил, начав пугаться Глиня.
– Знак этот может быть и предупреждением, и назиданием, а то и поддержкой. Всякому своё.
– Вот бы мне этих зверей увидеть… – проговорил Мурлотик.
– Что ты…, деточка…, что ты! Испуганно сказала старушка. Не надо об этом и думать.
– А что люди делали, когда другие игрушки находили? – спросил Свистопляс. Он внимательно слушал мамушкину сказку и тоже находился под большим впечатлением от услышанного.
– «Что делали?»,– спрашиваешь. Как найдут, так обнимают их, целуют, несут в селение, поднимают над головой, чтобы всем было видно и говорят: «Смотрите чего мы нашли… Будет теперь радость в нашем доме.». И бегут к ним люди, и смотрят на находку. И тот, кто радуется с нашедшими, то и его дом не остаётся пуст, ибо отступают от них невзгоды и болезни, потому как сорадуются души чистые и открытые и радость их совершенна, а тот, кто завидует в душе, а внешне радуется, то радость его показная, не настоящая. Учитесь, дети мои, разделять чужую радость и горе, вот мой вам наказ.
– Я устала, – проговорила старушка ослабевшим голосом, откинулась на подушку и прикрыла глаза. Все на цыпочках потихоньку встали и стали выходить в соседнюю комнату, даже кентавр-Свистопляс при этом умудрился не стучать копытами. Один только Васёк хотел растянуть гармошку, но на него так шикнул Заступник, что он опять повесил гармонику на плечо. Мурлотик же, повернувшись к Дуне, спросил: «Свет выключить?».
– Сам знаешь, – сказала Дуня.
Кот быстро вскарабкался по косяку, дотянулся до выключателя и нажал кнопку – электрическая лампочка погасла.
_____________
После того, как все вышли и мамушка осталась одна, в комнате стало так тихо, что даже за печкой сверчок, привыкший к разговорам, присмирел и уже не почёсывал своих музыкальных лапок, а только водил усами. В этот момент, когда всё успокоилось и наступила тишина, в этой, объявшей комнату тишине и сумеречности вдруг послышался осторожный скрип. Это у печи скрипнул изразец с изображением зверя. Затем изразец пошевелился и из него, вытянув лапу и вытащив голову вылез некто. Этот некто отделился от изразца, стал расти, расти и вскоре превратился в большого невиданного страшного зверя. Зверь втянул в себя воздух и принюхался. Затем по стене к мамушкиной кровати скользнула его тень. Вот тень остановилась. На стене тень походила на большое лохматое тёмное пятно с львиными ушами и клыкастой пастью, но это был не лев. Большой, страшный зверь с лохматой гривой и большими светящимися как два оранжевых блюдца, глазами подошёл к постели умирающей и обнюхал мамушкино лицо, как бы желая понять, жива она или уже нет.
– А-а-а… это ты, собиратель. Жива, я, милый…, жива, – проговорила Елена Никаноровна чуть слышно и, подняв руку, опустила её на широкий лоб зверя. – Как же я могу умереть, не попрощавшись с тобой. – В ответ зверь лизнул мамушкину руку и сел около кровати на задние лапы. – Я думала о тебе, – продолжила говорить старушка, – Я хотела передать своё мастерство добрым людям, особенно детям, но видно не судьба. Ты тоже не нашёл никого из людей, кто бы мог этим заняться? – спросила она зверя.
Зверь в ответ отрицательно покачал лохматой головой. Он видимо понимал человеческую речь, и старушка знала, что он понимает её, но только зверь не говорил, возможно, он не хотел мешать Елене Никаноровне высказаться в этот последний час.
– Храни тебя бог, – сказала мамушка. – Правду отшельник говорил, что всему свои сроки. – Тут ей стало трудно говорить, и она замолчала.
– Я буду стеречь твой дом, когда в нём уже никого, никого не будет, – проговорил зверь человеческим голосом похожим на скрип большого дерева.
– Этого не требуется, – поспешно сказала Елена Никаноровна, – будь свободен; пока я жива, то никому не нужна, кроме моих деток, то разве что изменится после смерти. Уходи… Скоро сюда придут страшные люди и не оставят здесь камня на камне… Спасибо тебе, милый, послужил. Передай отшельнику от меня спасибо, что не забыл старую игрушечницу. А теперь, собиратель, посиди ещё чуток и когда дыхание моё остановится, закрой мои глаза и ступай. Да, кстати, а брат твой, хранитель, не возвратился из дальних стран? уже должен быть здесь. – Спросила мамушка, – что-то его изразец недвижим?
– Этого никто не знает, – проговорил зверь и лёг около мамушкиной кровати на полу, положив косматую голову на передние лапы и прикрыв глаза.
– Ты собиратель, – сказала старушка почти шёпотом, твоя задача собрать всё, что осталось от сделанного умельцами, как повелел тебе отшельник, и передать собранное хранителю.
– Я помню об этом, – промолвил зверь. – Я много чего в его отсутствие успел. Огромная пещера, скрытая в Соколовой горе от человечесчкого глаза, заполнена; в ней не хватает только твоих изделий. Я сделаю всё, что мне поручено.
– Жди хранителя, – прошептала старушка. Больше Елена Никаноровна не сказала ни слова.
Ночью старушки не стало, гирька опустилась до пола и старая добрая игрушечница, умерла. И люди в окрестностях, аж до самого Сенного базара, услышали полный горести громкий звериный рык. От этого рыка взлетели с карнизов, близ находившейся церкви, в ночное небо испугавшиеся голуби. Звуковая волна от рычания достигла колоколов на звоннице, ударилась о них и те отозвались тихим одновременным гулом. Прснувшийся звонарь, выглянул в окно и, взглянув на часы, перекрестился, лёг на другой бок и сказав только одно слово «почудилось», уснул, а дворник Никита, ночевавший во дворе под вишней, вдруг сел, покрутил взлахмаченой головой, прогоняя остатки дрёмы, поскрябал бороду, подошёл к калитке, выглянул на улицу, думая, что просигналила какая-то большая машина, но ничего не увидев, снова лёг под вишню.
От этого рыка проснулся и вошёл в комнату мамушки мальчик Глиня. В комнате никого не было. Глиня стоял рядом с кроватью и не понимал, почему мамушка не шевелится и не гладит его рукой по голове. Он даже не заметил, как прямо к изголовью умершей спустился на паутинке паук Федя. Мы о нём уже упоминали, когда говорили о воробье Крошкине. Федя повисел над Еленой Никаноровной, погладил двумя паучиными ножками мальчика Глиню по голове и глубоко и горестно вздохнув, медленно, перебирая лапками по паутинке, стал подниматься к потолку. Ножки его скользили, так как паутинка была мокрой от горьких паучьих слёз.
Я думаю, что ты читатель, уже догадался, что всё многочисленное семейство старого дома по Большой Горной улице были игрушки. И были они сделаны из самой обыкновенной глины, которую Елена Никаноровна хранила в сарае в больших ларях. На эту-то глину и наткнулся в потёмках Муха.
Ах! Если бы знал Пал Палыч, что Леня Пегасов принёс ему на экспертизу именно глину из сарая, когда-то известной и забытой игрушечницы. Если бы он знал, что именно в этот дом завозили его в детстве к дальней родственнице попить воды? Если бы он это знал! Впрочем, кажется, он стал о чём-то догадываться.
Глава 7. Непризнанная болезнь
На следующий день, после обеда, к дому, крытому красной черепицей, на Большой Горной подъехала машина с крупной надписью «РИТУАЛ». Из неё вышли одетые в чёрное сотрудники похоронной фирмы, положили Елену Никаноровну в гроб и унесли. Сторож Никита ещё походил немного по горнице старого дома, поскрипел половицами, похмыкал, поглядел на испуганных глиняшек и сказал: «Вот мы и осиротели… Нет вашей мамушки…, нет моего лучшего друга… То-то и оно… Что теперь со всем этим будет? – Он помолчал и добавил, – Просил меня один господин, вроде добрый, позвонить, когда Никаноровна преставится. Дом этот он намеревается купить, отремонтировать. Я его попрошу, чтоб вас не забыл…».
Никита ещё немножко посидел, взял молоток и пошёл забивать гвоздями ставни.
Как только Никита заколотил ставни и в доме образовался полумрак, игрушки сразу зашевелились, послышались вздохи. Обитатели старого дома под черепичной крышей без Елены Никаноровны сразу почувствовали своё одиночество и беспомощность. Они ходили по комнатам, не зная чем себя занять. Каждый думал о своём, но вместе, если соединить их разрозненные мысли, они думали об одном и том же – «что будет?». Свистопляс тыкал трезубцем в стык между половицами, бороться с недугами человечества ему как-то не хотелось. Пустолай подошёл к двери в сенях, поцарапал её лапой, но дверь была плотно закрыта дворником, выйти во двор было нельзя. Мурлотик лежал с закрытыми глазами, но не спал и даже не дремал, просто, лёжа с закрытыми глазами, ему удобнее было отдаваться своим философским размышлениям. Овечка и козочка присмирели и не стукались лбами, а отрешённо смотрели на Заступника, который ходил взад и вперёд по столу, держа на плече дубину. И если бы он не ходил взад и вперёд, то наверняка бы расплакался. Откровенно плакали, обняв друг друга руками, только двое – Дуня и Катерина. Их лица были мокры от слёз. Куда-то подевалась весёлость Васи. Он сидел на маленькой скамеечке, сделанной специально для него, чтобы было удобно играть, но не играл, а только нажимал на клавиши, да теребил ремни гармошки.
Через некоторое время за окном раздался звук подъезжающего автомобиля, послышались голоса, заскрипели ступеньки крыльца, щёлкнул замок. Игрушки быстро спрятались за зеркальные половинки трельяжа, занавешенные, как и полагается в случае покойника в доме, материей и стали оттуда наблюдать за происходящим.
В комнату вошёл Никита, он щёлкнул электровыключателем, комната осветилась и игрушки увидели маленького жирненького господинчика с круглой головой, мясистыми ушами, двойным подбородком и смеющимся, одним, видным игрушкам, глазом. Господинчик стоял к игрушкам боком «Добрячёк» – подумали разом игрушки, подсматривая за вошедшими. Вслед за добрячком в комнату вошла длинноногая молодая девица с синими волосами и выражением удивления на хорошеньком личике.
Глядя на маленького добренького господинчика и на девицу с приятным выражением лица, у игрушек немного отлегло от сердца. «Этот добрячёк не сделает нам ничего худого, – подумали они, – и «Барби» (так они прозвали синеволосую милашку), очень даже прелестное существо и тоже не сделает нам ничего худого». И они уже хотели выйти из-за трельяжа, как вдруг миленькая барышня увидела паука. Это был, уже известный нам, паук Федя. Федя спускался с потолочины, чтобы посмотреть, что за люди пришли в дом и как ему к этому относиться? Особенно ему хотелось рассмотреть красивую молодую женщину с синими волосами, потому как он за свою долгую жизнь в доме Елены Никаноровны никогда не видел синих волос и потому он спускался прямо к ней, а точнее к её синим волосам, чтобы поближе их рассмотреть. И это желание в Феде было столь сильно, что он забыл про присущую паукам осторожность.
Мамушка знала Федю, и Федя её знал и потому никогда не развешивал паутину на видном месте, чтобы не досаждать хозяйке и не заставлять её снимать паутину веником. Это была негласная договорённость и обе стороны её неукоснительно соблюдали, поэтому Федю можно назвать пауком очень деликатным. Феде, конечно, очень хотелось дотронуться до синей волосинки хоть одной лапкой, ну хоть самый чуток и потому он спускался всё ниже и ниже, пока не повис на паутинке напротив синей чёлки.
– Ах! Что это за гадость!!! – вскричала девица, увидев Федю и её хорошенькое личико, вдруг исказилось в брезгливой гримассе, которая одновременно выражала испуг, презрение, возмущение и гадливость, густо замешанные на нескрываемой возмущённой злости.
Ах, уж эта возмущённая злость, как она искажает лица! Делает их безобразными и в этом безобразии отталкивающими. Как правило, эту злость, у большинства людей, первыми проявляют и выказывают глаза. Они загораются нестерпимым огнём ярости. Так происходит у многих людей, но только не у этой Барби. Взгляд её стал отчуждённо ледяным. От этого взгляда будто тысячи снежных игл пронзили горницу. Паук Федя тотчас решил убраться подальше и быстро,… быстро заработал всеми ножками, поднимаясь к потолку, где в выпавшем сучке у него был устроен очень приличный домик.
Игрушки, таким изменением в синеволосой, были просто ошарашены. Взгляд её был высокомерен, поза вызывающая, мимика презрительная.
– Что здесь смотреть, – сказала Барби, сморщив носик, – обыкновенный хлам. Неужели, милый, ты этот дом собираешься ремонтировать? Это не формат. Он же от древности провонял пауками и тараканами. А может быть в нём даже водятся клопы?… Это ужасно, дорогой. Говорят, клопы могут столетиями пребывать во сне, а потом, при благоприятных условиях, просыпаться, бегать и кусать. Это ужасно. Тут дурно пахнет, – и она зажала носик пальчиками.
Слово «Не формат» эта особа употребляла в каждом случае, если она хотела отстоять своё мнение и при этом не показаться обыкновенной симпатичной глупышкой.
– «От этой Барби добра не жди», – разом подумали игрушки, втискиваясь подальше за трильяж и стараясь не попасться ей на глаза.
– Хорошо, Зинуля, я не буду ремонтировать это старьё, мы его снесём, а на его месте выстроим коттедж. Ты довольна, милая? – Уступчиво проговорил добрячёк, явно не желая спорить с синеволосой.
– «Добрый, но подкаблучник», – подумала Катерина, наблюдая за сценой в доме.
– Как же так, – сказал недоумённо дворник, – вы же говорили, что будете ремонтировать? В таком разе я бы и дел никаких с вами не имел, и деньги ваши мне не нужны…
– Он тебе говорил это для того, чтобы ты караулил дом, берёзовый пень, а не для того, чтобы задавал сейчас глупые вопросы, – взвизгнула Зина, повернувшись к дворнику Никите, и вперив в него мышиные глазки.
– Да,.. да, разумеется, – проговорил толстячёк и вдруг игрушки увидели, что у «добрячка» один, левый глаз совсем добрый, а другой, правый – совсем, совсем злой. И когда он стоял к глиняшкам левым боком, то казался очаровательно добрым и милым, а когда поворачивался правым боком, то игрушки старались на него не смотреть, потому, как им было страшно. «Злюнчик» – подумали они разом.
Конечно, Барби-Зина очень рассердилась, увидев в непосредственной близости от своего носа серенькое волосатое брюшко Феди. И тут в гневе она увидела высунувшуюся из-за трельяжа часть Дуниного платья и трезубец Свистопляса. Барби-Зина подошла к трельяжу и со словами, – «кто же здесь прячется?», вытянула сначала из укрытия Свистопляса, рассмотрела, близоруко приблизив его к кукольному личику, и со словами: «Уродина» и «Тьфу», отложила горемычного в сторону, а вот Дуню стала с интересом оглядывать со всех сторон.
– Ах, какая милашка, – проговорила она. – У этой старушенции был не дурной вкус.
– Оставь, Зина,… ну что ты, право, как маленькая.
– Да нет, ты посмотри на эту кукленцию, Фома Фомич! Не будь букой – обратилась она к «добрячку». – Может быть возьмём?.. забавненькая штукенция… (разумеется глиняшки слово «добрячёк» уже воспринимали в отрицательном смысле, то есть «Злюнчик» И если они в дальнейшем и произносят слово «Добрячёк», то с прямопротивоположным пониманием его значения).
– Гм… Интересная поделка, – проговорил «добрячёк», названный синеволосой Фомой Фомичём. – Надо показать Эдуарду Аркадьевичу, он специалист, возможно, всё это и представляет какую-то ценность?
– Я возьму? – сказала синеволосая.
– Сейчас, Зина, ничего не бери, вот приедем с подрядчиком, тогда.
– Хорошо, милый, – и синеволосая, поставив Дуню на стол, вытерла носовым платочком кончики пальцев.
Потом «добрячёк» и синеволосая девица уехали, пообещав Никите приехать с подрядчиком и окончательно решить судьбу дома. После их отъезда, Никита запер дверь и ушёл, ворча под нос: «Люди жили, жили, и на тебе, ломать. Этот дом ещё сто лет простоит и не покосится. Ошалели. Истинно ошалели. Вон сколько в городе негодящих построек, сноси не хочу, а они крепкий ещё дом на снос… Для них он, видите ли, не формат. Вот людишки-человечишки. Слово-то придумали… «не формат»… тьфу… вот гад-паразит. Эх, грехи наши тяжкие, – и он отправился на своё излюбленное место под вишню. Устроившись под вишней на старом ватнике, сунутом под голову, он долго ворочался и всё ворчал, – Не формат, не формат. «За это слово удобно подлость прятать, – думал он. – Это слово подлости значительность придаёт и чем больше подлость, тем выше значительность». «Есть же простые русские слова, – рассуждал он, – нет же, накрутят… навертят. Изъясняться понятно разучились и всё это от того, что мысли свои не хотят показывать, потому и прячутся за такие слова-паразиты. Вот Никита изъясняется понятно и ясно, а почему? Да потому, что ему скрывать от людей нечего».
Добродушный Никита ощущал всем телом несправедливость в отношении дома и обман в отношении самого себя. Потом, он никак не мог понять, почему достаточно крепкие постройки, которые ещё можно отремонтировать и они смогут служить десятилетия, надо непременно ломать? В конце концов, их можно отдать неимущим, тем же бомжам, не имеющим над головой крыши, зарегистрировать их в этих домах? Только почему-то никто об этом не думает? Вот он, Никита, думает, а кому положено об этом думать – не думают.
Его размышления прервали доносившиеся от сараев звуки. Никита скосил глаз и увидел, как какая-то незнакомая ему шавка, грызёт под кустом сливы старую выбеленную ветрами и морозами кость. И снова в его голову пришли мысли. Он подумал: «Даже для бродячих собак сделали в городе приют, а люди скитаются по подвалам. Так нельзя. Собака хоть природно защищена: от стужи шерстью, от голода всеядностью, а человек никак. Желудок собаки приспособлен и она может есть всякие отбросы, а у человека желудок не приспособлен, но он их ест, потому, как надо поддерживать в теле жизнь…».
Так думал Никита и старался найти ответ на заданный самому себе вопрос. Точнее вопросы. Этих вопросов у Никиты было много, ну, например такие: зачем человеку наживать миллиарды долларов, когда нескольких десятков тысяч ему достаточно, чтобы безбедно жить до самой смерти? И ещё – зачем человеку иметь несколько домов в городе и квартир, когда и одного дома девать некуда? «Это от жадности, – думал Никита, – а жадность от чего?». Не знает Никита от чего жадность в человеке пребывает. «Наверное, это болезнь такая, – думает он,– забирается в человека и заставляет его копить безудержно, а остановиться он не может и становится вроде пьяницы – пьёт вино до тех пор, пока не свалится в канаву. Если это так, то тогда не надо писать в газетах, что в стране столько-то миллиардеров, а надо так и написать, что в стране столько-то больных жадностью людей, а столько-то больных гриппом или скарлатиной. Только вот как вылечить этих людей от страшной болезни накопительства, дворник не знает». Потом он стал опять думать о бездомных людях и ему их было очень жалко – так бы и взял их всех в свою комнатёнку. Только куда он их возьмёт, когда в ней и так помещается только кровать и стол с двумя табуретками?