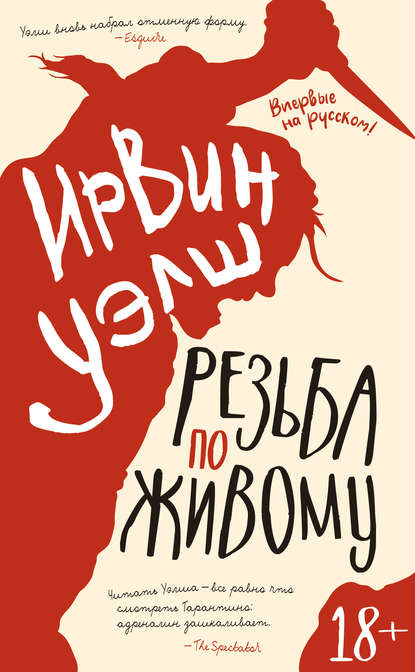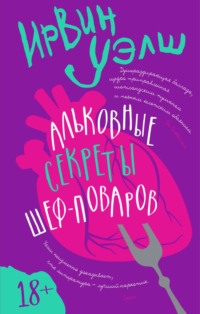Полная версия
Джинсы мертвых торчков
Довольный кивок – признак того, что все путем.
– В Эдинбурге же хорошие шотландские пелотки?
– Город славится самыми сногсшибательными красотками в мире, – заливаю я. – Там есть местечко под названием «Стандард-лайф» – даже не спрашивай, братан.
Он заинтригованно выгибает брови:
– «Стандард-лайф»? Это клуб такой?
– Скорее состояние души.
Когда приземляемся, внимательно изучаю мейлы, эсэмэски, наспех отвечаю на некоторые, собираю до кучи диджеев и, как зомби, регистрируюсь в очередном отеле. Отправляю диджеев спать и, прикорнув немного сам, выхожу побродить по Лит-уок, где стоит мрачный холод, обжигающий после калифорнийского, да и каталонского солнца. Но впервые за десятки лет я иду уверенным шагом, больше не парясь, что могу напороться на Бегби.
Как ни странно, некоторые отрезки бульвара разбитых надежд не слишком-то и отличаются от тех мест Барселоны, откуда я только что свалил: подмарафеченные старые пабы, кругом студенты, обшарпанные жилые дома, похожие на дешевые вставные зубы в просветах между многоквартирками, прикольные кафешки, едальни всех вкусов и направлений. Все это комфортно уживается с кучей до боли привычного: смутно знакомый чмырь с бычком в зубах возле «Альгамбры» ехидно на меня пялится, но это почему-то успокаивает.
На батину хату у реки. Я прожил там пару лет, после того как мы переехали с Форта, но никогда не чувствовал сибя там дома. Сами знаете, превращаешься в пиздюка без собственной жизни, твоей вонючей жопой владеет поздний капитализм, а такие вот моменты становятся в напряг, и ты без конца проверяешь на трубе мейлы и эсэмэски. Я вместе с батей, своей невесткой Шерон, своей племянницей Мариной и ее грудными близняшками Эрлом и Уайаттом, которые выглядят совершенно одинаково, хотя характеры у них и разные. Шерон раскабанела. Сейчас все в Шотландии кажутся жирнее. Теребя сережку, она извиняется, что они живут в комнатах для гостей, а я в гостинице. Я говорю, что меня не парит: для моей капризной спины необходим специальный матрас. Объясняю, что номер в отеле входит в деловые расходы: мои диджеи играют в городе сейшена. Работяги редко догоняют, что обычно богатые хорошо кушают, спят и путешествуют опять-таки за их счет – путем налоговых вычетов. Не сказать, что я богач, но все же втерся в этот мир – в третий класс той кормушки, что наживается на бедноте. В Нидерландах я официально плачу больше налогов, чем платил бы в Штатах, но лучше отдавать бабки голландцам на строительство дамб, чем пиндосам – на производство бомб.
После обеда, приготовленного Шерон и Мариной, оттягиваемся в этой уютной тесной комнатке, и пьется очень хорошо. У старикана пока еще приличная осанка, плечи широкие, хотя слегка и сутулые, и незаметно, чтобы мышцы чересчур усохли. Он уже в том возрасте, когда вообще ничего не удивляет. Его политические взгляды сместились вправо – в таком ноющем старперско-ностальгическом, а не яро-принципиальном реакционном изводе, но все равно это плачевное состояние для бывшего члена профсоюза, которое указывает на глубокий экзистенциальный кризис. Это утекание надежды, мечтаний, стремления изменить мир и замена их пустой злобой – верный признак того, что ты медленно умираешь. Но он хотя бы пожил: нет ничего хуже, чем иметь такие политические убеждения еще в юности, как если бы эта важнейшая часть твоей личности была мертворожденной. Невеселый блеск у него в глазах говорит о том, что ему не дает покоя тоскливая мысль.
– Вспоминаю папку твоего, – говорит он Марине, имея в виду моего брата Билли, которого та никогда не видела.
– Ну началось, – смеется Марина, но ей нравится слышать про Билли.
Даже мне нравится. За все эти годы я научился представлять его преданным, надежным старшим братом, а не буйным чморящим солдафоном, хотя такой его образ долго у меня преобладал. Лишь позднее до меня дошло, что эти состояния друг друга дополняли. Но смерть нередко выводит хорошие качества на передний план.
– Помню, после того как он погиб, – говорит батя, и когда он поворачивается ко мне, голос у него дрожит, – твоя маманя с окна выглянула. Он как раз домой на побывку прибыл и в те ж выходные вернулся. Его одежки еще сушилися – все, кроме джинс, «ливайсов» его. Какая-то сволочь паршивая, – он не то смеется, не то хмурится, все еще злясь спустя все эти годы, – с веревки их стыбзила.
– Это были его любимые джинсы. – Мое лицо расплывается в натянутой улыбке, когда я смотрю на Шерон. – Он считал, что немного похож в них на того поца с рекламы, который снимает их в прачечной и кладет в стиралку-сушилку. Потом знаменитостью стал.
– Ник Кеймен! – радостно вскрикивает Шерон.
– А кто это? – спрашивает Марина.
– Ты не в курсах, тебя еще не было.
Батя смотрит на нас, слегка дуясь на нашу легкомысленную вставку:
– Кэти так переживала, что даж его любимых джинс не осталось. Бегала наверх к нему в комнату и все его одежки на кровать вылаживала. Месяцами с рук их не выпускала. Я тада их в секонд-хенд снес, а она так потом расстроилась, как узнала, что нету их. – Его душат слезы, и Марина хватает его за руку. – Так меня за это и не простила.
– Попустись ты, старой придурок с Глазго, – говорю ему. – Простила она тебя, простила!
Он вымучивает улыбку. Базар переходит на похороны Билли, и мы с Шерон виновато смотрим друг на друга. Стремно вспоминать, как я трахал ее в тубзике после этого смурного мероприятия, а внутри у нее уже была неродившаяся Марина, которая теперь сидит и успокаивает батяню вместе со своей собственной детворой. Теперь я бы это классифицировал как дурное поведение.
Батя поворачивается ко мне и говорит осуждающим тоном:
– Хорошо было б и с мальцом повидаться.
– Алекс, ну, это просто невозможно было, – размышляю вслух.
– Как там Алекс, Марк?
Она так толком и не узнала своего кузенчика. И снова я виноват.
– Он должен быть тут – он такая ж часть нашей семьи, как и любой с нас, – задиристо ворчит батя с таким лицом типа «ща как уебу». Но мине и без ниво хреново с этой темы.
– Па, – мягко упрекает Шерон.
Она называет его так чаще меня, хоть сама и невестка, – и с бóльшим на то основанием.
– Ну и как элитная жизнь, Марк? – Марина меняет тему. – Встречаешься с кем-то?
– Больно ты любопытная! – говорит Шерон.
– Я никогда о своих шурах-мурах не треплюсь, – говорю и восхитительно смущаюсь, как школота прям, когда вспоминаю за Викки. Теперь я уже сам переключаюсь на другую волну и киваю старику: – Я рассказывал, что мы опять с Фрэнком Бегби корешимся?
– Слыхал, у него все путем с этим художеством, – говорит батя. – Говорят, он щас там в Калифорнии. Прально, кстати, сделал. Тут у него никого, кроме врагов, не осталося.
2
Полицейский харассмент
«Довольно милый домишко», – признает он. Такой средиземноморский лощено-антикварный вид, как у многих домов в Санта-Барбаре, с архитектурой в испанском колониальном стиле, красной черепицей на крыше и беленым двором, заросшим ползучей бугенвиллеей. Становится все жарче, бриз с океана затих, а солнце над головой печет в затылок: верх на кабриолете откинут. Но еще больше Гарри мучает то, что он ведет слежку без полицейской бляхи. Густой комок извечной желудочной кислоты вот-вот поднимется и обожжет пищевод, хоть он и принял эту гадость, что отпускают в аптеке без рецепта. Временно отстранен, грядет разбирательство. «Что это, блядь, вообще значило? Эти мудилы из ОВР[3] вообще собираются расследование проводить?» Гарри околачивается у заброшенного дома Фрэнсисов в этом тихом тупике в Санта-Барбаре уже много месяцев, опасаясь, что убийца, с которым живет Мелани, сделал что-нибудь с ней и их детьми, как он наверняка поступил с теми бомжами Сантьяго и Кувером.
Неплохое местечко для наблюдения: сужающаяся улица на повороте с хайвея, недалеко от тесного перекрестка, а затем съезд на фривей. Выбрав это место, они, наверное, посчитали себя очень умными. Гарри беззвучно усмехается, а влажная рука оставляет мокрый след на кожаном руле, который он крепко сжимает, хотя машина уже давно стоит без движения. «Близко к центру, доступ к шоссе».
«Засранцы».
Долгое время в его поле зрения попадала лишь пара из соседнего дома. У них собака – такая большая японская помесь. Иногда мама Мелани – он помнит ее по школьной поре, такая же красотка, как ее стерва-дочь, – заезжает, чтобы забрать почту. Сейчас она уже бабуля, ее светлые волосы становятся пепельно-серыми, да вдобавок очки в серебристой оправе. Ей можно еще вдуть, если повезет? Черт, ну конечно, Гарри с радостью дал бы старушке на пробу свой хер. Но не она его мишень. Не она и не две маленькие внучки, которых оставили ей Мелани и убийца и за которыми она теперь присматривает.
Кажется, прошла целая вечность, хотя, наверное, всего пара дней, и внезапно, как-то ближе к вечеру, Мелани возвращается. Машина тормозит, а вот и они: ее маленькие дочурки – старшая немногим моложе, чем была сама Мелани, когда Гарри впервые ее встретил… а вот и он… выродок, за которого она вышла.
Гарри потирает щетину на лице, поворачивает зеркало заднего вида, чтобы не пропустить, если кто-то или что-то появится из-за угла у него за спиной, на этой тихой улице с деревьями по бокам. Подумать только: он когда-то равнялся на Мелани, считал ее сильной, умной и доброй. Но он ошибался: она слабая, сбитая с толку собственной самодовольной либеральной херью – легкая добыча для этого зверюги. Гарри так и видит его перед собой, с этим его странноватым грубым голосом, как он по-блатному ее облапошивает, дурит на голубом глазу, – типичный выходец из низов. Но возможно, она просто ослеплена. И если так, Гарри обязан помочь ей прозреть.
Он наблюдает, как старый уебанский «Патрик» помогает обеим дочкам выйти из универсала и проводит их в дом. Как мерзко он озирается, обводя взглядом улицу. Мразь, мразь, мразь. «Ох, Мел, что ж ты, блядь, творишь-то?» Она работала с убийцей в ирландской тюряге (или шотландской? Да какая, нахуй, разница!), где он впервые ее и развел. Она уже тогда знала, что он убийца! Она что, и впрямь рассчитывала, что он изменится? Как же она не видит его насквозь?
Те двое бродяг… От Кувера никаких следов, – вероятно, вода и рыбы упражняются сейчас над его трупом. Хрен с ним. Но второй, Сантьяго, зацепился за нефтяную платформу, и, несмотря на размозженное лицо и огнестрельное ранение, его еще легко было опознать. Пулю извлекли, подписали и спрятали в хранилище вещдоков. Она могла бы привести к так и не найденному оружию. Но сам Гарри больше не занимается этим делом (как и любым другим), а всем остальным глубоко насрать.
Затем Мелани появляется снова – в синей толстовке, кроссовках и шортах. Вышла на пробежку? Нет. Она садится в машину. Одна. Пользуясь случаем, Гарри ждет, пока она проедет мимо, а затем трогается и сидит у нее на хвосте до самого торгового центра. Это хорошо. Место общественное: о его мотивах она не догадается.
Он заходит вслед за ней внутрь, прошмыгивает мимо, а затем останавливается и поворачивает обратно, чтобы как бы случайно с ней столкнуться. Видя, как он подходит, расплываясь в улыбке узнавания, она демонстративно отворачивается. Это хреново. Даже после всего, что случилось, после того звонка по пьяни, он не ожидал такого вопиющего игнора. Он должен что-то сказать.
– Мелани, – умоляет он, шагая к ней и разводя руки. – Мне нужно извиниться. Я совершил страшную ошибку.
Она останавливается. С опаской смотрит на него, сложив руки на груди:
– Хорошо. И покончим с этим.
Гарри медленно кивает. Он знает, что́ с ней прокатит.
– Я лечился от алкогольной зависимости и регулярно посещаю собрания. Мне важно загладить вину. Можно угостить тебя кофе? Ну пожалуйста! Для меня это так много значит.
Тон у него умоляющий и взволнованный. «Либералам нравится слышать, что люди по природе хорошие и стараются стать лучше. Почему бы и мне не развести ее так же, как этот психованный сраный зэк, за которого она вышла?»
Мелани откидывает волосы назад, вздыхает и устало указывает в сторону фуд-корта. Они направляются туда и находят места в «Старбаксе», неподалеку от стойки. Пока Гарри становится в очередь и заказывает два латте с обезжиренным молоком, Мелани говорит по телефону. Он прислушивается. Она говорит о нем? Нет, похоже на безобидные банальности, которыми обмениваются с подругой. «Да, вернулись… Девочки нормально… Да, Джим тоже. По-моему, нам обоим полезно было вырваться. Весь прошлый год налаживали отношения с родней… Сицилия чудесная. Еда… мне пора в спортзал, причем срочно!»
Гарри ставит оба кофе на стол, пододвигает один ей и садится напротив. Мелани берет свою чашку, опасливо отпивает, бормочет какую-то благодарность. Телефон лежит перед ней на столе. Тут нужен осторожный подход. Наверное, у нее сохранилась запись сообщения, оставленного прошлым летом, когда Гарри был пьяным, безмозглым и слабым. Хитрый выродок, за которого она вышла, об этом наверняка позаботился. Но Мелани должна знать, что зацепилась за убийцу-психопата. И Гарри это докажет. Он объяснит, что Джим Фрэнсис убил тех двоих.
Поначалу они любезно беседуют об учебе в колледже и школьных годах, вспоминают общих знакомых. Все идет гладко, кажется Гарри, прямо по методичке для копов о межличностных отношениях. «Акцентируйте нормальность. Войдите в доверие». И похоже, это работает. Черт, Гарри даже вытягивает из Мелани улыбку, пересказывая историю об одном их приятеле. Гарри это, как всегда, возбуждает. Позволяет на миг представить, как все могло бы быть. Поэтому он говорит немного о себе. О том, что мама недолго протянула после смерти отца, как бы просто сдалась. О том, что он унаследовал прекрасный старый дом в лесу. Слегка на отшибе, но для Гарри это не важно. Однако затем что-то идет не так. Внезапно всплывает та часть его натуры, что отчаянно хочет быть с Мелани, в этом доме, и Гарри слишком резко перескакивает на другую тему. Не может сдержаться. Не может скрыть в себе копа.
– У тебя крупные неприятности, Мелани. – Он серьезно и натянуто качает головой. – Ты не знаешь, что за человек Джим!
Мелани закатывает глаза, берет телефон и кладет обратно в сумочку. Смотрит на Гарри невозмутимо и говорит медленно, размеренным тоном:
– Отвали от нас нахер. От меня, моего мужа и наших детей. – Она повышает голос, призывая ближайших посетителей в свидетели этой сцены: – Тебя предупредили!
Гарри втягивает воздух, потрясенный глубиной ее отвращения.
– Меня отстранили от работы. Я потерял все, но я никогда ему не позволю тебе навредить!
– Мне вредит не Джим, а ты! Я сказала: подойдешь еще хоть раз – подам официальную жалобу, через адвоката, и отправлю в твой отдел копию записи. – Мелани встает, забрасывая сумочку на плечо. – Так что держись подальше от моей семьи!
Гарри надувает губы, нижняя непроизвольно дрожит, но затем он отворачивается и видит перед собой двух женщин, которые их подслушивали.
– Дамы, – язвительно приветствует он, замедленно закипая.
После чего отпивает латте и в отчаянии смотрит на след помады на краю другой чашки. Как будто оставлен призраком, за которым Гарри гонялся большую часть жизни. Разумеется, когда он оборачивается, Мелани уже нет – растворилась в толпе покупателей. Гарри даже не верится, что она вообще сидела так близко.
Вернувшись домой, Мелани застает Джима на кухне – тот готовит сэндвич. Это замысловатое многослойное блюдо, куда входят нежирная грудка индейки, ломтики авокадо, помидоры и швейцарский сыр. Способность мужа целиком погружаться в самые земные и самые сложные дела никогда не переставала ее изумлять. Спокойная самоотдача, с которой он подходит ко всему на свете. В окно Мелани замечает, как девочки играют во дворе с новым щенком, – его не видно, но она слышит радостный лай. Джим поднимает на нее глаза и улыбается. Улыбка сползает, стоит ему почувствовать: что-то не так.
– Что такое, милая?
Мелани выпрямляет руки и, вцепившись в кухонную стойку, выгибает спину, чтобы снять напряжение.
– Гарри. Столкнулась с ним в торговом центре. Подозреваю, что он это подстроил. Поначалу деликатно извинялся, и я выпила с ним кофе в «Старбаксе». Но потом снова понес свою бредятину, мол, ты убил тех двух парней на пляже! Пригрозила ему записью, и он отвалил.
Джим делает глубокий вдох:
– Если это повторится, возможно, придется принять меры. Обратиться к адвокату и подать на него в суд за харассмент.
– Джим, ты иностранный гражданин, и у тебя есть судимости. – Мелани хмуро смотрит на него. – Власти ведь не знают об этой стороне твоей жизни.
– Эти двое… я взорвал их фургон…
– Если все это всплывет, тебя могут депортировать.
– В Шотландию? – Джим вдруг усмехается. – Я не переживу, если девочки будут говорить так же, как я!
– Джим…
Джим Фрэнсис шагает к Мелани, заполняя пустоту между ними, обнимает жену. Через ее плечо он видит, как их дочки играют с Созе, недавно купленным французским бульдогом.
– Тс-с, все нормально, – воркует Джим, успокаивая не только ее, но и себя. – Мы все разрулим. Давай просто отмечать Рождество.
«Рождество под лучами солнца»[4], – думает он, затем вспоминает Эдинбург, и по спине пробегает призрачный холодок.
3
Тиндер-шминдер
Юэн Маккоркиндейл рассматривает себя в зеркале ванной. Ему больше нравится то, что он видит, снимая очки: черты становятся расплывчатыми, и это радует. Пятьдесят лет. Полстолетия. И куда все это ушло? Он снова надевает очки и рассматривает голову, все больше напоминающую голый череп, со стриженной под машинку серебристой щетиной на макушке. Затем Юэн смотрит на свои босые ступни – розовые полоски на подогретом черном кафельном полу. В этом и состоит его работа – так другие изучают лица. Сколько стоп перевидал он за свою жизнь? Тысячи. Возможно, даже сотни тысяч. Плоские, вывернутые, поломанные, раздробленные, расплющенные, обожженные, рубцеватые, ямчатые, инфицированные. Но у него не такие: его ступни сохранились лучше, чем остальные части тела.
Выйдя из ванной в спальню, Юэн быстро одевается, слегка завидуя еще спящей жене. Карлотта почти на десять лет моложе и хорошо справляется со средним возрастом. Около тридцати пяти ее разнесло, и Юэн втайне мечтал, что от матери ей достанется немного обивочной мягкости: ему нравятся женщины, склонные к полноте. Но затем жесткий режим с диетой и спортзалом словно вернул Карлотту обратно во времени: она не только приблизилась к своему девичьему облику, но в некотором роде даже превзошла его. Когда они с Юэном только начали встречаться, у нее и близко не было таких мускулов, а йога наделила ее гибкостью и амплитудой движений, ранее для нее недоступными. Сейчас в Юэне резко пробуждается гнетущее чувство, которое, как он надеялся, с возрастом полностью угаснет, а именно: в этих отношениях он всячески пытается прыгнуть выше головы.
Впрочем, Юэн – преданный муж и отец, который ведет супружескую жизнь, с радостью потакая жене и сыну. В первую очередь это касается Рождества. Он обожает итальянскую светскую расточительность Карлотты и никому бы не пожелал собственного спартанского прошлого. В «малой свободной»[5] семье день рождения, пришедшийся на сочельник, был залогом нужды и беспризорности. Но для Юэна удовольствие от праздников обычно ограничивается Карлоттой и Россом. Его добродушие склонно рассеиваться, когда в эту смесь добавляются другие, а завтра он устраивает рождественский ужин для жениной родни. Карлоттина мать Эвита, сестра Луиза, муж Лу Джерри и детишки – с ними все хорошо. Но вот в ее брате Саймоне, что руководит сомнительным эскортным агентством в Лондоне, Юэн уверен гораздо меньше.
Слава богу, Росс и сын Саймона Бен, кажется, ладят между собой. Тоже неплохо. В последние два дня Саймон появлялся редко. Приехав из Лондона вместе с Беном, Саймон беспардонно свалил бедного молодого человека на них, а сам куда-то смылся. Ну так, вообще-то, не делают. Недаром же Бен – такой смирный паренек.
Юэн находит Росса на кухне: еще в пижаме и халате, тот сидит за столом и играет в игру на своем айпаде.
– С добрым утром, сынок.
– С добрым утром, пап.
Росс поднимает голову, выпячивая нижнюю губу. «Никаких тебе сднемрождений. Ну да ладно». У сына явно на уме что-то другое.
– А Бен где?
– Спит еще.
– У вас все нормально, ребят?
Сын корчит гримасу, смысл которой Юэн не может понять, и захлопывает айпад.
– Угу… просто… – И тут Росс вдруг взрывается: – У миня никада не будет подружки! Я так и останусь до смерти девственником!
Юэн морщится. «Боже, он же спит в одной спальне с Беном. Бен – славный парень, но он старше, и он все-таки сын Саймона».
– Бен дразнит тебя из-за девочек?
– При чем тут Бен? В школе все кругом. У них у всех подружки есть.
– Сынок, тебе же пятнадцать. Все еще впереди.
Росс пристально разглядывает отца: глаза сына сначала расширяются в ужасе, а затем сужаются до щелочек. Юэну становится не по себе. Этот взгляд как бы говорит: «Ты можешь стать или богом, или посмешищем – все зависит от того, как ты ответишь на следующий вопрос».
– Сколько тебе было… – мальчик запинается, – когда ты первый раз сделал это с девчонкой?
«Блядь». Что-то твердое и тупое ударяет изнутри.
– Вообще-то, мне кажется, такие вопросы отцу не задают… – нервно произносит Юэн. – Послушай, Росс…
– Так сколько?! – командует сын в неподдельном отчаянии.
Юэн смотрит на Росса. Мальчик часто кажется ему все тем же прежним взъерошенным сорванцом. Однако некоторая поджарость и прыщеватость, ну и более угрюмое настроение указывают на продолжающуюся атаку полового созревания, а значит, и неизбежность этого разговора в той или иной форме. Но ведь Юэн мрачно предполагал, что нынешние мальчишки и девчонки смотрят экстремальную порнографию по интернету и знакомятся в социальных сетях, делают друг с другом что-то омерзительное, а затем снимают чудовищные, постыдные видео и выкладывают их в сеть. Он ожидал, что придется решать психологические проблемы, связанные с посткапиталистическим изобилием, и вот он сталкивается с классическим дефицитом. Он прокашливается.
– Понимаешь, сынок, тогда другие времена были…
Как рассказать мальчику, что школьный секс был в деревне под запретом, неизбежно подразумевая перепихон с кровным родственником? (Хотя некоторых это не останавливало!) Как рассказать, что ему уже стукнуло двадцать два и он учился в универе, когда впервые в полном объеме насладился совокуплением с женщиной? Что мать Росса, Карлотта, – тогда восемнадцатилетняя, а он уже двадцатипятилетний, но она оказалась гораздо опытнее – была всего-навсего второй его любовницей?
– Мне было пятнадцать, сынок, – решает он приукрасить один случай, когда полапал за сиськи пришедшую в гости подругу своей двоюродной сестры, и превращает его в сцену крышесъемного, безудержного проникающего секса. Что не так трудно сделать, ведь он мастурбировал, фантазируя об этом, бесчисленное множество раз. – Помню как сейчас, это ведь было примерно в такую же пору, через пару дней после моего дня рождения, – говорит он, довольный тем, как ловко напомнил. – Так что не волнуйся, ты еще молодой паренек. – Он взлохмачивает мальчику волосы. – Время работает на тебя, боец.
– Спасибо, пап. – Росс шмыгает носом, слегка успокоившись. – И с днем рожденья, кстати.
После этого Росс бежит обратно наверх в свою комнату. Не успевает он уйти, Юэн слышит, как в замке входной двери поворачивается ключ. Выглянув в прихожую проверить, он видит, как в дом прокрадывается шурин. Взгляд у Саймона не мутный, а скорее шальной, копна седовато-черных волос, выбритых по бокам, всклокочена, лицо все еще угловатое, с выпирающими скулами и заостренным подбородком. Значит, снова не ночевал дома, не воспользовался комнатой для гостей, которую ему выделили. Какая дичь: хуже подростка.
– Ты дома, Юэн, – говорит Саймон Дэвид Уильямсон с шаловливым задором и мгновенно обезоруживает Юэна, всучивая ему открытку и бутылку шампанского. – С полтинником, корешок! А сестручча где? До сих пор валяется в Ясир Арафате?[6]
– У нее на завтра куча дел, так что, наверное, отсыпается, – сообщает Юэн, возвращаясь в кухню, ставит шампанское на мраморную столешницу и смотрит в открытку.
Там картинка с юрким фасонистым мужиком, одетым как дирижер с палочкой, под ручку с грудастыми девахами по бокам, обе со скрипками. Подпись: «ЧЕМ СТАРШЕ СКРИПОЧКА, ТЕМ ПЕСНЯ ВЕСЕЛЕЙ, ТАК ЧТО ДАВАЙ СКРИПИ ЖИВЕЙ! С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ!»
Саймон испепеляюще-пристально следит за тем, как Юэн рассматривает его подарок. Юэн поднимает глаза на шурина и своего гостя и неожиданно чувствует, что растроган.
– Спасибо, Саймон… Хорошо хоть кто-то вспомнил… О моем дне рождения во всей этой рождественской кутерьме обычно забывают.
– Ты родился за день до этого дибильного хиппана на кресте, – кивает Саймон. – Я помню.
– Ну, я признателен. И чем же ты занимался ночью?