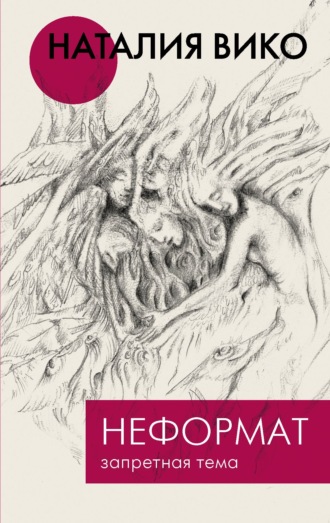
Полная версия
Неформат. Запретная тема

Наталия Вико
Неформат. Запретная тема
И мне горько за вас, Отче: вы лишили неба множества зверей только за то, что они – звери, меж тем я доказала, как велико их достоинство.
Джордано Бруно. «Изгнание торжествующего зверя»© Текст. Наталия Вико, 2021
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2021
У меня нет возраста. У меня есть годы. Возраст – растет воз. Своя ноша, свои радости и печали. У меня этого нет. Есть годы, наполненные людьми, событиями, чувствами, взаимосвязями, познаниями мира и сущего. Это радостно. Мои годы были прекрасны даже утратами и одиночеством. У меня никогда не будет возраста… Будут, надеюсь, годы…
С самого рождения я была личностью нестандартной.
«Неформат» какой-то. Нормальные люди в восьмимесячном возрасте себя не помнят даже при очень большом желании. А я – помню! Все началось с телепортации. У нас была огромная железная кровать со всякими прибамбасами, маман меня сажала в центре, обкладывала подушками, чтобы я не скатилась, и уходила в магазин. И вот как сейчас вижу: на мне голубые ползуночки, рубашечка голубая в горошек, вкус уже тогда был отменный, ничего не скажешь, сижу я на кровати, пальцы свои изучаю – увлекательное занятие! И вдруг р-раз! – и оказываюсь в центре нашего ереванского двора. В такой же йоговской позе и с тем же умным видом. Многие, кстати, говорят, что я с годами мало изменилась. В смысле умного вида. Отовсюду сбежались соседи, все кричат, маман примчалась, пробралась сквозь толпу: «Зачем ребенка принесли сюда? Кто посмел?! Что за безобразие?» А люди и до нее в недоумении были, а с ее приходом вообще растерялись. До сих пор не могу понять, как я там очутилась, процесс перемещения остался за кадром. Я на кровати, а после сразу в той же сосредоточенной позе, на траве.
Потом помню себя, когда умер Сталин! Что во дворе творилось! Кто рыдал, кто радовался, а я подумала: «Вот оно – первое важное событие в моей жизни!» Надо сказать, к тому времени я уже немного начала беспокоиться: жизнь-то проходит зря, пятый год пошел, а ничего знаменательного не происходит. Маман заметила недетский трагизм в детских глазах и, решив, что дитё психологически созрело, начала пичкать меня русской литературой. Я всегда была окружена книгами: Пушкиным, Лермонтовым, сказками всякими, и читала. Все в нашем дворе учили армянский язык, а я русский. Это, думаю, объяснялось тем, что маман в молодости была влюблена в русского полковника Главного разведывательного управления, который не смог на ней жениться по секретным причинам, и однажды под прикрытием ночи тайно покинул ее славный город. А любовь к России ей оставил. Я учила все наизусть, память была отличная. Но в этом таились и драматические моменты. Долгие годы при многозначительной фразе: «Деточка, а сегодня к нам придут гости!» мне хотелось выпрыгнуть в окно.
Сейчас, конечно, таких мыслей уже не возникает, потому как трудно представить даже в самом кошмарном сне, что меня кто-то поставит на табуретку, предварительно завязав бантик, и радостно воскликнет: «Сейчас наш Норик почитает нам Пушкина!». А тогда деточке приходилось отдуваться. Потому что, если бы я не отдувалась, матушка бы вопила истошным голосом, что я ее «позорю и лишаю авторитета в обществе». Я не знала, кто такой этот Авторитет, но по маминому лицу понимала, что он ей жизненно необходим.
Меня она обожала до шизофрении, с самого детства причитая: «Я просто мечтаю, чтобы ты умерла раньше меня, а то как же ты будешь, несчастная, без мамочки жить!»
В семь лет, перед школой, она на всякий случай удалила мне аппендицит, аденоиды и гланды. Вдруг когда-нибудь прихватит, а ее не будет рядом? Я отнеслась к этому с философским спокойствием, считая, что всем детям первого класса престижной ереванской школы имени Пушкина в обязательном порядке необходимо удалить все лишние части тела или органы, которые могут помешать им хорошо учиться. Тем более, что маме было виднее – в школе работал ее дядя по линии двоюродного дедушки. Надо сказать, все родственники мамы жили в Ереване. Ее двоюродный брат – декан физкультурного института, другой брат – собкор «Известий», дядя – министр юстиции Армении, и все прочие были тоже прекрасно устроены. Еще была одна тетка, которая шила шляпки. Теперь-то я понимаю, что эти произведения искусства были изготовлены в стиле шляп английской аристократии, а тогда считала тетушку душевнобольной. Какой ребенок может серьезно отнестись к фетровым или соломенным дырявым «ведрам» и «тазикам» с перьями и похоронного вида искусственными цветами?
А мамуля моя, Варька, в этой распрекрасной семейке была Золушкой. При одном ее появлении у родни начинался в лучшем случае нервный тик. Все от нее шарахались, потому как, будучи физически крепкой особой, она обладала неповторимым умением намертво хватать родственников за те места, которые ей подворачивались, и начинать долго и нудно плакаться о нашей тяжелой доле. Затем в ход шла пехота: мне завязывали на голову бантик, тащили к родне и заставляли канючить: «Ой, дядя Миша, – имя менялось, в зависимости от объекта нападения, – кушать хочется, а денег нету-у!» Сообразив, что пора предпринимать серьезные меры, чтобы прекратить это безобразие, я решила пойти на преступление. У моей двоюродной сестры был дар собирательства, она коллекционировала все, что можно было коллекционировать: фантики, бабочек, жуков-тараканов и марки. Мой аналитический ум подсказал, что из-за украденного «таракана» скандал будет меньшим, нежели из-за красивой марки, и я свистнула из ее альбома, не глядя, несколько штук. Как потом оказалось самых ценных. Поднялся скандал, все перессорились и, вернув марки, счастливых полгода мы никуда не ходили. Скорбно произнеся: «Ты совершила преступление, и тебя заберут на каторгу!» – маман подсунула мне Достоевского, которого я полюбила только на втором томе за фразу: «Счастье всего мира не стоит слезы на щеке невинного ребенка».
Отца, прекрасного художника, директора художественной мастерской в нашем дворе, где, кстати, делали знаменитую «Мать Армению», я обожала. Шикарный, высокий, колоритный, всегда в военном мундире – женщины на него просто вешались! Он меня баловал, каждое утро делал «гоголь-моголь» и приносил в кровать, подарки оставлял на тумбочке. Я просыпалась, а у меня то сандалии новые стоят, то маечка красивая лежит. Мать, понятно, устраивала мужу-красавцу вечные скандалы, из-за которых мы периодически лишались части посуды и мебели. Причем заканчивались эти истории всегда одинаково – маман, заламывая руки, кричала: «Ты меня никогда не любил!», на что отец неизменно отвечал спокойным тоном: «Ты меня тоже». У матушки на лице появлялась удовлетворенная усталость, и она гордо покидала поле боя. Видимо, ссоры собственно и затевались для того, чтобы услышать от отца именно эту фразу, которая почему-то сразу же все расставляла по своим местам. Вполне понятно, что папа старался все время сбегать в командировки, так как контроль со стороны супруги его периодически раздражал и побуждал к смене места нахождения. Чаще всего сбегал он в Среднюю Азию, привозя оттуда вино, отрезы, подарки, но мать, несмотря на эти дары, продолжала находиться с ним в состоянии войны, очевидно, все-таки выливая на него свое раздражение за то, что он – не полковник ГРУ.
Отец научил меня многому: отстаивать свое мнение, не обижать слабых, драться, играть в футбол, нарды. Я, видимо, поэтому или почему по-другому, всегда воспринимала себя, как мальчика. У меня за всю жизнь была только одна маленькая кукла, которую звали Света. Это удивительно, потому что, когда я родила дочь, назвала ее именно Светой, хотя о кукле уже, понятное дело, думать забыла. Странно, мать ведь меня очень любила, но при этом все время норовила унизить, причем преимущественно унизить на людях, спать с собой укладывала до четырнадцати лет, тетёшкала до такой степени, что у меня даже какой-то момент был период безумной любви к ней. Вот до чего довели!
Но я любила ее странною любовью – когда она молчала. Есть такая особенная любовь, оказывается. Смотришь на человека, и в душе рождается невероятная нежность и тепло к нему. И вот тут он неосторожно открывает рот, и ты думаешь: «Ну и на фига ты это сделал?! Ведь все было так хорошо!»
Когда я пошла учиться, общение с подругами ограничивалось стенами школы. Мой дом был закрыт для всех. Кроме дочки министра торговли. Мама ее обожала. И говорила, что эта девочка может научить меня только хорошему. Особенно она любила водить меня к ней в гости, а потом в ожидании сидеть на скамеечке и притворно жаловаться всем прохожим, посматривая на часы: «Эх, заигралась что-то моя девочка у дочки министра торговли! Вот всегда они так, просто не разлей вода!»
Как же я мечтала сбежать от матушки!! Вообще это обостренное чувство свободы – составляющая часть моей крови! А воспоминание о бантиках вообще «все деньги». Это у меня выражение такое. Означает, если с моего языка перевести, примерно следующее: «Никаких денег мира не хватит, чтобы дать понять кому-то, что в данном случае я имею ввиду, потому что для этого просто нет слов. Ну или разве одно какое-нибудь». Так вот. Маман постоянно в школу завязывала шелковые банты, огромные, как пропеллеры. Не себе, понятно, завязывала, а мне, может, кстати, поэтому в юности у меня страсть к самолетам проснулась, не знаю. Эти пропеллеры жутко раздражали, и я, с трудом донеся их до школы и проводив Варьку леденящим душу взором, тут же эту гадость с головы стаскивала и запихивала в портфель. А после урока, на перемене, как чертик из табакерки с воплем: «Так я и знала!» выскакивала мамаша и снова их на моей бедной голове завязывала. Бантики были трагедией моего детства!
Многие мне сочувствовали, в том числе красивая девочка Алла, полуеврейка-полуармянка, к которой я тоже прониклась за ее нежную душу. Почти Шекспир: «она его за муки полюбила, а он ее – за состраданье к ним». А в шестом классе к нам пришел очень грустный мальчик, и я сразу же определила, что он похож на Печорина. Вот в него все и повлюблялись, как в «героя нашего времени». Ну, почти все. И началось! Девчонки на переменках в стайки сбивались, тайнами делились, кто в кого влюбился, а я сидела, как невлюбленная дура и тупо молчала. И придумала себе персонаж. То есть персонаж был настоящим, невымышленным – мальчишка, с которым мы подружились, когда с маман ездили отдыхать в Крым. Он учился в соседней школе, вот я и придумала, что у меня к нему высокое чувство. Периодически для пущего убеждения окружающих, томно вздыхая, глядя в окно или вдруг мечтательно и многозначительно произнося: «Да-а-а…», я уже почти сама себя убедила в своих страданиях.
У нас в классе был актив – три девочки, которым до всего было дело, просто тимуровцы какие-то. И однажды они решили добиться справедливости по их пионерским понятиям, потому что я, показав фотографию объекта моих страданий и наслушавшись любовных излияний своих подруг, так вошла в роль, что принялась активно играть трагедию, мол, сейчас немедленно скончаюсь от безответной любви. А этот актив так начал мне активно сопереживать, что я поняла: необходимо этот спектакль немедленно заканчивать и изобразила, что коварный изменник меня окончательно и бесповоротно бросил. Ситуация становилась опасной, явно кренясь не в ту сторону. Шестой класс! Уже было не до учебы, она вообще отошла как-то в сторону в один день, когда юные следопыты обнаружили место проживания этого бедного, ни о чем не подозревающего мальчика и отправились к нему домой на разборку. Представьте, звонок в дверь, на пороге три аккуратные отличницы, которые с презрением в открытом пионерском взгляде возмущенно восклицают: «Роберт!! Как вы можете?! Вас любит такая девочка! Она хорошая! Пишет такие сочинения! Чертит прекрасно! Историю с географией любит! А вы ее бросили?!» Он же бедный пятится, за голову хватается и орет: «Что-о-о?? Кого я бросил?» – в ужасе оглядываясь на замершую в проеме двери маму в атласном халате, в папильотках на голове и с сигаретой в зубах.
А мне донесли, что актив пошел спасать мое высокое женское чувство к предмету моей любви. И я представила: они через двадцать минут вернутся в школу, выяснив, что все это – неправда… Ужас, просто ужас! Конец света! Бросив последний взор на голубое небо, на всякий случай проверив, не летит ли мне на помощь что-нибудь инопланетное, я решила срочно повеситься. У меня был ранец с хорошим, крепким кожаным ремнем, я отправилась в туалет, отцепила ремень и повесилась. Ловко так, будто постоянно практиковалась. Девчонки пришли, меня нигде нет, зашли в туалет, а я там болтаюсь. Мне Варька вместе с классиками русской литературы основательно внушили, что лучше смерть, чем позор. Вытащили меня из петли, водой облили, а я все перевернула: «Роберт специально вам сказал, что мы только дружим, потому что очень вас испугался – уж больно у вас вид положительный». Они и поверили.
Вскоре случилась беда: отца забрали в больницу с сильнейшим приступом астмы: он очень много курил. Это ужасно, конечно, – лучше уж пить, чем курить. Помню наш последний разговор у больничной койки. Поманив меня пальцем, он шепнул: «Я знаю, ты давно мечтаешь о велосипеде… я попросил… скоро мой друг его тебе принесет». И – умер. А на другой день мне от него принесли подарок… Я смотрела на велосипед, и казалось, что в нем еще осталась какая-то капелька папиной жизни, но, выйдя из дома за хлебом и вернувшись, велосипеда уже не увидела. Мать сказала, что сломала его и выбросила, потому что я могла бы с него упасть и разбиться, и этот «сюрприз был последним необдуманным поступком отца».
Денег отец не оставил. Он все время кому-то помогал, кого-то спасал, давал в долг и считал неприличным об этом напоминать. Мать же была совершенно не приспособлена к жизни и попыталась опять заставить меня просить подаяния у родственников. Я, естественно, отказалась и после очередного скандала гордо удалилась жить к девяносточетырехлетней бабушке Осанне, которая целыми днями полулежала в кружевах на диване с томиком чего-то французского. Но прожила я там недолго. Варька с нервирующей периодичностью появлялась у бабули, заливая меня и все окружающее пространство потоками безмерной материнской любви, и я, в целях сохранения жизни и здравого рассудка милой Осанны, приняла решение вернуться домой. А в связи с тем, что матушке надо было помогать, вскоре устроилась в вечернюю школу и пошла работать на радиозавод собирать радиодетали. Работа была нудной, в пятнадцать лет усидеть одним местом в школе, а потом тем же местом на заводе – было просто невыносимо. А жить когда?
Возможно, вследствие поиска смысла жизни вскоре и случился еще один серьезный конфликт с Варькой. Она бегала за мной по квартире и пыталась отхлестать кухонным полотенцем, я увертывалась, отстаивая свое право на самоопределение со свойственной мне решимостью. Поэтому в доме после этого стало недоставать многих привычных предметов, в том числе настольной лампы, китайской вазы и графина. Шума было много, но из-за чего? Я не пришла ночевать. Всего-то! В то время я влюбилась. В небо. Беззаветно и на всю жизнь! Я вообще очень верный человек, если еще об этом не говорила. Небо звало меня к себе с младенчества, когда отец укладывал свое чадо спать во дворе под звездами. Потом, с годами, я все чаще и чаще поднимала глаза к небу, ища ту, свою звезду, свой настоящий и единственный дом. Стремление к свободе, любовь к небу, желание подняться над ситуациями и проблемами и, очевидно, воспоминание об огромных пропеллерах, которые матушка с таким старанием сооружала на моей голове, привели меня в аэроклуб.
О, как я обожала самолеты! Относясь к ним как к большим небесным птицам, я порой испытывала непреодолимое желание покормить их с рук или почесать где-нибудь под крылышком. Уже в шестнадцать лет я сделала свой первый прыжок. Никогда не забуду, как раскрылся парашют, подбросив меня вверх, словно в далеком детстве на папиных качелях, и показалось – он здесь, совсем рядом, в этом небе, гордится мной и хранит своей любовью. После этого по субботам и воскресеньям я не уходила из клуба, оставаясь там ночевать. Шум двигателя казался мне музыкой, а слова «лонжерон», «фюзеляж», «фланца», «монокок» манили своей загадкой, мистикой и чем-то неуловимо французским. Почему французским? Не знаю. Я произносила напевно и слегка гнусавя: «лонжерон-н-н» и, лежа под крылом самолета, представляла себя пролетающей над далеким и манящим, к слову, до сих пор манящим, так как я там еще не бывала, Парижем.
Первые мои самостоятельные полеты на планере придали уверенности: небо – это моя стихия! Методом исключения я тут же пришла к выводу, что вода, соответственно, – не моя. Кто только ни учил меня плавать! Какие титанические усилия затрачивали несчастные и упорные доброжелатели! Бесполезно. Я безоговорочно шла ко дну. И, выведя свою формулу: «Рожденный летать – плавать не может», всецело отдалась небу.
Варька не знала, что со мной делать. И однажды придумала, сообщив, что моя святая обязанность сопроводить ее в Баку, где жила мать моего отца, соответственно, моя бабуля номер два. Город мне очень понравился – чистый, красивый, веселый. Все были приветливые и улыбчивые, на улицах часто слышался смех. Всюду витал манящий запах моря и нефти. Матушка, видимо, прекрасно осознавала, что нефть и деньги неразделимы, и именно поэтому начала с самого порога окучивать бедную бабулю, которая, правда, отнюдь не была бедной, хотя к нефти отношения не имела. Ну, бывают в жизни исключения.
Я с любопытством ринулась осваивать новое пространство, и город очаровывал меня все больше и больше: мощеный лабиринт Бакинской крепости, старые кварталы, набережная, по которой прогуливались влюбленные парочки – от всего этого веяло романтикой и счастьем. Через два дня разразился скандал. Мать по своей привычке начала канючить и просить денег, а бабуля послала ее со всей принципиальностью человека, имеющего отношение к запаху денег и нефти. На другой день маман собрала вещи и вместе со мной покинула непреклонную свекровь. Ну, что поделать, со свекровями редко кому везет! А на пороге, когда я уже была за калиткой дома, громогласно прокляла бабулю. И вот ведь прав старик Тютчев: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». В данном случае слово отозвалось далеко не лучшим образом. Буквально через несколько дней бабушка зацепилась платьем за газовую горелку и сгорела заживо. И тут вся родня ринулась искать, где их «куркулиха» спрятала деньги. Дед, отец моего отца, имел до революции завод в Баку, огромную деревню в Нагорном Карабахе, владел фабрикой, был бережлив и скуп, поэтому все знали – деньги есть, но вот где? Сначала бойкой родней был перевернут весь дом. Затем раскопки продолжились в саду. Бабуля, безусловно, увидев бы такое количество родственников с остервенением вскапывающих ее огород и все, что его окружало, просто рыдала от умиления и счастья, что сумела-таки воспитать в своих потомках любовь к труду. Надо заметить, что бабка оказалась, видимо, поклонницей истории про кота Базилио и лису Алису – вскоре из земли под радостные крики родни выкопали шесть кувшинов, полных золотых монет. Мать, узнав про находку, рванула было снова в Баку, но я встала на пороге, пригрозив, что если она это сделает, потеряю к ней последнее уважение, и матушка осталась дома.
Между тем события начали развиваться весьма неожиданно: в меня влюбился молоденький армянин из Греции, заявив в порыве страсти, что в свои почти двадцать лет имеет полное представление, как обеспечить женщину и деньгами, и любовью. И вот в один знаменательный вечер этот прекрасный греческий армянин, или армянский грек, заявился к нам просить моей шестнадцатилетней руки. В самом начале его взволнованной речи матушка отказала ему с таким темпераментом женщины гор, что парень кубарем летел по лестнице. А я от радости, что в кои-то веки наши с маман взгляды на жизнь и мое место в обществе совпали, включила радио и начала танцевать. Итак, включила музыку порадоваться, что замуж не выхожу, и вдруг слышу – поет знаменитая тогда Майя Кристалинская:
Усть-Илим на далекой таежной реке,Усть-Илим от огней городских вдалеке,Пахнут хвоей зеленые звезды тайги,И вполголоса сосны читают стихи.Позови – я пройду сквозь глухую тайгу,Позови – я приду сквозь метель и пургу…Тут я плюхнулась на диван от неожиданного прояснения сознания: мне необходимо быть там! Бежать! Бежать!! На волю!!! В тайгу!!! Одна в жизни радость была – аэроклуб, а все остальное – нудянка: подъем в пять утра, радиозавод, вечерняя школа, а после нее Варька с нервным тиком по поводу моего здоровья, целости и сохранности. Ночь прошла в мечтах о неведомых мирах, и на другой день я отправилась в райком комсомола. Перед этим, конечно, долго думала, в чем идти, осознавая серьезность момента. Одеться в черное уж очень мрачно, в белое – за святую могут принять, вообще в райкоме на порог не пустят. Надела серое платье, накинула пальтишко и уже на ходу схватила шляпку, крепко нахлобучив ее на голову. Иду по городу, и все на меня оборачиваются и улыбаются. То, что они дружно попали под обаяние моей неземной красоты, мне, конечно, в голову не пришло, я с юных лет отличалась сообразительностью и скромностью. Поэтому решила, что от меня исходит свечение от комсомольской сознательности. И только войдя в здание райкома и бросив взгляд в огромное зеркало около бюста Ильича, я поняла, в чем было дело. Из-под шляпки торчала ярко-красная перчатка, которую я впопыхах не заметила. К слову, недавно увидела на показе мод в Париже – по ТВ, конечно – супермодель в такой шляпке, из-под которой торчала перчатка. Приятно, не скрою, что спустя пятьдесят лет французы взяли на вооружение мою творческую идею!
Поднимаюсь по лестнице, иду по коридору и, решительно перешагнув порог кабинета, заявляю: «Пошлите меня в Усть-Илим! Причем немедленно!» Секретарь райкома чуть из кресла не вывалился: «Куда?!» Я объясняю, мол, туда, о чем Кристалинская поет: «Где сосны читают стихи». Он испугался чего-то, схватился за трубку, видимо, на помощь хотел позвать, но я решительно сделала шаг вперед и с металлом в голосе произнесла: «Товарищ секретарь, никуда звонить не надо! Я прошу вас меня послать, и вы меня пошлете!» Секретарь что-то закричал про мои «шестнадцать лет, золотое детство, мамино крыло» и о суровых сибирских морозах, но я стояла на своем – хочу и поеду!
После райкома домой попала только вечером. Сначала работа, потом школа, пришла без сил, даже ужинать не смогла, не раздеваясь, упала на кровать и уснула. Просыпаюсь от звонка будильника, он у меня в металлической миске стоял, чтобы уж звук был слышен наверняка, пытаюсь дотянуться до него, чтобы в очередной раз заткнуть навеки, и с ужасом осознаю – я привязана к кровати по рукам и ногам. Не шевельнуться. Выяснилось – секретарь райкома настучал о моем приходе Варьке, велев за мной присматривать, потому что я ворвалась в его кабинет и требовала немедленно сослать меня в Сибирь, потому что якобы чувствую, что я – Майя Кристалинская и мне необходимо поехать и что-то спеть читающим стихи соснам.
Мало того, что каждую ночь до этого матушка под вой соседского Шарика приходила ко мне в комнату со свечой в белой рубашке до пят и, наклоняясь к моему лицу, а иногда почти хватая за нос, проверяла, дышу я или нет, так теперь у нее вообще началась клиника. Вызвав врача и посадив меня на больничный, мать начала окончательно посвящать мне всю свою оставшуюся жизнь. Как назло, к нам заглянули цыгане-погорельцы, и одна из них, напившись воды, озорно сверкнув глазами, бросила взгляд на мое пятно на голове – тонкое, розовое, и заявила: «О-о, что у вас за ребенок, вы даже не знаете, какой это ребенок!» Мать, конечно, не поняла, что та имела ввиду, но с этого момента начала присматривать за мной еще более настойчиво. Мне очень хотелось сказать маме, что я знаю ее тайну, и поэтому считаю, что она не имеет права меня душить своей любовью, но… я молчала.
А тайна была такова. Лет в тринадцать, когда я вышла из дома, ко мне подошла одна очень добрая женщина и спросила: «А ты знаешь, что это не твоя родная мать?»
Я глаза вытаращила: «Как это так?» А она продолжила: «Пойди к бабушке, тебе расскажут…»
* * *Как частица Бога, так ад и рай – в самом человеке. У каждого свой ад и свой рай. У каждого свое понятие Божества, и не надо бояться ничего. Надо быть снисходительным к людям, приносящим свой рай к тебе, который может стать адом. Не сотворя себе кумира, имей свое Божество, частица которого и есть ты – отнюдь не венец творения…
* * *Я помчалась к бабуле. И та поведала: в молодости у отца был роман с молоденькой девушкой из крутой русской семьи. Девушка забеременела, они еще встречались, потом отец уехал по делам в Самарканд, а вернувшись, обнаружил, что девушки-то и след простыл. Как потом оказалось, она меня родила и сразу же сдала в детский дом. Отец бросился на мои поиски, сначала в Ереван, потом в Баку. Несколько месяцев искал, забрал из детского дома, посадил в машину, я только сидеть научилась, сейчас, конечно, трудно себе представить, что я когда-то сидеть не умела, и повез домой.










