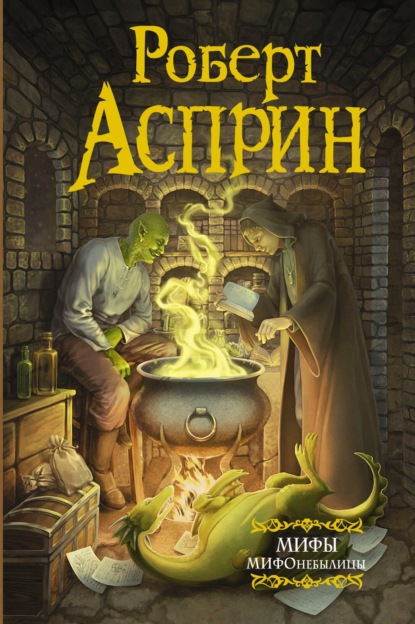Полная версия
Блеск минувших дней
Она быстро встает, все так же потупившись. Он приказывает ей поднять голову. Она подчиняется, стараясь не смотреть ему в глаза. На нем халат синего шелка, свободно подпоясанный. Под халатом – ничего. Он крупный мужчина; немолодой, но все еще брюнет, почти без седины. Военачальник, который командовал армиями и завоевал этот город мечом. Такое часто случалось. Фолько тоже наемник.
Но Фолько не такой, как этот человек. Этот – чудовище, и она пришла в его логово. Пламя в камине дрожит. Это мой выбор, снова напоминает себе Адрия.
– Ты такая старая, – произнес граф Милазии. – Товар, забытый на прилавке на солнцепеке. Увядающий, как увядает все прекрасное. – Это звучало, как стихи, только вот в ее жизни на стихи вечно не хватало времени. – Расстегни пуговицы, – велит он. – Ну же. Покажи себя.
Она смотрит на него, широко раскрыв глаза. Чуть было не прикусывает губу, но вовремя спохватывается. Он улыбается и подходит ближе. Кладет ладонь на ее предплечье – не резко, просто для того, чтобы подвести ее к одному из каминов. Там больше света, понимает она. Он хочет ее рассмотреть. Она дрожит. Это уже была не игра. «Ты не отрицаешь страх, ты его побеждаешь». Она подносит руки к пуговицам платья, которое привезли для нее на ферму: зеленый корсаж, отдельные рукава – красно-коричневые, как и длинная юбка, доходящая до щиколоток.
Он наблюдает, не отрывая глаз от ее пальцев. Пуговицы твердые, нетрудно сделать вид, что все это в новинку для нее, рослой, неуклюжей крестьянской девицы, привыкшей носить тунику до колен, которую надевают через голову. Если бы граф осмотрел ее руки, то убедился бы, что они огрубели от работы. Она провела здесь, на ферме, несколько месяцев, а перед тем, как поехать на юг, работала на открытом воздухе в Акорси. Это придумал Фолько. Он из тех, кто все продумывает заранее.
Граф отходит немного назад, пристально глядя на нее. Она заканчивает возиться с пуговицами, и верх платья распахивается.
– Старая, – снова произносит Уберто, который смотрит не на ее руки, а на грудь. – Слишком старая, слишком долговязая. Перезрелый плод. И губы тонкие.
Ей нужно, чтобы он ее поцеловал или она поцеловала его руку. Но он не должен понять, что она этого хочет. Все чего-нибудь хотят, думает она.
Он опять подходит ближе. Она отворачивается.
– Нет, – произносит граф Уберто Милазийский. – Нет. Ты не должна отворачиваться. Только не от меня.
Она молчит. Он кладет два пальца левой руки ей на щеку и силой поворачивает ее лицом к себе. Она начинает дрожать. При виде этого он улыбается.
Ему нравится, когда его боятся, думает она.
Он передвигает руку с ее щеки на затылок, вцепляется ей в волосы и притягивает к себе. Его рот накрывает ее губы, грубо впиваясь в них.
В то же мгновение его правая рука вонзает в ее бедро кинжал.
Адрия вскрикивает. Боль подобна стремительной и мощной волне, и она понимает: возможно, клинок этого человека отравлен.
Только вот у нее самой ядна губах.
Между слоем яда и непосредственно кожей специальная прослойка, которая защищает от смерти носителя. По крайней мере, так обещал ей человек из Эспераньи, когда она еще была дома, в Акорси.
Уберто проворачивает кинжал в ране, потом выдергивает его. Адрию пронзают боль и отчаяние.
– Мой господин! – восклицает она. – За что?!..
– Больно, да? В самом остром наслаждении сокрыта боль, – говорит человек, который был здешним правителем. – Сегодня ночью ты это узнаешь.
Он все еще держит в руке клинок. Адрия смотрит вниз. На ее разорванном платье проступает кровь, и на ковре кровь тоже. Серьезная рана. Неизвестно, сможет ли она идти. Если нет, это означает смерть.
Но…
Она позволяет себе сделать несколько нетвердых шагов к камину, словно потеряла равновесие из-за раны в ноге. Он наблюдает за ней потемневшим взглядом. Можно даже сказать – голодным.
– Мы рождаемся в крови, – говорит Уберто Милазийский. – Девушке твоего возраста это должно быть известно уже много лет.
Адрия опирается рукой о стену рядом с камином.
– Мой господин, – повторяет она, всхлипывая. Ей кажется, что нога вот-вот перестанет ее держать. Она и в самом деле не знает, сможет ли опереться на нее. Ей хочется заплакать. «Все чего-нибудь хотят».
– Раздевайся, – велит он. – Надо взглянуть на твою рану. Мы должны ею заняться.
– Вы ударили меня кинжалом, мой господин, – отвечает Адрия, чтобы потянуть время. Человек из Эспераньи обещал, что долго ждать не придется.
– Да, ударил. И, возможно, ударю снова, а также проделаю еще некоторые другие…
Человек из Эспераньи не солгал. Уберто Милазийский начинает фразу, но так и не заканчивает ее, как не закончит уже никакую другую.
При виде того, как кинжал падает из его руки, Адрия ощущает не только облегчение, но и, кроме всего прочего, холодное удовольствие. Быть может, она умрет здесь, если не сможет нормально двигаться, но когда стоящий перед ней мужчина подносит руку к горлу, открывает рот, чтобы закричать, оттуда не вылетает ни звука. Это человек из Эспераньи тоже обещал: жертва не сможет закричать, позвать на помощь. Уберто просто рухнет, не произнеся ни слова, хотя при падении может возникнуть шум.
Шум действительно был, но негромкий. Уберто вытягивает руку в поисках опоры, но там, где он стоит, ничего не оказалось. Те, кто стоят снаружи, могут посчитать тихий, глухой звук удара об пол частью всего, что здесь происходит, так же, как и ее крик. В конце концов, думает Адрия, я не первый человек, который кричит в этой комнате в обществе Уберто Милазийского.
Однако она станет последней. Вот и всё.
Его глаза широко открыты, в них застыл ужас. Задыхаясь, он обеими руками вцепился в свое горло. Наверное, удовольствие, которое Адрия испытывает сейчас, недостойное чувство, но она не собирается задумываться об этом. Она отходит прочь от стены и камина, и у нее чуть не подламывается нога. Девушка охает от боли. Однако Уберто вонзил кинжал не до конца, не по самую рукоять. Он только хотел, чтобы она боялась. Возможно, кровь его возбуждала, но на лезвии не было яда. Значит, его нет и у нее в теле.
Она смотрит на мужчину, лежащего на ковре. Он все еще пытается позвать на помощь – управляющего за дверью, или святого Джада, или отогнать демонов, которых, возможно, видит сейчас, когда заканчивается его земная жизнь.
Но он еще не умер. Адрия наклоняется, задохнувшись от боли, которую причинило движение, и подбирает упавший кинжал. Стоя над графом, она спокойно произносит своим обычным голосом:
– Фолько Чино д’Акорси решил, что ты попусту тратишь жизнь, подаренную тебе Джадом. Мое имя – Адрия Риполи. Ты должен знать мой род. А теперь умри в страданиях, навсегда лишенный света.
Синий халат графа распахнулся. Перенеся вес на здоровую ногу, Адрия нагибается и вонзает кинжал в гениталии жертвы. А потом делает это еще раз – для верности и за всех тех, кто погиб в этой комнате.
Адрию нельзя назвать добросердечной женщиной, и всю ее родню тоже; но когда перед вашим внутренним взором предстают все эти охваченные ужасом дети, которых приводили сюда для жестокого надругательства, а иногда и убийства, это может заставить вас прибавить кинжал к яду на губах и пустить его в ход именнотак.
Она смотрит, как он умирает. Еще больше крови – очень много крови – на этом красивом восточном ковре. Именно такой конец, по ее мнению, граф и заслужил – умереть голым и изувеченным. Если и существуют в их мире люди хуже его, Адрия не хотела бы оказаться в одной комнате с кем-либо из них. Впрочем, теперь Уберто принадлежит Джаду, который вынесет ему окончательный приговор. И на этот суд его отправила именно она, Адрия. Ей же предстоит еще кое-что сделать – если, конечно, она сможет и если ей действительно хочется жить. А жить ей очень хотелось; Адрия не была готова предстать перед Джадом.
– Мой господин, прошу вас! – громко произносит она голосом девушки с фермы. Потом бросает кинжал и, хромая, подходит к окнам, стараясь не плакать. В одно из них вставлены и закреплены новомодные стекла, другое по старинке закрывают ставни. Это тоже взяли на заметку еще до ее появления здесь. Фолько подготовился. Его люди тоже подготовились, иначе они не были бы его людьми.
Она открывает ставни. Те скрипят, но очень тихо. Этот звук не услышат. Адрия высовывается из окна и смотрит вниз.
Веревка на месте; привязанная к крюку в каменной стене, она исчезает в темноте. Некоторое время назад они заслали в Милазию человека, который умел взбираться на стены. Он должен был вбить крюк предыдущей ночью, а сегодня вечером, после того, как стало известно, что ее вызвали в замок, привязать веревку. Ей же следовало оставить ставни открытыми, чтобы стражники, вбежав, кинулись к окну, увидели веревку…
И пришли к ложному выводу. Потому что в действительности по этой стене невозможно сбежать из дворца. Для нее – невозможно. Три этажа над уровнем земли – Адрия, конечно, обладала навыками, полезными для нее самой и для Фолько, но спуск по веревке в их число не входил. К тому же на площади внизу всегда дежурили стражники.
Однако тем, кто вбежит в эту комнату, неизвестно, что она умеет, а что не умеет. Они не подозревают о том, что Фолько подкупил бывшего слугу из замка Уберто, чтобы тот описал им внутренние помещения в покоях графа и рассказал о потайной лестнице. Обязательно должна быть потайная лестница, ведущая из личных покоев правителя, сказал Фолько. Адрия знала это: во дворце ее семьи такая тоже имелась.
Нужно добраться до этой лестницы, потом спуститься по ней и выйти туда, где ее будут ждать люди, которые помогут ей уехать. Там будет конь, свобода, жизнь.
Только вот она почти не может двигаться и боится, что потеряет сознание от боли.
Адрия шипит ругательство. Если бы этот сукин сын не пырнул ее кинжалом…
С другой стороны, у этого сукина сына были намерения пострашнее, но теперь он мертв. А она – нет.
Никто и никогда не обещал ей легких путей в жизни. Отец – уж точно. Не такой он человек. Как дочери герцога, ей полагалось богатство, но не легкие пути. Разумеется, они не для женщины.
Адрия снова возвращается к мертвецу. Нагибается, застонав от усилия, и опять берет кинжал. С его помощью она отрезает от халата Уберто лоскут шелка и зажимает им рану. Затем вытягивает из-под тела убитого пояс халата и туго затягивает поверх: нужно постараться не выдать свой путь каплями крови. Проделывая все это, она с трудом удерживается от крика. Потом спохватывается и все-таки вскрикивает – негромко, только чтобы ее услышали снаружи.
Оглядывается, соображая, не упустила ли чего-нибудь.
Кровь из раны пока еще не просочилась сквозь повязку. Но скоро начнет, думает она.
Тяжело дыша, Адрия хромает к приоткрытой внутренней двери. Третья комната – так ей сказали, панель на левой стене, у дальней стороны камина. Задвижка в пасти резного деревянного льва.
Падение будет проявлением слабости, говорит она себе, с трудом заставляя тело двигаться дальше. А еще это будет ее гибелью. Вот почему Адрия бредет вперед, опираясь на столы или хватаясь рукой за стены, за столбики кровати во второй комнате. Теперь она уже плачет от боли, то и дело вытирая глаза.
И все же она добирается туда, в третью комнату. Находит льва и нажимает механизм, открывающий потайную панель. За панелью – лестница, но ведь ей и обещали, что она там будет, не так ли?
За панелью абсолютно темно. Адрия вновь шипит ругательство, поворачивается и пересекает комнату, чтобы взять лампу со стола. Окровавленный кинжал она сует за пояс платья и только тут замечает, что пуговицы до сих пор расстегнуты. Она исправляет это. Кого-то могла бы позабавить такая забота о приличиях на краю гибели, но девушка вспоминает растерзанную наготу Уберто, оставленного позади, и в этом нет ничего забавного.
Вернувшись к открытой панели, она шагает на лестницу, тихо вскрикнув, когда приходится наклониться. Задвигает за собой панель и понимает, что на полу и на коврах наверняка остались следы крови. Но с этим уже ничего нельзя было поделать. Остается только надеяться, – молиться? – что их никто не заметит, по крайней мере – сегодня ночью. Что все будут слишком напуганы и расстроены, бросятся к открытому окну, увидят веревку, побегут вниз, на площадь, призывая стражников…
Впрочем, сделав несколько шагов, Адрия осознает, что все это не имеет значения. Ей необходимо спуститься на два этажа по узким, скользким каменным ступеням, держа лампу, а сил на это просто нет.
* * *Эту встречу я вряд ли когда-нибудь забуду.
Чуть больше года назад Фолько Чино, один из прославленных полководцев Батиары, несколькими годами раньше ставший после смерти своего отца правителем Акорси, отправился с визитом в Авенью, которой управлял клан Риккардиано. Утром второго дня пути он заехал поприветствовать Гуарино, нашего учителя. Фолько был, вероятно, самым знаменитым выпускником нашей школы. Все его так называли, хотя, возможно, это звучало несколько панибратски по отношению к правителю города. Гуарино говорил некоторым из нас, что это сделано намеренно.
– Это чтобы все считали его добрым. Фолько, конечно, может быть добрым, но не обманывайтесь на его счет, – сказал он.
Вряд ли мы могли обмануться, ведь Чино был одним из самых устрашающих командиров наемников того времени. Маловероятно, что, называя герцога просто по имени, люди могли забыть об этом, думал тогда я.
В тот день вместе с Фолько приехали двое сопровождающих. Одним из них была высокая женщина, которую год спустя на моих глазах привели к комнате, в которой ее ждал Уберто Милазийский.
Я узнал ее в Милазии потому, что в тот день, когда к нам приехал Фолько, находился в школьном саду вместе с полудюжиной старших учеников и двумя самыми младшими, близнецами. Когда наш знаменитый гость вошел, братья спели приветственную песнь; их голоса звучали так нежно в утреннем свете позднего лета.
Гуарино коротко кивнул в знак одобрения, когда они закончили. Фолько д’Акорси, улыбаясь, заметил:
– Помню, как сам пел эту песню!
Он дал мальчикам по монете, потом шагнул вперед и крепко обнял нашего учителя, почти приподняв его над землей. Мы были поражены, даже шокированы. Гуарино же, когда его отпустили, поправил свое серое одеяние и сказал:
– Достоинство следует ценить, возможно, превыше всего остального.
Фолько рассмеялся. С того места, где мы стояли, я видел знаменитую пустую глазницу на месте его правого глаза. Он не желал носить повязку. Все знали об этой ране, хотя рассказы о том, как он ее получил, ходили самые противоречивые. По одной версии, ее нанес Теобальдо Монтикола, и это могло кое-что объяснить.
– Цитируете Аццопарди, учитель? – спросил Фолько. – Да вы ведь даже не согласны с его мнением! И потом, как насчет «Никто не заслуживает вашей любви больше, чем тот, кто учит вас мудрости»?
– Да, это тоже его слова, – невозмутимо ответил Гуарино. – И, согласен, мысль несравненно более удачная. Рад, что ты не забыл. Но любовь можно проявить многими способами.
И все же, говоря это, он улыбнулся, я помню. Его тонкие волосы трепал ветер.
– Можно, – согласился правитель Акорси. – Вы отобедаете с нами после охоты, учитель? Эриццио сказал, что мне следует вас пригласить.
Я представлял герцога более крупным, так велика была его слава воина. Волосы Фолько Чино, выбивающиеся из-под мягкой красной шапки, были светло-каштановыми, с проседью, нос напоминал хищный клюв, а щеку с той стороны, где не хватало глаза, украшал шрам. Он был крепок и мускулист. Я тогда подумал, что не хотел бы схватиться с ним врукопашную.
– Пообедаю с удовольствием, – ответил Гуарино. – Передай мою благодарность графу. Но я привел некоторых из наших учеников, чтобы они показали свое мастерство до того, как ты уедешь. Если не возражаешь.
– Конечно, не возражал бы, если бы хватило времени. Но я еду на охоту вместе с Эриццио и Эвардо, и до ее начала нам надо обсудить вопросы, касающиеся Родиаса, Фиренты и событий в них.
– В самом деле, – ответил наш учитель. – Сарди набирают силу.
– Это правда, – согласился Фолько д’Акорси. – Пьеро опять хочет меня нанять. Мою армию.
– Конечно, хочет, – кивнул Гуарино.
Правитель Акорси удостоил нас взглядом.
– Не сомневаюсь, что все вы – образцовые ученики, иначе учитель не привел бы вас сюда этим утром. Примите мои сожаления и добрые пожелания. Продолжайте прилежно учиться и всегда почитайте его, ведь он лучший из нас. Коппо, Адрия, едем, нас ждут.
Он поклонился Гуарино, повернулся и зашагал прочь из нашего маленького садика – агрессивный, образованный, наделенный властью мужчина. Один его глаз ярко горел, другой был пуст и темен. Высокая молодая женщина и мужчина в костюмах для верховой езды последовали за ним.
Мы знаем, что он самый лучший, хотел сказать я, но благоразумно промолчал. Вот почему я так и не сел в седло в то утро, чтобы продемонстрировать Фолько д’Акорси, на что я способен. А ведь как знать, возможно, произойди это, и некоторые события развернулись бы по-другому. Впрочем, я никогда и ни с кем не делился этими мыслями.
Однако в то утро я действительно видел эту женщину – высокую, рыжеволосую, худую – и то, как она окинула скучающим взглядом сад. И слышал ее имя. Мы говорили о ней потом. Да и как могли не говорить о ней молодые люди, видевшие Адрию, младшую дочь герцога Ариманно Риполи, правителя Мачеры, племянницу Катерины Риполи д’Акорси и, соответственно, племянницу Фолько со стороны жены?
Но не это имя она назвала Морани в Милазии, когда ее привели по дворцовой лестнице как девушку с ближней фермы, вызванную к графу для развлечений.
А я стоял в полумраке на черной лестнице и ничего не сделал. Я просто смотрел, как Морани обыскал ее и проводил до двери, постучал и впустил внутрь, услышав приказ графа.
Вот почему я до сих пор, по сей день, считаю, что душа Морани и его смерть занесены в божественных книгах на мой счет.
Когда моя жизнь закончится и меня призовут на суд, я попрошу, чтобы на другую чашу весов положили смерть Уберто в ту ночь, а еще невинные души – спасенные и отомщенные. Конечно, я не убивал Уберто, как не убивал и Морани, но, глядя, как та женщина входит в покои герцога Мачеры, я знал, что ее прислал Фолько, и знал для чего.
Конечно, то было убийство не ради справедливости, но ради власти, ради ее жестоких игр, ради танца гордости и вражды наших дней. Я был учеником Гуарино, не так ли? Я знал географию этого уголка мира. Знал, где находится город Теобальдо Монтиколы, и где город Фолько д’Акорси тоже. И что Милазия лежит между ними. Но все же, держа флягу вина, за которой послал меня Морани, и наблюдая, я решил: вопрос «почему» для меня не имеет значения, если Зверь умрет этой ночью. Я достаточно долго прожил во дворце, видел, что он из себя представляет, а еще был молод, и справедливость кое-что значила для меня.
Что поражает меня, когда я оглядываюсь назад: мне ни разу не пришло в голову, что эта женщина может потерпеть неудачу.
Я выждал несколько минут, потом ступил в приемную, представлявшую собой скорее открытую лестничную площадку. Вдоль стены, смежной с комнатой, где находились граф и женщина, стоял длинный, низкий сундук. На нем сидел Морани. Я принес ему флягу и чашу. Он откупорил вино и выпил прямо из горла, не потрудившись налить в чашу, затем протянул мне флягу обратно.
Я покачал головой. Он вопросительно приподнял брови. Действительно, обычно в такие ночи я пил вместе с ним. Пожав плечами, управляющий глотнул еще, я же остался стоять, как обычно. Помню, что был испуган и понимал, что не должен этого показывать. Мы прислушивались к звукам из комнаты, в то же время делая вид, будто не слушаем. До нас доносились голоса, но слов мы не слышали, если только их не произносили громко.
Морани спросил – тихо, потому что нас тоже могли услышать с той стороны:
– Не хочешь вина?
Я в свою очередь пожал плечами и солгал:
– Вчера ночью выпил слишком много.
– Молодые люди должны уметь это делать, – сказал он, пытаясь улыбнуться.
Мне удалось скорчить ответную гримасу. По правде говоря, едва увидев эту женщину, я сразу почувствовал, что лучше сохранить трезвую голову.
– Ты знаешь какие-нибудь стихи о садах, Гвиданио? – спросил Морани. – О садах весной?
Он почти всегда называл меня полным именем. Обычно меня звали Данио, а иногда использовали другое сокращенное имя, которое мне не очень нравилось с самого детства.
– Кажется, знаю, – ответил я.
Мы услышали сквозь стену голос графа, который находился в ближней к нам части комнаты, далеко от кровати и от стола, где обычно лежали его любимые «игрушки».
Морани выпил еще.
Я сказал, хотя, возможно, это прозвучало глупо:
– Оно того стоит? Для нас обоих?
Он взглянул на меня.
– Ты имеешь в виду наши души?
– Да. – Хотя я не имел в виду именно это.
– Нет, не стоит, – ответил он. – Я собираюсь написать письмо по поводу тебя этой зимой, Гвиданио. Найти для тебя место получше.
– Вы знаете, что для меня честь служить вам, синьор. Вы знаете…
– Ты не мне служишь! – возразил он и вздохнул. – Я старею, а от меня так много зависит. И я остаюсь здесь в надежде что-то… улучшить? – Он посмотрел на меня снизу вверх, почти умоляюще. – Я видел голод, Гвиданио, видел осады, разграбленные и сожженные города. Ужасные вещи я повидал. Милазии все это сейчас не грозит, люди здесь в безопасности, потому что он…
Резкий голос графа. Потом крик женщины.
Казалось, эти звуки раздались прямо за спиной Морани. Я вздрогнул. Он приподнялся, потом опять опустился на сундук. Мы посмотрели друг на друга. Он сегодня настроен мирно, недавно сказал он ей. А теперь мы услышали ее крик: «Мой господин! За что?!»
– Сады, – быстро произнес Морани. – Стихи о садах, Гвиданио. Или о чем-то другом. О чем угодно! О солнечном свете.
Голос графа: тихий, скользкий, как оливковое масло, теплый, как подогретое вино зимой. Голоса девушки больше не слышно. Мне полагалось читать стихи. Я все-таки потянулся за флягой и сделал глоток. В те дни в Милазии графа Уберто подавали хорошее вино. Помню, у меня сильно стучало сердце.
– Трудно вспомнить такой стих, – сказал я.
Морани смотрел мне в глаза.
– Трудности – это то, что делает нас сильнее!
Я опустил взгляд. Гуарино говорил то же самое. В школе, где был сад. Там стремились научить людей быть благородными и талантливыми. И, может быть, добрыми, если им это удастся, особенно тем, у кого есть власть. Большинство учеников школы происходили из семей, обладающих властью, и им предстояло вернуться туда снова.
Я начал читать:
– Летней ночью мне видится часто картина,
Тот утраченный нами навек уголок.
Плеск фонтанов меж стройных ветвей апельсина,
Дух жасмина разносит ночной ветерок.
Я был…
Мы услышали за стеной звуки борьбы, потом другие, приглушенные.
Морани повернул голову, прислушиваясь.
То, что я сделал дальше, ничего не изменило бы, потому что в это время Уберто был уже мертв. Теперь я это знаю. Он уже поцеловал девушку, которую привели к нему, – или послали за ним. Но тогда я этого не знал и все же вмешался, чтобы удержать Морани ди Россо на месте после того, как мы оба услышали нечто, напоминающее звук падения тяжелого тела.
– Вам знакомо это стихотворение, синьор? Это перевод с языка ашаритов. Оно написано очень давно на западе, когда они правили в Эсперанье. Еще до того, как неверные пали, пораженные мечами святого Джада.
– Почему ты читаешь мне стихи иноверца? – Он опять повернулся ко мне.
– Гуарино говорит, что можно найти мудрость и красоту в неожиданных местах. Многими нашими познаниями о Древних мы обязаны именно ашаритам, их переводам.
– Я это знаю, – ответил Морани. Сделал еще несколько глотков из фляги, глядя на меня. – И также знаю, что они в данный момент хотят разрушить Сарантий, Золотой город… – его голос оборвался.
– Вы просили стихи о садах, – начал я, после чего мы опять услышали голос девушки – слишком тихий, чтобы разобрать слова. Но затем: «Мой господин, прошу вас!»
Страшно говорить о таком, но после этого Морани откинулся назад, убежденный, что все в порядке: в голосе женщины там, в комнате за его спиной, всего-навсего звучал ужас, слышанный нами уже много раз.
Знаю, знаю… я говорил, что он был добрым человеком. Вы можете согласиться со мной или нет – в конце Бог все равно всех рассудит по справедливости.
Я продолжил читать стихи. Имени поэта я не знал, ведь имена часто теряются в потоке времени. Мое вот, например, будет потеряно – я слишком мало сделал, чтобы меня запомнили. Уберто, возможно, вспомнят – как грязное чудовище или как правителя, который двадцать лет обеспечивал безопасность Милазии. Или по обеим причинам?
Думаю, и Фолько д’Акорси, и Теобальдо Монтиколу ди Ремиджио будут помнить долго. Может, я ошибаюсь. В том, что касается времени, всегда легко ошибиться. Я также понятия не имею, что о них скажут, когда пройдут столетия, а рассказы исказятся и станут ложью, когда, возможно, даже дворцы, которые возвели или перестроили по их приказу, станут руинами, и никто не будет знать, какими прекрасными были тот или иной мужчина или женщина, если только они не останутся запечатлены на портретах.