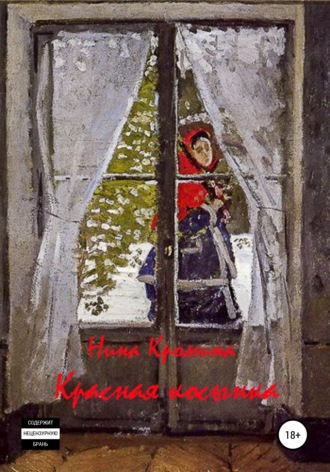 полная версия
полная версияКрасная косынка. Сборник рассказов
– Дачников не лечу. В Москву, в Москву, в Москву…
Вернувшись, Вера бросилась к Саше. Осторожно, стараясь не побеспокоить, приподняв одеяло, достала градусник. Пошатнулась, волнение сжало голову: ртутный столбик, заполнив трубку, почти упирался в её край.
– Мама, принеси, пожалуйста, холодные варежки, – прошептал Саша и повторил уже громче, несколько раз подряд. – Варежки, дайте мне холодные варежки.
Несколько дней температура не спадала. “40, 40,5” – записывала Вера дрожащей рукой на клочке бумаги.
Саша почти всё время спал, лишь иногда, просыпаясь, пил и всё просил холодные варежки. Сквозь черноту сна до него время от времени, доносился мамин голос, иногда он видел, как её фигура то растёт у него на глазах, то становится всё меньше и превращается в еле заметную точку. Несколько раз ему снилась Ирочка, промелькнувшая в бликах золотого и зеленого на своей “Ласточке”, и старик, её дед, грозивший ему откуда-то из-за кустов кулаком. Но чаще всего, и это было так страшно и мучительно, он бежал от громадного валуна, который катился на него. Саша забирался в постель, натянув до глаз одеяло, с ужасом смотрел на медленно открывающуюся дверь, в которую, не спеша, переваливаясь с боку на бок, горой вваливался этот ужасный камень, готовый раздавить его. И в тот самый момент, когда, заполняя собой всю комнату, валун приближался так близко, что в следующий миг мог бы уничтожить его, откуда-то появлялись папа и мама. С двух сторон они удерживали камень, который останавливался и исчезал. Однажды, очнувшись от этого сна, Саша увидел рядом с собой маму, папу и какого-то незнакомого мужчину.
– Папа привёз тебе врача, теперь тебе станет легче.
– Смотрите, у него же сыпь и вот тут – припухлость. Это корь. После высыпания скоро выздоровеет. Постельный режим дней пять и никакой беготни до конца лета.
– А велосипед? – с испугом спросил Саша.
– Ну, что ты. С твоим сердцем. Лежи, дорогой, лежи. И от физкультуры на год надо взять освобождение, да и со школой не спешить…
Через две недели Саша впервые после болезни вышел за калитку. Кончалось лето, многие дачники уже разъехались. Его сестёр, Наташу и Катю, родители забрали в тот же день, когда он заболел. Вере тогда удалось дозвониться до Нади и Любы, и они с перепуганными лицами, запыхавшись, уже через несколько часов одновременно влетели на свои террасы, минуя Верину, и лишь переговаривались с сестрой из-за своих картонных перегородок. Андрюшка заболел в самом конце Сашиной болезни, но обошлось без высокой температуры, горящих ладоней и тяжёлых снов, так, посопел немножко. Ирочка, переболев корью в раннем детстве, по-прежнему, каталась на велосипеде и, проезжая мимо Сашиного дома, долго кривила шею в его сторону, но Вера не спускала с сына глаз и не разрешала ему сходить с крыльца…
Бледный, будто и не было лета, Саша медленно вышел за калитку и уселся на брёвна у соседского дома. Проезжавшая мимо Ирочка, затормозила и спрыгнула с велосипеда. Задравшаяся юбка, зацепившись за порванную велосипедную сетку, смутила обоих. Саша опустил глаза, а Ирочка так рванула свою солнце-клёш, что потом как ни зашивала, с любимой вещицей пришлось расстаться.
– Ира, иди пить молоко! – раздалось со стороны дома со слегами.
И Ирочка тут же развернулась и, вцепившись руками в руль, бросилась к молоку с пенками, которого терпеть не могла, так быстро, что Саше оставалось лишь удивленно посмотреть вслед. Сгорбившись, он поплелся к своей калитке.
Прошло несколько дней. Ирочка видела, как блеснув новеньким лаком и серебряным оленем на капоте, проехала “Волга”, на которой обычно приезжал Сашин папа. Заложив страницу в книге отцветшей ромашкой, посмотрела на золотисто- зелёную листву берёзы у скамейки и пошла в сад, где, раскачиваясь на качелях, полетела над землёй, представляя себя то птицей, то стюардессой. “Кто в небе не был, кто ни разу не был, пускай вздыхает и завидует ей”…
А утром, когда она проезжала мимо “Волги”, её остановила тётя Вера.
Нагруженный тюками к машине подошёл дядя Витя, за ним Саша.
– Ирочка, Саша, – сказала женщина, – попрощайтесь друг с другом.
– До свидания, – буркнул Саша.
– До свидания, – откликнулась Ирочка.
– Нет, дети, не так, – сказала Вера, – дайте друг другу руки.
И Саша протянул холодную, ещё не выздоровевшую руку Ирочке, а Ирочка протянула ему свою, горячую. Солнце, пробивавшееся через листву, погладило детей по макушкам, отражаясь в блестящей поверхности “Волги”, её зеркалах, окнах, серебристом олене, взметнувшем в беге волшебные копытца. Разноцветные искры, одарив рубинами, гранатами, александритами, переливаясь, повисли в воздухе…
Первого сентября в школу Саша не пошёл. На белые передники и банты он грустно смотрел из окна. Однажды, претерпевая природную стеснительность, он решился позвонить Ирочке. Телефон долго не отвечал и вдруг недовольный старческий голос обрушился на него:
– Слушаю Вас.
Испугавшись, мальчик тут же трубку положил, но прошло всего несколько дней, позвонил снова.
В этот раз, набравшись храбрости, он смог отлепить язык от гортани и назвал не только имя, но и добавил “пожалуйста”.
Услышав короткое:” Нет дома.” Опять оробел и не звонил долго.
Позвонив в третий раз, услышал почти гневное:
– А собственно говоря, что Вам надо, молодой человек?
– Поговорить.
– Ну, позвоните когда-нибудь ещё.
– Нет, извините. Я не могу, я стесняюсь…
Так бы и закончилась эта детская история, если бы Ирина на исходе своих дней не встретилась с Наташей. Они, конечно, не узнали друг друга, но, вспоминая дачную жизнь, оказалось, что у них много общего. От Наташи Ирина узнала, что Саша женился поздно, у него две дочки- старшая Верочка и младшая Ирочка.
Сказать о том, что её старшего сына зовут Сашей, Ирина забыла…
Как-то сидя в парке на скамейке, она заметила быстро приближающуюся группу подростков лет двенадцати. Шумные, крикливые, одетые в курточки с капюшонами, на некоторых несмотря на то, что уже вечерело, чёрные очки. Громко переговариваясь то друг с другом, то с кем-то по телефону, они подошли к скамейке, трое из них сели рядом с Ириной Ивановной, чуть ли не на колени. Она подумала, что, очевидно, она – невидимка. И это сначала даже позабавило.
– Ты, чё, Верка, давай, приходи. Е-ся будем. Не хочешь в лесу? Тогда я к тебе приду. Дома-то есть кто?? Ну, б-ть, тогда сюда приходи!
-Ну, чё, Танька, долго, бля, тебя ждать?
– Да, придёт она, придёт. А не придёт, так… с ней. Вон уж Катька тащится.
Мальчики делали резкие движения, кривлялись, толкали друг друга.
Ирина Ивановна поднялась, пошла к выходу. Опустив взгляд на носки разношенных ботинок, она проходила мимо скамеек, на которых, не стесняясь прохожих, отрывались дети…
Правда, один стоял за деревьями, с завистью поглядывая на сверстников и грыз ногти. Что-то знакомое показалось Ирине Ивановне в его облике. Толстовка ли похожая на ту, которую она недавно стирала или аккуратно взбитый гребешок окрашенных волос?
“Господи, уж не наш ли Филиппок? – выдохнулось оборвавшимся сердцем…
Повело в сторону, закачавшиеся сосны, сомкнув вершины, стали медленно падать, как тогда в детстве, когда на стог сена упало дерево…
– Бабушка, бабушка! Что с тобой? – закричал, подбегая Филипп.
– Ничего, милый, ничего. Сейчас всё пройдёт. Проводи-ка меня до дома.
И, опираясь на ещё не окрепшую руку внука, Ирина Иванова медленно зашаркала к переходу…
Дырочка в стене. Детские рассказы про жизнь
Рассказ первый
Мои мучения обычно начинались с того самого момента, когда в комнату, именуемую в некоторых семьях “залой”, оторвавшись от кухонных дел, влетала мама. Её категоричность во взглядах на жизнь и растрёпанные волосы не оставляли возможности ни мне, ни брату настаивать на своём. А потому после её строгих назиданий приходилось идти в ванную комнату, а потом тащиться в детскую. Правда, иногда кому-нибудь из нас удавалось проскользнуть в коридор. Тогда, спрятавшись за шторой, которой родители на ночь прикрывали стеклянную дверь в “залу”, можно было постоять некоторое время на пороге с трепетом глядя в ящик.
Обычно я в волнении прикусывал указательный палец и через узкую щель с восторгом и ужасом следил за погонями, стрельбой и прочими жуткими сценами телевизионных фильмов. Но досмотреть кино до конца никогда не удавалось. Какой до конца, до середины и то … а утром, завернув за угол нашего дома, я с завистью смотрел на одноклассников, которые едва встретившись друг с другом по дороге в школу, начинали обмениваться впечатлениями от просмотра очередного фильма про войну. И в эти минуты во мне просыпались зависть, жгучая обида на маму (папа обычно не участвовал в воспитательном процессе) и чувство собственной неполноценности.
Такие же чувства как я испытывал и мой брат, а потому мы часто жаловались друг другу на несправедливость мира и полную безнадёгу.
Однажды, засидевшийся у нас в гостях дядька, брат нашей мамы, после маминого “на горшок и в койку”, оторвал свой взгляд от голубого экрана и, встав с дивана, не спеша вышел из комнаты вслед за нами. Войдя в детскую, мы тут же наперебой стали взывать к его сочувствию, плакаться и упрекать железобетонную маму, в устах которой “десять часов” звучало как приговор. К нашему удивлению, дядька не стал ни сочувствовать нам, ни упрекать свою жестоковыйную сестру. Осмотрев стены комнаты, отодвинул висевшую на гвозде рамочку над моей кушеткой с фотографией деда-фронтовика и сказал, постучав по стене: “Как мне кажется, эта стена разделяет вашу комнату и зал. Так, смотрите сюда! Если вы наберётесь терпения и каждый день – вот здесь, – он отчеркнул жёстким ногтем на обоях чёткую линию, – будете проделывать отверстие, ну хотя бы гвоздём, – то уже очень скоро вы сможете не только слышать, но и видеть происходящее на экране, ведь телевизор как раз обращён в сторону этой стены. Но будьте осторожны: никто не должен знать об этом. Если же вас застукают, меня не выдавать”. Его усы шевельнулись, показав улыбку, а глаз лукаво подмигнул, вселив надежду в наши доверчивые души. С тех пор у нас с братом появилась цель в жизни, и мы были уверены в том, что пройдёт совсем немного времени и мы будем, как все мальчишки из нашего класса, смотреть все фильмы про войну и, размахивая руками, говорить: “ А как он его. А этот. А ты чё, ты чё не заметил, как тот…”. Придя из школы, мы ждали, когда, наконец, услышим бодрый мамин голос:
– Дети, я в магазин!
и тут же бросались наперегонки к тайнику под плинтусом, где хранили ржавый гвоздь, который с трудом нашли на лоджии среди хлама, оставшийся после строителей. Один придерживал рамку с дедушкиной фотографией, прислушиваясь не раздастся ли из коридора звук открываемой двери, другой с неистовством орудовал над уже наметившимся отверстием. Едва заслышав, как в замке поворачивается ключ, мы судорожно опускали рамку, прятали гвоздь и принимались смахивать в ладошки штукатурные крошки, которыми была усеяна моя кушетка. Конечно, по дороге в туалет, куда мы их сбрасывали, оставалась белёсая дорожка, удивлявшая маму, которая, поднимая глаза к потолку думала, что мы опять кидали пластилиновые шарики в потолок и с них ссыпалась побелка. Она печально качала головой и, горестно вздыхая, обречённо бралась за веник.
Но вскоре мы почти позабыли о кропотливой работе, которую так и не завершили. Дело в том, что наши с братом организмы с каждым днём требовали всё больше и больше белков, жиров и углеводов. Зарплата же нашего папани, который тогда хоть и трудился помимо основной работы ещё на трёх, не могла обеспечить нам надлежащего содержания, и мама устроилась на работу. Но, так как мы жили на самой окраине города, то ей приходилось уходить из дома задолго до нашего пробуждения и возвращаться тогда, когда сил на нас у неё уже не хватало, и она вместо того, чтобы следить за нами, жарила, варила, гладила, а мы смотрели телевизор, закусывая пальцы, а по утрам перекрикивались с приятелями: “А, ты видел, как он его…?”. Кроме этого теперь у нас появилась возможность лично участвовать в баталиях и схватках, которые происходили в междомовых пространствах нашего спального микрорайона и время от времени посещать травмопункт, находящийся на противоположном берегу за бурливой речкой, в которую иногда спускали сточные воды, а порой, если наши противники оказывались сильнее, и нас самих.
Рассказ второй
Однажды, когда мы только что пришли из школы, раздался звонок в дверь. Дядька, пряча довольную улыбку в усах, не спеша снял куртку с металлическими заклёпками, и, войдя в кухню, где брат разогревал в эмалированной кастрюльке духовитые щи суточные со свининой, сообщил, что тот старенький домок в центре города, в котором прошло наше раннее детство, скоро пойдёт на слом и, что, если мы не против, он готов нам устроить экскурсию в родные пенаты в любое удобное для нас послешкольное время.
– Да, вот хоть сейчас, – сказал он, – полопаете и поедем. А то сломают и не попрощаетесь.
Особенной тяги тащиться в центр не было ни у меня, ни у брата: переполненный автобус, метро забитое до отказа не сулили ничего хорошего. Но авторитет дядьки был не оспорим. И вот мы стоим у жалкого двухэтажного флигеля (низ каменный, верх деревянный) и смотрим на окна, которые когда-то освещали наш двор и удивляемся. Удивляемся тому, как этот дом неказист, тому из каких чёрных, чернющих и толстых брёвен построен верх. “Это – дуб, – с уважением поднимая глаза вверх, объясняет дядька, – ему сносу нет”. Удивляемся тому, что когда-то мы здесь жили. Вернее, удивляюсь я, потому что почти ничего не помню из того далёкого досадовского времени. Брат же вдруг говорит, грустно так тянет: “Когда мы уезжали на дачу, я солдатики забыл, а дед прибежал и, машина уже трогалась, а он мне в окно пакет с ними сунул. Знал, что без них мне и заняться-то не чем, особенно если дожди или болею”. А дядька говорит:
– Я отсюда в Афган уходил… А дед на фронт… Ну, ладно. Пошли.
Подъезд в доме уже был заколочен. Ну, это чтобы бомжи там не поселились или ещё кто… Но дядька, вот умелый был мужик, нашёл какой-то металлический кусок, отогнул им гвозди, и мы вошли… Темно, запах такой кислый, застаревший и лестница каменная, давно немытая, вся в выбоинах. Поднялись на наш второй этаж. Дверь в квартиру, конечно же, закрыта. Тут уж ничего не поделаешь. Пришлось спуститься вниз и по пожарной лестнице, которая шла на чердак, карабкаясь, ухватившись сначала руками за металлические перила, а потом за подоконник, перевалиться в комнату, которая когда-то была нашей. И опять всё показалось странным и маленьким, а изразцовая белая печь с тускло-золотыми заслонками напомнила какие-то старые фильмы или картинки из книжек.
Мы слонялись по пустой комнате и с удивлением находили какие-то знаки, свидетельствующие о том, что когда-то здесь жили: то полу стёршиеся линии на двери, которые отмечали наш рост, то светлые пятна на стенах, где висели любимые нами картинки, которые рисовал отец, то наклейки на обоях, которые нам иногда покупали. Мы уже начали скучать и были готовы затеять возню, но вдруг нас позвал дядька, который внимательно что-то разглядывал на одной из стен.
– Вот, смотрите, – сказал он очень важным голосом, – свидетельство эпохи. И показал нам на отверстие в перегородке, которая отделяла одну часть комнаты от другой. – Здесь, указывая рукой на место под отверстием, продолжал он, – стояла кровать, на которой, приходя после смены, отдыхал ваш прадед. Во время войны он работал на Мосводопроводе. Сохранить чистой воду – было очень важно. Все говорили о том, что воду могут заразить диверсанты, поэтому часто работать приходилось круглосуточно, а иногда и по несколько суток сразу. Когда дед приходил домой, он заваливался и спал. Конечно, во время бомбёжек он оставался дома, а не спускался как некоторые в метро, и продолжал валяться на кровати. Но лежа спать он не мог, что-то у него с детства было с лёгкими, и он почти сидел, опираясь на подушки. Однажды бомба разорвалась где-то недалеко от нашей улицы, и осколок, пробив дубовые брёвна, пролетел так близко над его головой, что он почувствовал, резкую струю воздуха, от которой у него зашевелились волосы. Со свистом осколок пролетел мимо, пробил перегородку, стену, дверь в кухню, противоположную стену и вылетел наружу. Потом эти дырки заделали, а эту, дядька опять показал на отверстие, дед просил оставить ему на память…
После этого дядька потащил нас на чердак, где рассказывал, как его мама, наша бабушка, дежурила на крыше во время бомбёжек. О том, что зажигательные бомбы, разрываясь, расшвыривали искры, от которых сгорели многие дома.
– Но не наш! – гордо сказал он. – Вот здесь, в углу, был навален песок, и ваша бабушка специальными щипцами осколки гасила в песке. А ещё она работала на военном заводе, копала окопы, пела на радио.
Про то, что бабушка хорошо пела мы и сами знали. У нас и дядька хорошо пел. Особенно, если вместе с банюшкой (это мы с братом так называли нашу бабушку). Иногда дядька приходил с гитарой, и тогда они обязательно пели “Ты жива ещё моя старушка, жив и я привет тебе, привет”. Однажды он даже записал их пение на магнитофон. Правда, потом, когда её не стало, почему-то все эти записи то ли стёр, то ли выбросил…
А в тот день, вернее вечер, когда мы ездили прощаться с нашим домом, мы вернулись домой очень поздно, потому что заехали по дороге к дядьке и он показывал нам свою простреленную на войне фуражку и говорил, что его ни капельки не задело и что он даже не успел испугаться…
Когда же мы подходили к нашему дому, мы увидели маму. Она почему-то сидела на кончике тротуара и не могла встать. А потом ей ещё пришлось идти в милицию и говорить, что её мальчики нашлись. А там ей сказали: “Ну, это ваше счастье. Берегите их!” и накапали каких-то капель, потому что она была никакая.
Потом с работы пришёл папа и, протянул маме гладенькую и какую-то хрустящую купюру зеленоватого цвета с надписью “50”. Я раньше никогда таких не видел, а папа сказал, что это и зарплата, и премия. А мама сказала:
– И что я с ней делать буду? Мне им завтра на хлеб оставить надо.
И пошла с этой бумажкой на кухню, открыла дверцу под раковиной, где у нас мусорное ведро и выбросила. Хорошо, что брат бросился к ведру и вытащил денежку…
А вчера мне приснился сон будто я уже взрослый и вернулся с войны…
Фарфоровые куклы
Какое-то время они стояли обнявшись, как две сестры, и это им почему-то не казалось странным. Ещё несколько минут назад и знакомы-то не были, а ещё через миг, другой расстанутся, чтобы никогда не встретиться. Останется только шевеление звука над ухом- “милая” и неспешное сетование, что, мол, забыли русский, да и учили плохо… и эти две куколки одна в голубом, другая в красном, в память о бабушке…
У бабушки уже начались сильные боли, когда она решила подарить Леночке куклу. Необыкновенную. Не похожую на тех, что жили у внучки между кроватью с металлическими набалдашниками и белой изразцовой печкой. Небольшую. Фарфоровую. Купить такую – что найти аленький цветочек в заморских странах. Но бабушкина подруга Инночка, заворачивавшаяся в молодости в поток золотых волос, пообещала, что зять привезёт из Богемии. И имя уж бабушка ей придумала – Вера, потому что знала, что только вера спасёт и её, и внучку…
“ Как хорошо, что я успела её причастить”, – думала бабушка, протягивая Лене куклу…
Верочку поселили на полке большого старинного шкафа со стеклянными дверцами, на той же, где в глубине стояла загадочная шкатулка с маленьким ключиком. БОльшую часть своей недолгой жизни Верочка провела на этой полке, среди уютной мебели тёмно-красного цвета с золотыми звёздочками, сидя в кресле, придвинутом почти вплотную к круглому столу, сервированному крошечной посудой. С Верочки сдували пылинки, одевали в платья из лёгких прозрачных тканей, сшитых их разноцветных кусочков, принесённых от знакомой портнихи. Словом – она была настоящей феей!
– Как-то, – рассказывала Ольга Николаевна внучкам, – в один зимний день я взяла Верочку на прогулку. Укутала её потеплее в пуховой бабушкин платок, сжавшийся от времени в небольшое кукольное одеяльце, положила на серебристые саночки, будто для неё сделанные, и, выйдя во двор, стала осторожно катать по протоптанной от подъезда до арки ворот дорожке. Моя подруга Эля, жившая в том же доме, что и я, посмотрев в окно, увидела меня и сразу же вышла. Конечно, она попросила покатать саночки. Отказать я не могла. Эля была моей лучшей подругой. Увы, саночки у неё опрокинулись и… Верочка разбилась… Утешить меня не мог никто. Ни Эля, которая ревела вместе со мной, ни дворничиха тётя Поля, разгребавшая снег около своей пристройки, ни её дочка Галя, возвращавшаяся из музыкалки с коричневой папкой для нот… И только потом, дома, когда мама открыла крошечным ключиком шкатулку и, достав из неё записную книжку с обложкой из тёмно-бордовой кожи, сунула её мне вместе с крошечным круглым карандашиком, вставленным в футляр, и я вывела на ней дошкольными каракулями “Пшла гулять с Верочкой и моя подуга Эля разбила её я перестала лить слёзы …
Этот рассказ Елены Николаевны внучкам полюбился, и они часто просили повторять его. Когда же они повзрослели, Елена Николаевна посвятила их и в тайны той шкатулки, которая открывалась маленьким ключиком, но это случилось гораздо позже, когда девочки подросли, пока же она сама изучала её содержимое. Что-то ей было знакомо и раньше. Например, завиток льняных волос, завёрнутый в тонкий пергамент, обручальные кольца с именами бабушки и дедушки на внутренней стороне, осколки топазов, хризолитов, бирюзы…
Но самое главное – перевязанные голубой лентой потрёпанные листки. Письма с фронта. С раннего детства она знала, что это письма отца к матери, которая тогда считалась его невестой. Хотя никакого запрета на чтение этих писем в семье не существовало, Лена не могла себе позволить даже дотронуться до них. И только потом, когда не стало сначала отца, а потом матери, осторожно развязав ленту, время от времени перекладывала треугольные конверты, прямоугольные открытки или просто сложенные листки. Но вот настало время, когда, нарушив какое-то внутреннее сопротивление, сначала бегло, а потом вчитываясь в каждое слово, Елена Николаевна начала путешествие в прошлое.
Первое, что удивило её это – фиолетово-чернильный штамп, кое-где жирный, а иногда еле заметный. Внутри него стояло всего лишь одно неприятное слово -“перлюстрировано”. Когда же, прочитав одно за одним несколько писем, она услышала глуховатый голос отца, неспешно поучающий свою невесту, которая была на десять лет моложе его, интерес Елены Николаевны к письмам с фронта заметно поубавился, и она подумала о том, как, наверно, огорчалась мама, читая скупые на чувства и слова наставления.
Правда одно письмо со вложенной в него нечеткой фотографией с обломанными уголками, со временем затерявшееся, сильно отличалось ото всех: его радостный, почти восторженный тон передался Ольге Николаевне, и она много раз перечитывала его. Скупые слова других писем в этом послании сменились поэтическими эпитетами. На фотографии же были изображены военные, подбрасывающие в воздух молодого солдата, а рядом – группа улыбающихся девушек с цветами в руках. На обороте, чётким отцовским почерком написано: “Прага, май 1945”. Читая это письмо и рассматривая фотографию, Елена Николаевна вспоминала рассказы отца и фильмы об освобождении Праги. Особенно ей запомнилось, как однажды, во время одной из подмосковных прогулок вдоль Москвы-реки, проходя мимо заброшенной церкви, он заговорил о богослужении в пражском костёле, о том, как однажды стоял заворожённый органной музыкой у входа, не смея пройти вперёд, и перед ним, словно во сне, возникал то образ матери, молящейся перед иконами, то отец сидящий за письменным столом, то тётка выхаживающая осиротевших племянников… Тогда к нему подошёл и тронул за локоть пожилой господин небольшого роста с такой же, как у его отца чеховской бородкой и глазами, полными понимания и сочувствия. Приглашая пройти вперёд, он взглядом показывал на скульптуры, витражи, а отец не мог и шага ступить, увлечённый музыкой, и только переминался с ноги на ногу и мял в руках пилотку. В письме же отец писал, что, глядя на молящихся пражан, он испытал к ним какое-то необыкновенное родственное чудо… Да, это было самое приятное из всех писем и очень тёплое…
Отец умер в шестьдесят седьмом. А весной шестьдесят восьмого Лена невольно думала: “Хорошо, что папа не дожил…”

