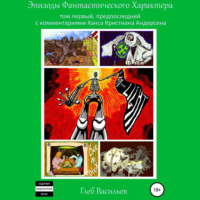Полная версия
Пушкин в Голутвине. Герой не своего романа
– А ты боишься смерти?
– Я боюсь, что если я умру… точнее, когда я умру, этого никто не заметит. Ты позвонишь мне несколько раз, не услышишь ответа и забудешь. И это в лучшем случае. А в худшем – ты и все, кто живут в моей голове, умрут вместе со мной и из-за своей смерти будут просто не в состоянии заметить моего исчезновения. Признание того, что человек умер, это главное доказательство того, что он жил. Если моя смерть не будет замечена, окажется что и жизни у меня никакой не было.
– Получается, что смысл твоей жизни в… – я запнулся. – В поиске свидетелей твоего существования?
– Такого я не говорила, голубчик, – Вика вздохнула. – Это ты сейчас меня такой выдумал. Я не ищу свидетелей, но меня пугает то, что в нужный момент их может не оказаться рядом.
– Однажды я уже был свидетелем, – я нащупал в кармане круглый пластмассовый брелок и сжал его в кулаке. – Тогда была зима, снег, темнота – вот это все. И конца этому видно не было. Как будто я родился в морозильнике, в уродливой шерстяной шапке и с бесполезным пакетом. А потом… Я тебе рассказывал о девочке Вике? Сегодня я отчего-то подумал, что ты…
– Сейчас весна. Думай о том, что мне хочется целоваться, – Вика потянулась поцеловать меня, но я вырвался.
– Как весна? Какая весна? Сейчас ведь осень!
– Ты совсем измучился, голубчик, – Вика погладила меня по голове. – Сегодня день твоего рождения, а родился ты в апреле. Помнишь?
– Да, – ответил я неуверенно. – Это я помню… то есть, вспомнил.
– Тебе нужно ложиться спать, – Вика заговорила со мной, как с маленьким ребенком. – Был долгий трудный день, пора отправляться в кроватку, смотреть сладкие сны и набираться сил.
22
Весна. Ее ни с чем не спутаешь, нос не позволит. Да что там запахи – даже обыкновенный асфальт весной выглядит иначе. Даже звук от прокатывающихся по нему автомобильных покрышек становится особенным, отчетливым настолько, что слышен хруст каждой песчинки, попавшей между дорогой и жерновом колеса.
Я иду по весне, сквозь кристальный воздух такой свежести, что кажется, будто ею можно захлебнуться. Даже автомобильные выхлопы не портят свежесть. Наоборот, они дополняют ее, концентрируют и делают еще острее.
От весны безотчетно радостно. Не пугают ни грязь выбравшихся из-под снега дворов и газонов, ни порывы все еще холодного ветра. Лишь бы светило солнце, да чирикали воробьи, а все остальное кажется таким незначительным, что о нем и думать не стоит. Ненавистная шапка и кусачий шарф отправлены в шкаф на ближайшие полгода. Куртка пока что все та же, зимняя, но уже дерзко расстегнута на груди.
– Почему ты оставил меня, Степа? Мне так плохо без тебя, – рядом со мной по этой же чумазой городской весне идет девушка с большими печальными глазами, наполненными мольбой. – Пожалуйста, давай будем вместе. Прошу, не покидай меня.
Я пытаюсь объяснить ей, что в этой весне никому не полагается никого ни бросать, ни подбирать. Что все весеннее идет само собой, как движется лед по реке. Но вместо слов я издаю невнятное мычание, нелепо жестикулирую.
– Обещай остаться со мной, – девушка обхватывает руками мое запястье. Я не знаю, хочется ли мне остаться с ней или нет, но запах весны портится, тяжелеет, становится удушливым и сальным. Так пахнет…
– Я жарила картошку с луком, – сказала мама.
– Что? – я растеряно заморгал.
– Ты спросил, чем у нас на кухне пахнет, – ответила мама. – Питаешься черт те как, забыл уже запах настоящей еды.
– Нет, не забыл. Просто задумался.
– О чем?
– Да так, одноклассницу одну вспомнил. Точнее, сон о ней. Ее мама еще с тобой в одном отделе работала.
– Ты про Иру что ли?
– Да, про нее. Она мне с пятого класса нравилась. Однажды на школьной дискотеке я набрался храбрости и пригласил ее на танец. Ира нехотя согласилась. А я так обрадовался, что начал нести какую-то чушь. В итоге она сбежала от меня посреди танца и потом до конца вечера пряталась.
– Ты мне ничего не рассказываешь, – мама обиженно поджала губы и, отвернувшись от меня, принялась ложкой перемешивать картошку в стоящей на плите сковородке.
– Чего не рассказываю? – удивился я.
– Ничего, – повторила мама. – Даже о том, что тебе в школе какие-то девочки нравились, только сейчас от тебя узнаю. Все от меня скрываешь. Что мы с отцом тебе такого сделали, что ты с нами разговаривать перестал?
– Я просто об Ире только сейчас вспомнил…
– Вот! Только девок своих и вспоминаешь, а о нас с отцом никаких у тебя воспоминаний хороших. Все детство с радостью вспоминают, только не ты. А мы тебя так любили! – мама смахнула слезу.
– Мам, я все помню.
– Да? Тогда давай, расскажи, что помнишь! – мама швырнула ложку в раковину.
– Ну… помню, что в детстве не мог выговаривать букву «р». Никакие занятия с логопедом не помогали. Тогда папа велел мне открыть рот и ногтем надавил мне на небо, а потом сказал: «Чувствуешь на небе риску? Поставь на нее кончик языка и скажи «р-р-р». Я сделал, как он учил, и у меня почти сразу получилось раскатистое «р», я смог произнести слова «тигр», «дракон» и «дурак» не картавя.
– И это твое хорошее воспоминание? – мама закатила глаза и всхлипнула.
– Помню, мне было лет пять. Мы с папой пошли за грибами. Лес был за полем. Когда мы шли через поле, папа поймал кузнечика. Я таких огромных никогда не видел – сантиметров десять, наверное. Папа протянул кузнечика мне, а я его как-то неловко взял, и он меня за палец укусил. Я испугался и отдернул руку так резко, что оторвал кузнечику голову. Не помню, заплакал ли тогда от боли или страха, но эта голова, вцепившаяся в мой палец, мне запомнилась очень четко. Почему-то синевато-розоватого цвета. Вообще, мне жаль того кузнечика. Как-то глупо с ним вышло.
– Нет, ты ничего не помнишь, ни-че-го. Ужин на плите. Поешь, если, конечно, у тебя нет более важных и интересных дел, чем есть то, что приготовила двоя дура мать.
– Мама, так напомни мне, пожалуйста, – я аккуратно положил руки на мамины плечи. – И дел у меня никаких нет.
– Степа, прекрати ерничать. Это отвратительно. Уму непостижимо, откуда в тебе столько цинизма, злобы и ненависти. Мы тебя всегда так любили!
23
– Как думаешь, почему у меня с мамой так получается? – спросил я Вику, когда мы с ней прогуливались по Останкинскому парку. – Пытаюсь помочь ей себя выдумывать, но ничего хорошего не выходит. Что ни скажу, она все с ног на голову переворачивает, или вообще не слышит.
– Видимо, ты говоришь не то, что ей хотелось бы слышать, – ответила Вика.
– А ты знаешь, о чем бы она хотела услышать?
– О том, что у тебя лучшая в мире мама. И что у тебя было бесконечно счастливое детство. Ей хочется, чтобы твое детство никогда не заканчивалось. Чтобы ты спрашивал у нее совета, с какой челюсти нужно начинать чистить зубы – с верхней или нижней. Чтобы уточнял, на каком ботинке шнурок в первую очередь завязывать – на левом или на правом.
– Но если бы я в двадцать лет спрашивал совета в таких делах, это бы означало, что у меня синдром Дауна или что-то в этом духе. Неужели ей хотелось бы иметь сына дебила? – удивился я.
– Ей так хочется только потому, что ты не дебил, а самостоятельно мыслящий взрослый человек. Был бы ты умалишенным, твоя мама день и ночь бы плакала, мечтая о том, чтобы ты поумнел и набрался самостоятельности. Но тебе, несомненно, в роли дебила было бы с ней намного проще. Больных, убогих и всячески страдающих любят гораздо больше, и понимание они находят легче. Убил бы ты кого-нибудь в пьяной драке и сел бы за это в тюрьму, ее отношение к тебе сразу бы изменилось. Мама бы придумала для себя миллион оправданий, почему ты так поступил. Обвинила бы в сговоре весь мир, а ты бы стал лучшим, самым умным и добрым сыном на планете, потому что тебе пришлось страдать. Многие люди на уровне подсознания уверены, что плохой человек страдать не может. Минус этой уверенности в том, что ум обращает ее в силлогизм – если человек страдает, то он хороший, а если не страдает, то по определению – злыдень, подлец и негодяй.
– Так мне что, действительно кого-то убить нужно, чтобы наладить отношения с мамой?
– Нет, конечно, – Вика улыбнулась. – Можешь, например, жениться на какой-нибудь стерве, тупой и уродливой, которая будет тебя гнобить. Да, жениться лучше по залету. Чтобы мама была уверена, что та стерва специально все подстроила, чтобы тебя захомутать.
– Но я не хочу становиться страдальцем, – я задумался. – Да и страдающие люди у меня симпатии не вызывают. По-моему, гораздо проще быть несчастным, а вот ради счастья еще попотеть нужно.
– Вот видишь? Большинство людей постоянно терзают смутные сомнения, а тебя, скорее, смущают сомнительные терзания. Ты сам не страдаешь, поэтому страдальцы тебя раздражают, – Вика привстала на цыпочки и взъерошила волосы на моей голове. – А твоя мама страдает. От этого все непонимание.
Я хотел возразить, что моей маме не от чего страдать, но осекся. Нелюбимая работа, пьющий безработный муж – творческая личность, сын – нечуткий и злобный циник. Есть от чего затосковать и принять сердцем безысходность.
– Ты жалеешь свою маму? – заметив мое замешательство, спросила Вика.
– Я жалею кузнечика, которому в детстве случайно оторвал голову, – ответил я. – Сожаления достойны ситуации, в которых ты бессилен что-то изменить. Своей маме я еще могу помочь, как и папе. Для них я могу сделать столько всего, что они перестанут страдать и будут счастливы. В конце концов, если я стану безобразно богат, даже несколько капель моего богатства заставят забыть их о любых страданиях.
– Удачи тебе, голубчик, – Вика улыбнулась, но глаза ее при этом были так печальны, что и мне сделалось грустно.
– Представь себе, какая странность, – я решил сменить тему. – Вот уже два раза мне снились девушки, которым я безответно симпатизировал давным-давно. И во сне каждая из них упрекала меня в отступничестве и умоляла вернуться. К чему бы это?
– К тому, что ты, голубчик, в глубине души веришь, будто бы люди могут понять свои ошибки и измениться. Отвергнуть тебя, но позже задуматься и попытаться отменить свой отказ. Но в жизни такого не бывает. Никто не станет разыскивать другого человека, чтобы просто сказать ему «прости». И если однажды тебе приснюсь я, не верь ни единому слову – это сон твоего разума порождает уебищ.
Я не успел ничего ответить, потому что мое внимание отвлекла собака. Выскочив из кустов, огромный доберман, не издав ни звука, цапнул меня за ногу и скрылся в недрах парка.
– Чья это сука?! – взвыл я. Сквозь прокушенные джинсы проступила кровь.
– Это сука реальности, – рассмеялась Вика. – Ты прогуливаешься, выдумываешь на ходу себя, меня, весь этот парк. Никаких собак в твоем воображении нет. Но вот появляется реальность, кусает тебя за ногу и исчезает. И теперь тебе приходится придумывать себя дальше уже в образе персонажа с укушенной ногой.
– Сейчас я придумаю себя, превратившегося из-за укуса в пса-оборотня. Отыщу хозяина, спустившего с поводка эту чертову реальность, и отгрызу ему задницу до самой глотки, – я злобно сплюнул на землю. Нога болела немилосердно.
– Хороший вариант, – согласилась Вика. – Только смотри, не придумай себе попутно столбняк или бешенство.
24
– Бедный, – Ира погладила укус на моей ноге.
– Да уж, собачий огрызок, – проворчал я, раздраженный неизвестно чем – то ли жалостью Иры ко мне, то ли отсутствием таковой у Вики.
– Тебе еще повезло. Я слышала историю об одном маньяке, который натренировал собаку так, чтобы она подбегала и откусывала прохожим яйца.
– Очаровательная история. А я как-то слышал о падучем дервише. На улицах Самарканда люди видели дервиша, с ног до головы замотанного в черные лохмотья. Стоило кому-нибудь приблизиться к дервишу, как тот падал на землю и начинал биться в припадке. Тот, кто проходил мимо, не пытаясь помочь несчастному, заболевал неведомой хворью, и через несколько дней умирал в муках. Однажды нашелся добрый человек, который поднял трясущегося дервиша на руки, чтобы отнести его к лекарю. Но не успел тот человек сделать и шага, как дервиш схватил его за горло, произнес фразу «за твое добро я подарю тебе быструю смерть» и исчез вместе с добряком.
– К чему этот рассказ? – спросила Ира.
– К тому, что мне еще раз крупно повезло в этой жизни – я никогда не бывал в Самарканде.
– Можешь беситься сколько угодно, – фыркнула Ира. – Но это не отменяет того факта, что нам нужно купить телевизор в твою комнату.
– Какой еще телевизор? Зачем? – удивился я.
– Я в прокате фильм о Фриде Кало взяла. Думала, посмотрим вместе. А твои опять в ящик уперлись. У них там сначала подводная одиссея Кусто, потом сериал про ментов, затем кулинарное шоу, интеллектуальная викторина, еще одно кулинарное шоу, и так далее. Твой отец прямым текстом мне сказал, что пока не кончатся передачи, которые он смотрит, посмотреть фильм нам он не даст. А кончатся эти передачи только с наступлением Армагеддона. Я заплатила за кассету, завтра ее нужно вернуть обратно в прокат. Поэтому нам нужен свой телевизор.
– Ясно, – согласился я. – А у нас есть деньги на покупку телевизора?
– В кредит возьмем, – Ира махнула рукой, будто бы отгоняя невидимую муху.
– А эта Кало того стоит?
– Степа, не говори глупостей. Сегодня Кало, завтра Калигула, послезавтра «Люди в черном» или еще какой-нибудь фильм – не имеет значения. Важно, чтобы у нас была возможность смотреть то, что мы хотим, и делать это тогда, когда мы этого хотим.
– Сейчас я, пожалуй, больше хочу тебя, – сказал я, прислушавшись к своим желаниям. – И телевизор мне для этого не нужен, как и согласие родителей.
– А после меня ты захочешь телевизор? – Ира обхватила руками мою голову.
– Ничего не могу обещать, но давай проверим.
25
Когда я, сгибаясь под тяжестью свежекупленного телевизора, вошел в прихожую, меня встретила мама. На ее лице читались обида, злость и непонимание.
– Что это? – спросила она.
– Телевизор.
– Вижу, что телевизор. Откуда он, зачем?
– Из магазина, чтобы смотреть.
– Прекрати разговаривать со мной, как с умалишенной. Я тебя спрашиваю, ты почему телевизор купил?
– Так получилось, – я не стал пересказывать маме Ирину версию о том, что они с папой будут непрерывно пялиться в экран до судного дня.
– Ты это сделал, чтобы в нас с отцом плюнуть, – мама сжала кулаки. – Чтобы запереться со своей Ирой в комнате и не выходить из нее никогда. Раньше мы все вместе телевизор смотрели, а теперь все кончено, ты нас предал.
– Мама, ну что ты такое говоришь? Какое предательство? Я просто…
– Телевизор – это символ семейного очага. Это как камин, возле которого собираются близкие люди, – перебила меня мама. – А мы с отцом для тебя чужие стали. Ты нас на девку променял. Я всегда знала, что она нас ненавидит, так вот уже и тебе мозги промыла.
– Мама, никто никого не ненавидит и никому ничего не промывает, – я постарался произнести это как можно ласковее, но получилось плохо.
– Неужели похоть тебе совсем глаза застлала? Степа, ты что, не видишь, что Ира из тебя дурака делает? Вместо того чтобы что-то полезное купить, на телевизор деньги выкинул. Это же надо до такого додуматься!
После того, как мама сказала о похоти, в глазах у меня действительно потемнело – от нахлынувшей ярости и горечи несправедливой обиды. Если раньше я не был уверен в том, люблю ли Иру, то теперь существование этой любви стало совершенно очевидным. Как и то, что мама мою любовь втаптывает в грязь.
– А я и купил полезное, – крикнул я. – Камин купил, семейный очаг купил! А ты, вместо того, чтобы за меня порадоваться…
– Порадоваться?! – мама не дала мне договорить. – Тому, что ты за какой-то шлюшкой как осел за морковкой тянешься? Что родителям своим нож в спину воткнул? Хорош повод для радости, ничего не скажешь. А ведь мы с отцом так тебя любили!
– Мама, послушай себя, что ты несешь! Это же бред! Ахинея, чушь собачья! – я окончательно потерял самообладание. Меня трясло как того падучего дервиша из Самарканда.
– Не смей орать на мать, – в коридор, пошатываясь, вышел папа. Он смотрел на меня исподлобья, и в его мутном взгляде не было ничего кроме ненависти.
– За что? – ужаснулся я. – За что вы меня так ненавидите? Что я вам такого сделал?
– Еще раз повысишь на мать голос – убью, – папа скрипнул зубами.
– Иуду вырастили, Павлика Морозова, – не унималась мама. – Не удивлюсь, если…
Выслушивать, чему конкретно мама не удивится, сил у меня не осталось. Чувствуя, что лицо мое полыхает как факел, я бросился прочь из дома, оставив коробку с телевизором на полу прихожей.
26
– Можно я у тебя немного поживу? – аккумулятор в мобильнике разрядился, поэтому я позвонил Ире из таксофонной будки.
– Степа, что с тобой случилось? – спросила Ира.
– Со мной – ничего. Это с мамой случился телевизор.
– Ничего не понимаю. Степа, ты что, напился?
– К сожалению, нет, – меня до сих пор трясло. – Всего лишь ушел из дома. Так можно к тебе приехать? Говори быстрее, а то деньги на карточке заканчиваются.
– Конечно, приезжай, – успела сказать Ира за секунду до того, счетчик остававшихся на карте минут и секунд обнулился.
По дороге к Ире я немного успокоился. Если Вика права, и мама действительно больше любила бы меня зависимым и страдающим, то самостоятельной покупкой телевизора я причинил ей серьезные страдания. Нет смысла злиться на маму. Может быть, для нее я повзрослел слишком быстро, ей нелегко к этому привыкнуть. То был ее ребенок, а потом «бац» – и человек, который принадлежит неизвестно кому. И не ясно, принадлежит ли вообще.
– Для нее, говоришь, ты повзрослел слишком быстро? – спросил я самого себя. – А для самого себя не быстро? Свой прыжок во времени-то помнишь?
– Уф, опять ты вычесался, зануда, – мысленно вздохнул я. – Если хочешь знать, то я не думаю, что какой-то прыжок был.
– Что ты имеешь в виду?
– А то, что я прожил все полагающиеся мне годы, и взрослый ровно настолько, насколько положено быть человеку в моем возрасте.
– И как же ты прожил эти полагающиеся тебе четыре предыдущих года? – я ухмыльнулся. – Рассказывай, не стесняйся. Уж я-то тебя не выдам.
– Как-как, очень просто. Окончил школу, поступил в институт, вместе с родителями переехал из одной квартиры в другую, встретил девушку, которую полюбил, купил телевизор…
– Погоди. Девушку, говоришь? Это которую – Иру или Вику? – я злобно усмехнулся.
– А тебе-то что за дело? – огрызнулся я.
– Хотя бы такое дело, что я – это ты, и наоборот.
– В таком случае, ты и сам все знаешь не хуже моего, – не сдавался я.
– Я ничего не знаю. Ни-че-го. Всего лишь хочу, чтобы и ты в этом признался.
– Зачем? Меня все и так устраивает. Во многом знании, как ты помнишь, ничего хорошего. Или ты заодно с мамой, и желаешь, чтобы я страдал?
– Нет, себе я как раз таки не враг, а, значит, и тебе тоже. Просто я боюсь, что если ты сейчас не задумаешь о том, что происходит, велика вероятность, что потом придется за эту беспечность поплатиться.
– Не усложняй, – я усмехнулся через силу. – Уверен, что все идет своим чередом. Едва ли кто-то мог сдать те же вступительные экзамены вместо меня. А самого процесса сдачи я не запомнил, потому что это было не так уж важно.
– Моменты знакомства с Ирой и Викой, стало быть, для тебя тоже неважны, раз ты их не запомнил?
– Ну, не то, чтобы неважны, – я замялся. – Наверное, я думал тогда о чем-то другом.
– Большую часть времени, в течение которого я тебя знаю, ты искал смысл смерти. И что же, этот дешевый пластиковый брелок с черепушкой оказался важнее?
– Ты точно с мамой в сговоре, – я ощутил новый прилив злости. – Давай, обзови меня злым, циничным, бессердечным, равнодушным, себялюбивым, похотливым. Хочешь? Давай, не стесняйся!
– В этом нет смысла, ты только что сам себя обозвал, – ответил я.
– Как же ты мне надоел, – я мысленно показал себе кулак. – Я еду к любимой девушке, а ты катись куда хочешь, предатель, и больше не показывайся.
– Я сейчас замолчу. Только напомню тебе об одной маленькой мертвой девочке.
– Ну, напомнил, и что дальше? – спросил я, но ответа не последовало.
27
– Только на пару дней, не больше. Ладно? – сказала Ира, поцеловав меня в прихожей. – Иначе маме будет сложно объяснить.
– А два дня моего проживания здесь ты как объяснила?
– Никак. Объяснения понадобятся после двух дней, – Ира выставила передо мной пару смятых тапок. – Говорить, что ты со своими родителями поссорился, нельзя. Мама и без этого твоих больными на всю голову считает.
– Ну и что? – я отдал Ире куртку, снял ботинки и втиснулся в тапки.
– Моя мама думает, что ты такой же, как они. Не стоит усугублять.
– А ты меня тоже психом считаешь?
– Нет, я считаю тебя необычным. Так у тебя найдется, где после меня пожить?
– Конечно, никаких проблем, – на душе снова стало гадко, как после просмотра азиатского порно.
– Эй, чего у тебя такой кислый вид? Я же люблю тебя, Степа.
– А я, по всей видимости, тебя, – я помолчал несколько секунд. – Как думаешь, я похотливый?
– Ты хороший, – Ира улыбнулась. – Пойдем скорее в мою комнату, пока мама с работы не пришла.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.