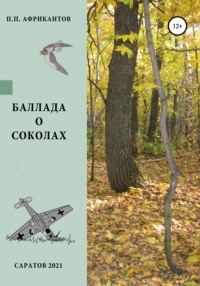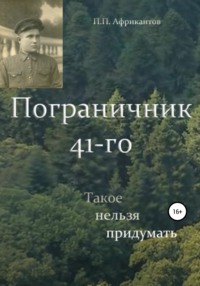полная версия
полная версияСтранные истории
Скорая приехала на удивление очень быстро. На месте была снята кардиограмма и Марию повезли в больницу. Валентина Михайловна и Андрюша поехали вместе с ней.
Из больницы Валентина Михайловна забрала мальчика к себе. Андрюша не упрямился. Он видел, что с мамой случилось что-то непонятное, её зачем-то оставили у себя люди в белых халатах. Валентина Михайловна накормила малыша и уложила спать. Мальчик долго не мог заснуть, ворочался, а потом попросил рассказать сказку.
Почти целую ночь Валентина Михайловна не спала. Она, то молилась о Марии, то сидела около Андрюши, смотрела, как он чмокает во сне и вспоминала своего сына. И, в какое-то время, ей даже показалось, что это её сын и что нет на свете никакой Марии.
Когда они с Андрюшей пришли на следующий день в больницу, Мария под действием лекарств ещё спала, и им не удалось с ней поговорить. Валентина Михайловна попросила врача, что когда проснётся Мария сказать ей, что с мальчиком всё хорошо. Дома Андрюша играл в старые Андреевы игрушки, ползал под столом, изображая из себя паровоз, и называл Валентину Михайловну бабушкой.
– Ах, ты, моя радость,– говорила Валентина Михайловна,– а сама думала о том, что хорошо бы, если бы это был её внук и что эта женщина оказалась её не состоявшейся снохой. Эти мысли ею настолько завладели, что от них ей даже не легко было отказаться. Она, встречаясь с Марией в больнице, боялась задать свой непростой вопрос. Там в больнице она и встретилась с другом мужа Марии, который и рассказал Валентине Михайловне историю её подопечной.
Они оказались беженцами из Таджикистана. Там, в Таджикистане, осталась их квартира и всё нажитое. Здесь они жили на квартире у него, у школьного товарища, который сам с семьёй ютится в однокомнатной.
Через месяц Марию выписали. Они втроём сели в старенький «Москвич» друга.
– Поедем ко мне,– сказала Валентина Михайловна.
– Не понял,– сказал водитель и вопросительно посмотрел на Марию. Та молчала.
– У неё бабушка нашлась,– сказала старушка,– вот к бабушке и поедем, так, Андрюша?,– и она крепко прижала мальчика к себе.
Саратов, 2007.
Улыбчивый Саня
(рассказ)
Никто не знал, где он жил, куда уходил и откуда приходил. Но на городском кладбище он появлялся каждый день. Досужие старушки, завсегдатаи кладбища, что торгуют перед входом живыми и искусственными цветами, говорили, что у Сани есть комнатка в коммуналке, на краю города, откуда до кладбищенской ограды рукой подать. Потом ссылались на показания кладбищенского сторожа, что он, дескать, знает, что Саня живёт в старом заброшенном склепе под землёй. Склеп пустой, потому что в революцию большевики, дабы отомстить уехавшему за границу генералу, вытащили его родственников из склепа и бросили кости на поругание. Кости потом захоронили отдельно, а склеп остался незаселённым. Рассказывали и другие байки. Байки байками, только Саня в одно и то же время появлялся среди могил и не было ни одного человека, посещавшего кладбище, чтобы его не видел.
Саню все, из часто посещающих кладбище, любили и обязательно приносили для него еду, одежду или обувь. Саня не был похож на закоренелого бомжа. Иногда ему из одежды что-то и было не по росту, но всегда имело чистый вид и сам он был ухоженный и постоянно весёлый. Глаза его так и светились радостью и источали доброжелательство к кому-бы то ни было.
Бывало Саню кто-то и ругал в горе, по злобе, дескать, чего ты щеришься, когда у людей несчастье и даже замахивались на Саню, а он всё равно улыбается и старается помочь. Его так и прозвали – «Улыбчивый Саня».
– Ты бы, Саня, всем-то не улыбался, небесная твоя душа. Люди-то разные, со зла и зашибить могут,– говорили ему, жалеючи, старушки.
– Небушко на всех дождь проливает, и на злых, и на добрых,– отвечал Саня.– Под этим дождичком и пырей, и пшеничка растёт.
Он никогда не отвечал прямо, а всегда выражался туманно. И ещё Саню, хоть он и целый день был на кладбище, нельзя, например, попросить полить на могилке цветы. Проси не проси – не сделает. А обязательно сделает то, чего не просишь.
– Ты чего, Саня, такой строптивый?– спросят. А Саня размахнёт в стороны руки и скажет: «Кладбище ух, какое большое, а Саня вот какой маленький!»– И присядет, показывая какой он маленький; дурачок да и только.
– Некоторые махали на него рукой и говорили: «Чего с обиженного Богом возьмёшь!»
Я тоже знал о существовании Улыбчивого Сани, но как-то, близко с ним сталкиваться не приходилось. И вот однажды судьба нас с ним свела, и я после этого изменил к нему отношение. Было это в июле. Пришлось мне ехать в рейс на грузовике, километров за двести, везти бетонные блоки. Следом должен был подойти автокран, чтобы эти блоки сгрузить. А тут соседка: «Завези, да завези к моему мужу на могилку сумку». А в сумке краска, растворитель, цветочная рассада, инструмент; в общем набралось. Женщина пожилая, нелегко ей с тяжёлой сумкой по автобусам и троллейбусам мотаться. Я согласился завезти и спрятать сумку в растущих около креста розах. В общем, это по-моему – розах. Очень уж похожие на них, только вьются, точного названия их я не знаю. В общем, взял сумку – повёз. Выехал рано, впереди путь неблизкий, а тут надо на кладбище заскочить, хоть и по пути, но всякое бывает.
К кладбищу подъехал ни свет ни заря. Иду по аллейке. Утро ясное, на небе ни облачка. Солнышко уже над деревцами поднялось. Лучи его молодые, сильные легко просвечивают всё вокруг. Странно, но даже листва для них не помеха. Лучи не обтекают листья и ветви, а проходят сквозь них, оставляя на земле призрачные тени с узорами и прожилками, и кажется, что эти лучи уходят дальше в землю, проникая до самых подкопов, и играют тенями трав на лицах усопших. А если хорошо присмотреться, то высоко в небе можно увидеть порхающих ангелов. Их крылышки трепещут и серебрятся в бирюзовом пространстве и не каждая птица может достигнуть этой высоты. Потому что это не дано многим птицам, а только голубям, которые поднимаясь и кружа, устремляются в бесконечную высь и достигают того, чего не возможно человекам. Ей, Господи! Ей! Хорошо, чудно во владениях твоих под утренним светилом. А ещё лучше вот здесь, в месте свиданий, где, временное встречается с безвременным, старость с молодостью, тленное с нетленным.
Могилку нашёл сразу. Положил сумку в заросли цветов, так чтобы не было видно, травой ещё немного прикрыл и хотел, было уже идти назад к машине, как увидел Улыбчивого Саню. Идёт Саня по дорожке, рыжая кудрявая голова его с веснушчатым загорелым лицом горит ярким букетом и кажется, что это не Саня, а пылающий костёр движется средь могил, то пропадая за памятниками, то возникая вновь. Лицо у Сани восторженное, глаза горят и сам он, какой -то воздушный и будто по земле совсем не идёт, а плывёт над ней, перебирая ногами в вершке от ярко зелёного подорожника и, конечно, улыбается.
Нет, вы не знаете Саниной улыбки! Даже если б я и очень постарался, то всё равно не смог бы вам её описать, и даже если бы за это дело взялись и более талантливые писатели, а не я грешный, и даже корифеи литературы прошлых эпох, то и они изобразили бы только вялое подобие того, что она на самом деле из себя представляет.
На вид ему было лет тридцать пять, сорок, не больше. У него не было настоящих усов и бороды. Их заменял белёсый пух, который как бы случайно клочками прилепился к лицу Сани и при небольшом ветерке сразу отлипнет и одуванчиком полетит, полетит, затем взовьётся в крещёную высоту и исчезнет.
Я смотрю на Саню во все глаза, а сам непроизвольно нагибаюсь за розы, чтобы он меня не заметил. Почему прячусь – не понимаю. Саня подходит ближе. Я уже отчётливо вижу его развевающуюся клетчатую рубашку, а оборванные ниже колен синие джинсы заканчивающиеся бахромой ниток. Саня лёгкой походкой, как бы играючи, подходит ближе, останавливается у заброшенной могилки и говорит: «Здравствуй, моя хорошая! Заждалась Саню. Вижу, что заждалась, прости неприкаянного. Понимаю, что долго. А куда же деваться? Домиков неухоженных в нашем городке всё больше становится, а я один. Я вижу, что меня помните, узнали? Вот и хорошо, что узнали. А я о вас не забыл. Думал «Раньше управлюсь» – не вышло.
Я понял, что Саня разговаривает, то-ли с могилкой, то-ли обращается к усопшим. Понял и то, что он называет могилки домиками, а кладбище – городком.
– Да, да,– продолжал Саня,– очень много домиков без ухода. Люди пытаются меня другой работой нагрузить, а я отказываюсь. Нехорошо это, наверное, грех. А куда же мне бедному Сане деваться? Просят цветочки полить. Я бы и не против, только смотрю – домик ухоженный, чистый, а на других репьи да полынь – вот тут и выбирай. Вот и выбираю, мои родные, полынь да крапиву, так-то,– и Саня глубоко вздохнул, как будто он виноват в том, что не может успеть всюду, начал рвать траву.– И то грех, и вас оставить – грех,– продолжил он,– вот и выбираю из двух грехов меньшее. Так-то…
Мне показалось, что Саня всхлипнул. Скрываться в неудобной позе мне было неудобно, но и прерывать Саниной беседы не хотелось. Я удивился, что Улыбчивый Саня разговаривает то-ли с могилками, то -ли с людьми в них захоронёнными как с живыми. При этом в его голосе было столько нежности, заботы и ласки, как будто здесь под землёй лежат его ближайшие любимые родственники.
– Вы меня знаете,– послышался снова Санин голос,– я хоть и попозже, но приду. Мне главное было навестить тех, кто здесь недавно. Они ещё наших порядков не знают, обидно им – только прошлым летом захоронили, а они уже стоят в репьях, да в старье. Помню, когда хоронили, народу много было, выступали, хорошие слова об усопшем говорили… и никого.
Сейчас, мои милые, травку подёргаем, крестик поправим, и всё будет хорошо. Очень мне докучают оградки. С одной стороны – вроде бы хорошо. Это когда уход есть. А без ухода – крепость с пиками. И не поймёшь, чего эта крепость здесь охраняет, то ли репьи за ней выросшие, то ли холмик? Не понимаю я – этой моды. Люди, право, как дети, новой игрушкой поиграли и забросили. Только ведь могилки – не игрушки. Могилки – это наша сопричасность вечности. И могилки жалко, и людей жалко. Они, вон, меня жалеют. Дескать, Саня бездомный, Саня голодный. И того им не понять, что это не я, а они бездомные, голодные и нагишом. Про́пасть это, про́пасть. Редкие её преодолевают.
Вот, мне вчера один говорит, когда я приблизился к оградке с его близкими: «Иди отсюда, бомжара вонючий». Посмотрел я на него и вижу, весь он как будто смолой или дёгтем облитый. На шее крест, а на кресте жаба качается, посмотрел я на домик, а по бугорку змеи шипящие ползают. Жалко его стало, с виду такой солидный, а пропадает.
Тут я пошевелился, стараясь распрямить затёкший сустав и Саня повернулся на шум. Он нисколько не удивился, увидев меня, как делают это застигнутые врасплох люди, даже не перестал улыбаться. Вся его поза говорили: «Кто ты, мил человек? Почему ты вторгся в моё пространство так рано? Почему мне мешаешь беседовать?» Саня распрямился и я прочитал в его позе, глазах, улыбке: « Кто бы ты ни был – я тебя люблю. Ты пришёл сюда рано утром – значит это тебе надо, как и мне. Сюда, просто так, погулять не приходят, Ты мне интересен».
– Я вам не помешал?– спросил я Саню. Он покачал головой.
– А разве здесь может кто-то кому-то мешать?– ответил он вопросом.
– Иногда людям хочется побыть одним…
– Здесь, милый, нельзя быть одному.
– А мы -то с вами одни,– сказал я недоумённо и посмотрел по сторонам.
– Это так только кажется. Видимость.
– Не понимаю…,– и я пожал плечами. Саня покачал огненной головой. Мне показалось, что веснушки на его лице вспыхнули. По всей видимости, собеседнику мой ответ не то, что не понравился – он его взволновал.
– А это кто по- вашему?– он показал на могилки.
– Мёртвые,– сказал я и тут же поправился,– усопшие, то есть, уснувшие вечным сном.
– Ну, вот, милый! Рядом спящие, а вы говорите никого нет…
– Да я о том, что вроде никто не видит и не слышит?
Саня медлил с ответом, видимо думая, как сформулировать мысль и вдруг сказал, ни к кому не обращаясь:
– И видят, и слышат и даже, бывает, в наших скорбных земных делах участвуют. Только для одних это бывает явно, а для других прикровенно…, насколько приять могут.
– Как это?
– Тайна это, милый… тайна…, для многих тайна.– Он вздохнул и докончил фразу,– но не для всех.
По жизни я знал, что покойники часто снятся людям, снились умершие и мне. Только мне они снятся просто, а другим даже помогают найти утерянные вещи. Но такие сведения «просвещённому» уму мало чего говорят, о проникновении небытия в бытие. «Просвещённый» ум находит свои ответы на эти вопросы и достаточно убедительные, например: «разве человек не обладает памятью?, Разве он не может всё это вспомнить сам и обставить своё воспоминание всевозможной экзотикой в виде покойников – запросто. Потом, не будем забывать, что наш ум – художник и нарисовать ему любую картину, даже самую величественную в сознании – дело плёвое. Разве мы в мечтаниях это не делали тысячи раз?»
– Так давайте делом заниматься,– прервал Саня течение моих мыслей, он встрепенулся и, наклонившись, стал быстро рвать траву.
Я не знал, что мне делать. Вот так уйти – было неловко, потом разговор меня заинтересовал, и мне хотелось его продолжить. Потом я выяснил, что Саня совсем не дурак, как считают некоторые, а просто человек с особенным мировосприятием. Говорили, что он не общается с людьми,– а вот говорит и ничего? Потом, что говорил Саня, я уже где-то читал или слышал краем уха. Знания эти были не обстоятельные, а так – вперемежку со многими другими, подчас прямо противоположными по смыслу, что постоянно на нас сваливают газеты и телевидение. И получается, что человек информирован о многом, но толком ничего не знает, его голова стала некоторым подобием мусорной свалки. А, мы знаем – на свалках, с постоянным присутствием там тлетворного запаха, можно найти и бриллиант, но только в загаженном виде.
Как продолжить разговор, я не знал, уйти что-то мешало… Я опустился на колени рядом с Саней и стал рвать траву. Почему я это сделал – не знаю: торопился- но стал медлить, нервничал – но успокоился.
Вдвоём мы довольно быстро управились с делом, после чего Саня, вытер пучком травы руки и сел на скамеечку возле оградки. Я сел рядом. Он заговорил сам.
– Радуйтесь, Милый, радуйтесь.
– Чему же радоваться?
– Очищается ваша душа от нечистот. Слава Всевышнему!
– Не понимаю вас?
– А тут понимать нечего,– питались рожками со свиньями и вот задумались.
– О чём задумался?
– О том, что у вашего Отца в доме много еды.
Я стал догадываться, что этот кладбищенский «бомж», знает то, о чём я не знаю. Это сквозило в его улыбающемся взгляде, интонации и даже движениях.
– Понимаю,– ответил я. Хотя, откровенно говоря, сказал это больше по инерции, чтобы не образовалось в разговоре пустоты и неопределённости. Люди иногда так делают, откладывая на потом обдумывание непонятных им фраз.
– Понимать, мил человек, мало,– сказал Саня. – Понимать – это первая ступенька. Потом же, понимать всё невозможно, хотя многие силятся. Вон, какие компьютеры насоздавали, натолкали в них массу информации, залезай, ройся и набивай себе голову всем чем угодно, рассовывай по карманам, клади за пазуху. Нагрузится человек этим добром, и встать от тяжести не может, зато слывёт просвещённым интеллектуалом… Тьма это египетская… тьма.
– Почему тьма?
– Потому, что это похоже на то, что оказался человек в степи, а идти куда, не знает, нет указателей направления. А из этой степи можно и в тундру выйти, и в пустыню угодить и в непроходимую тайгу.
«Я только что размышлял об этом»– подумал я,– чувствуя как в моей душе нарождается некое смятение чувств, переходящее в подозрительность. Я понимал, что Саня своими репликами и вопросами подталкивает меня к принятию самостоятельного вывода. Какого? – «У Бога все живы»? Возможно. Хотя мало-мальски верующий человек это знает. Да и неверующий знает, если совал нос чуть подальше общеобразовательной школьной программы. Но я сказал то, что сказал:
– «У Бога все живы» Саня.
– Это вы верно сказали…– Саня помолчал,– я тоже раньше так думал,– сказал он непринуждённо.
– А теперь, что… так не думаете?
– Нет, теперь тоже иногда приходит такое в голову, но я стараюсь об этом не думать.
– Почему так?
Саня окинул меня изучающим взглядом. Видимо он думал: «Пойму ли я его? И, насколько глубоко можно со мной рассуждать по этой теме?»
– Потому, что когда человек думает – он пытается познать. В какой-то степени он пока полностью не познал, то находится в некотором сомнении. Он постоянно себя убеждает и этим самым вьёт гнёздышко собственной веры.
– А если гнёздышко свито, или почти, что свито?
– Если гнёздышко готово и туда положено семя веры, то тогда мысленная суета отвлекает. А чтобы она не отвлекала, то к ней надо приложить дело, что мы сейчас с вами и сделали.
– А откуда берётся семя?
– Вы это спросили просто так… – проговорил Саня и добавил,– это семя даёт Бог и вы это знаете не хуже меня. Семя веры даётся, но взращивает его в себе сам человек и гнёздышко для него вьёт сам. Поэтому и свивание гнёздышка и взращивание положенного в него и хранение есть великая человеческая тайна.– Саня замолчал и уставился взглядом в одну точку. Руки его на коленях обвисли, голова склонилась.
– Почему вы мне это говорите? Это ведь ваше, личное?
Саня покачал отрицательно головой:
– Уже не личное…, уже и ваше тоже.
– Ой! – встрепенулся я,– мне же ехать надо. Впереди двести вёрст.
– А ты не спеши,– проговорил Саня,– у тебя ещё есть время.
– Какое время,– проговорил я вставая.– У меня груз, там люди ждут, крановщик!
– Ну, ну,– сказал Саня,– поезжай коли торопишься, только крана тебе часа два придётся дожидаться.– Мы расстались.
Так и произошло. Кран по дороге попал в аварию, правда сильно не пострадал, для него царапины, а вот легковушка, что в него врезалась, своим ходом уже не поехала.
Встретились мы с Саней ещё раз, уже осенью. Я пошёл на кладбище к племяннице и там встретил Саню. Мы кивнули друг другу. Саня, как всегда, улыбался. Но улыбка его при встрече со мной, была, как мне показалось, более доверчивой.
– Так вы, дождались крана,– сказал он. И в его словах было более утверждения и констатации факта, нежели вопроса.
– А вы как тогда угадали?
– Гадает бабка на кофейной гуще, да только всё мимо.
– Говорят, что вы живёте на кладбище?
– Нам придётся посторониться,– и он кивнул на приближающуюся похоронную процессию. Я посмотрел в ту же сторону. К нам приближалось множество народа, слышались звуки траурной музыки.
– Вы так и не ответили на мой вопрос,– сказал я.
– Я живу в городе,– а в нём разные есть дома и разные квартиры и жители в городе разные. Только эти жители кающиеся, а ваши…– он покачал головой, помолчал и продолжил. –Даже на одре редко встретишь кающегося. Вон видишь, несут,– и он кивнул в сторону процессии,– чтоб скорее отделаться, принесли с утра пораньше. С морга привезли, даже домой не заносили.
– Почему не заносили?
– Чтоб покойником не пахло,– бабулька в больнице преставилась. Вон видите двух женщин за гробом.
– Вижу.
– Они раздерутся из-за наследства. Только зря.
– Почему?
– Потому что оно ни на них записано.
– А на кого?
– Есть в процессии одна скорбная душа, что по усопшей убивается, но ей у гроба даже места не нашлось. А ведь только она молилась и будет молиться об упокоении души погребаемой.
Тут процессия поравнялась с нами. Процессия, как процессия – скорбные лица, тёмные одеяния, редкие всхлипывания. И вдруг шуршащую тишину разорвал голос:
– Улыбайтесь, любезные! Улыбайтесь!
На него зашикали. «Кто это?»– спрашивали неосведомлённые.
– Кладбищенский полоумный, идите, не обращайте внимания,– раздался голос кого-то из сопровождавших.
– А чего он взывает?
– Улыбайтесь, господа,…улыбайтесь,– говорил улыбчивый Саня,– ведь день похорон не есть только день скорби, но и радости.
– Пошёл прочь, дурак!,– проговорил, шипя, господин в дорогом костюме, и отодвинул Саню в сторону, загородив его своей широкой спиной. Саня больше уже ничего не говорил. Мимо двигалась нескончаемая вереница людей, а по Саниным щекам текли слёзы, а губы его просто беззвучно шевелились. И по этим шевелящимся губам я понял, он повторял ту же фразу «Улыбайтесь, господа,.. улыбайтесь». Процессия миновала нас и стала удаляться.
– Вот и всё,– сказал Саня скорбно,– сейчас бросят по горсти земли и бросятся делить наследство.
– Вы, Саня, как -то не в тон,– сказал я.
– Ничуть, просто на один домик стало у меня больше.
– А как же скорбная душа? Она что, не будет ухаживать?
– Она умрёт через день, как только станет известно, что всё наследовано ей. Она просто не выдержит этой божьей щедрости.
– Вы как-то об этом просто и даже с улыбкой говорите.
– А это как раз и есть те души, которые улыбаются незримо мне, а я им улыбаюсь в ответ.
Саратов, 2008.
К источнику
(повесть)
1
Я давно собирался съездить на святой источник, но как-то всё не выходило. Мои знакомые уже там были, а я всё откладывал и откладывал. Наконец твёрдо и решительно сказал себе: «Еду» – и уже ничто меня не могло остановить. Зная, что дорога не близкая, заранее приготовил всё необходимое и отправился на автовокзал.
Междугородний автобус мерно шуршит шинами, давя ночную наледь по краю дороги. Из пассажиров кто спит, кто вяло переговаривается или зевает. Я сижу у окна и пытаюсь разглядеть что- либо за стеклом. На улице темно. Раннего утра синь плотно обволакивает автобус. Разглядеть что- либо невозможно, только редко где на трассе набежит кучка фонарей, заглянет в автобусное окно и отпрянет прочь, высвечивая придорожную забегаловку с чопорным названием «Кафе» и снова, фиолетовый полумрак.
Рядом со мной сидит с маленькими усиками мужчина лет пятидесяти и откровенно пытается заснуть. Добродушные губы, на широком лице его потихоньку шевелятся. Сплошь седые волосы придают лицу выражение повидавшего, знающего и много пережившего человека.
«Наверное, какой–то инженер с бывшего НИИ,– подумал я,– чем-то он сейчас занимается?»
Я перестал смотреть на соседа и стал думать о своём. И уж, было совсем забыл о нём, как тот чётко проговорил:
– Что не спишь?
– Не спится совсем,– ответил я ему в тон.
– Вот и мне тоже. Думал вздремнуть, часок- другой пока едем, а ничего не выходит. Я пытался и молитву читать – не помогает. Всё равно в голову лезет всякая всячина и вспоминается то, что уж давно пора забыть и никогда не вспоминать.
– Что так?– спросил я его. Более желая поддержать разговор и этим помочь человеку разговориться.
Было видно, что у соседа лежит что-то на сердце, что ему очень хочется что-то рассказать и никакой сон его от этого не спасёт. Ему нужна была исповедь. А может быть не столько исповедь, сколько желание поделиться накопленным опытом, который он не мог носить в себе просто так. Догадка моя впоследствии подтвердилась, и я, забегая на перёд, скажу, что был рад, что Господь свёл меня с этим человеком.
Четыре часа пути пролетели как одна минута. От него я узнал много нового и даже сокровенного. Мой попутчик оказался интересным человеком с весьма не простой судьбой. Нет, он не плавал на подводных лодках, не сопровождал натовские субмарины, не колесил по заграницам и даже рубля лишнего в кармане не имел.
«В общем, проходная личность,– может сказать читатель и отложит повесть,– современный типаж чеховской шинели, скучно. Не могут писать про русских Рэмбо, не-т не могут." Но я бы не советовал закрывать книгу и втыкаться в телевизор. Право, этот рассказ бывалого человека стоит того.
Звали попутчика Иван Петрович. Он был лет на десять старше меня. И жизненный опыт его был далеко не такой, как мой, хотя я тоже уже повидал не мало. Его опыт лежал совсем в иной плоскости и к любому человеку этот опыт имеет самое прямое отношение. Только об этом я узнал потом, когда мы познакомились поближе.
– А давно ли вы надумали ехать к источнику? – спросил я, чтобы как-то продолжить разговор.
– Я еду к нему не первый раз,– ответил Иван Петрович,– наверное, уже седьмой, если не больше. Знаете, не люблю считать, какая разница. Главное, что мне там хорошо, и ладно. Приеду на источник, вдохну тамошнего воздуха и жить хочется. Сяду на пригорок – благодать. Так бы и сидел и никуда не уходил. Другие приедут, быстрее окунутся и убегают. А я нет. Зачем ехать, чтоб вот так быстрее, быстрее… Суета у человека в сердце сидит, страсть, вот он и стремится всё ухватить и везде побывать. Это больше на экскурсию похоже. А я… нет.
Иван Петрович пошевелился, как бы пытаясь усесться поудобнее в кресле, и продолжил.