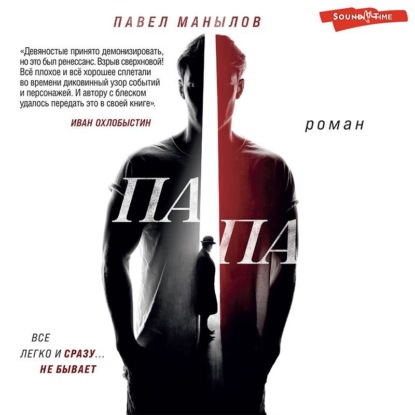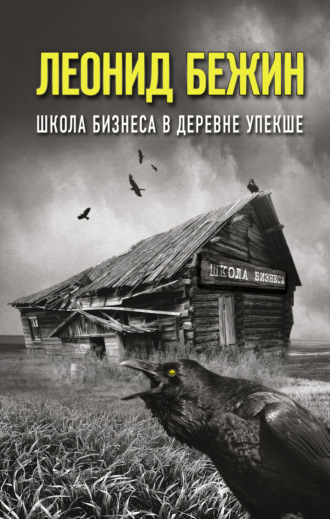
Полная версия
Школа бизнеса в деревне Упекше
– Избу он вам сейчас покажет.
– Какую избу?
– Ту самую, бревенчатую. Здесь она, изба-то. И наличники, и герань на подоконнике, и даже погреб, в котором нас похоронят, – здесь, здесь. – Она засмеялась тихим, счастливым, воркующим смехом.
– Простите, а вы… из Одинцова? – в один голос спросили мы с женой.
– А откуда ж еще? Из Одинцова родимого – вот и тоскуй теперь о нем, вспоминай, кручинься, что вывезли, но обратно все равно не вернут.
– Почему же? Если хотите, мы за вас попросим.
– А потому, – ответила она так, как будто это слово не нуждалось ни в каких добавлениях, но все же добавила: – А потому, что отрезано… Вот платье на мне – единственное, что осталось. Да и вас мне жаль, родненьких, что по свету мотаетесь, носит вас, как и меня. Что твои паутинки в воздухе…
Жена сочувственно улыбнулась ей, что можно было истолковать как благодарность за такую искреннюю жалость, хотя мы в ней и не нуждались, и вспомнила про долг.
– Разрешите мы вам долг вернем. За ресторан.
– Э, милая… Брось. Не мельчи. – Вы как сюда прибыли-то?
– Как и все. На самолете.
– Самолеты ж не летают.
– А мы прилетели еще до забастовки, долго жили в гостинице.
– А гостиница у нас полгода как закрыта. Но, может, вы такие важные гости, что для вас и открыли, а?
– Да, да, хозяйка была так любезна… – поторопилась заверить жена.
– Только не хозяйка, а хозяин, бывший повар на адмиральском флагмане, – поправила женщина, осторожно внушая, что, несмотря на наше отчаянное вранье она по долгу гостеприимства всему так же отчаянно верит.
XII
Когда шум на втором этаже затих, нас туда позвали – не сам Варфоломей, но кто-то явно по его просьбе. Мы поднялись по крутой деревянной лестнице, толкнули дверь и оказались… в избе. В избе с бревенчатыми стенами, геранью на подоконниках и русской печью, уставленной сковородами, чугунами и горшками. Пол был чисто выметен, хотя в углу оставались стружки и опилки – свидетельство того, что изба обновлялась и расширялась.
– Боже мой, что это такое?! – Жена зажмурилась, а затем открыла глаза, удивляясь тому, что увиденное не исчезло, словно мираж. – Что вы тут нагородили! Зачем это здесь?!
Варфоломей задумался над тем, как бы не сказать лишнего и в то же время выразиться так, чтобы сказанного оказалось достаточно и мы его хотя бы отчасти поняли.
– Я не буду читать вам лекцию, но, видишь ли, мы распространяем здесь в Калифорнии русский дух, знакомим с нашим народным бытом, традиционным образом жизни, нравами, обычаями… Это расширяет кругозор американцев, слишком ограниченный и зауженный. Кроме того, это помогает здешним жителям выбираться из трудных положений – ловушек, которые они сами себе устроили.
– Изба помогает – каким же образом? – Своим вопросом жена показывала, что каким бы образом изба ни помогала, она все равно останется для нее избой. – Извини, но это немного смешно.
– Напрасно ты так. – Варфоломей стерпел насмешку, как готов был все терпеть от матери. – Помогает не столько изба, сколько сам принцип ограничения своих потребностей, аскетизма, возвращения к истокам.
– Ах, вот оно что! С таким ограничением можно согласиться. И что же – американцы соглашаются жить в твоей избе?
– У меня не одна изба, а пятьдесят – по числу американских штатов. И америкосы охотно соглашаются и подолгу живут. Из-за этого даже пришлось закрыть здешнюю гостиницу, поскольку номера в ней теперь не пользуются спросом.
– Чудеса! – не выдержал я. – И чем же они тут занимаются, твои постояльцы?
– Отсюда есть выход во двор, в яблоневый сад, к реке, капустным грядкам и пчелиным ульям. Одно это заставляет их забыть бессмысленную погоню за миражами – прибылью, успехом, обжорством, богатством – и довольствоваться лишь самым необходимым. Они занимаются простым крестьянским трудом: возделывают огород, боронят поле, рубят дрова. И не стесняются вспотеть от затраченных усилий. А в доме они топят печь, варят щи в горшках. Усердно читают жития святых, даже молятся на иконы в красном углу. Это постепенно меняет их взгляды на жизнь, на окружающий мир, на самих себя. Американцы ведь слишком оскудели духом. Они утратили интерес к истории, географии и прочим наукам. Они не знают, кто такой Ганнибал, Тамерлан, Конфуций, Махатма Ганди. Не знают, где находится Остров Святой Елены и кто туда был сослан. Средний американец не способен разделить 111 на 3 и не умеет пользоваться дробями. Американцы превратились в примитивных потребителей, они носят купленную одежду не больше недели и покупают новую. А уж что такое старая одежда, в чем ее сакральный смысл, как она влияет на судьбу и какие открывает непознанные свойства мира – они утратили об этом всякое понятие. Недаром они помешались на SECOND HANDе, что можно сравнить лишь с суррогатным материнством. При этом они мнят себя хозяевами мира и всем диктуют свою волю. Европу, которая изначально была неизмеримо выше их, они превратили в свою служанку и побирушку. Европа, как сиделка, вытирает задницу Америке. Это скоро приведет американцев к катастрофе и ужасному краху.
– И ради того, чтобы их спасти, ты им прививаешь избяной дух?
– Повторяю, что важна не изба, а самоограничение.
– И у тебя есть примеры усвоения твоих уроков?
– Да, целые колонии здесь в Калифорнии сменили свои особняки на избы, отказались от покупок и перешли на подсобное натуральное хозяйство: все производят и готовят сами.
– А как на это смотрят власти и полиция?
– Пока терпят.
– И не угрожают?
– Они лишь ставят условие, чтобы мы не ругали мормонов.
– А вы?
– Пока выкручиваемся.
– Но все-таки ругаете?
– Скорее мягко поругиваем и критикуем.
– А не хотите ли вы с помощью избы… завоевать Америку? – спросил я так, словно за всем высказанным Варфоломеем могло скрываться и что-то не высказанное, но неким образом различимое в его словах.
– Да зачем она нам, – ответил он, и различимое стало хотя и высказанным, но при этом совершенно затуманенным и неразличимым.
Мы пробыли у Варфоломея три дня, и он нам еще многое рассказал и во многом нас убедил. Вернулись мы домой тем же способом, каким пожаловали к нему в гости. Теперь мы могли быть спокойны. Избяной дух оказывал свое целебное воздействие. Америка была спасена.
Правда, это была уже не Америка…
XIII
В первый, еще по-летнему отдающий ландышевой прохладой понедельник сентября, когда я, верный своей причуде, оделся соответственно этому дню недели, мне посчастливилось встретить моего однокурсника и старого друга Женю Айдагулова. Вообще-то он был Джангиром, но все его звали Женей (восточное имя ему как-то не шло), а за глаза величали по присвоенному ему прозвищу – Айда Гулять.
Он родился в Москве, на Якиманке. Его предки служили под знаменами, покоряя Кавказ, и лежали в Москве на Ваганькове. И он считал себя русским, даже немного славянофильствовал, отстаивал патриотические идеи и убеждения. Вопреки этому у него было второе прозвище – Бай, поскольку в нем проглядывало и нечто восточное, властное, с хитрецой. Во всяком случае, держался он просто, но при этом надменно, с высокомерным холодком. И не допускал принятого у нас студенческого панибратства.
Вот его-то мне и посчастливилось встретить после долгих лет разлуки.
Говорю – посчастливилось, поскольку я считал Женю своим лучшим другом, хотя никогда ему в этом не признавался, – во-первых, от свойственной мне тогда возрастной застенчивости, а во-вторых, как-то не был уверен, что и я для него лучший друг. Помимо меня он, несмотря на свое высокомерие, дружил со многими, был даже несколько неразборчив в дружбе (может быть, напоказ). И мне с моими признаниями не хотелось переусердствовать и показаться навязчивым, тем более что я не раз был свидетелем того, как он досадливо (почти гадливо) морщился, когда другие пытались ему внушить, что он для них лучший, единственный.
Я обещал себе, что никогда не уподоблюсь этим другим и не позволю себе так унизиться, хотя и моя сдержанность меня отнюдь не возвышала. Я не чувствовал себя полноправным другом Жени, чей призыв: «Айда гулять!» – никогда не встречал бы отказа. Я мечтал о полной откровенности, и меня не удовлетворяло положение, когда каждый чего-то не договаривал до конца. О чем я не договаривал, мне было ясно, но что оставалось невыговоренным у него, я мог только догадываться, и это меня мучило и тревожило.
Наверное, поэтому мы и расстались, долгое время не виделись и даже не перезванивались. И вот неожиданная встреча в нотном магазине, куда я по привычке заглянул. Мне хотелось, как всегда, перемолвиться словечком со стариком Малером и перелистать нотные новинки, Женя же больше поглядывал на сантехнику, из чего я сделал вывод, что ему понадобился новый итальянский смеситель, фаянсовая небесно-голубая раковина, бачок для унитаза, достойный Версаля (иногда я позволяю себе немного сарказма), или нечто в этом роде.
Но, к моему удивлению, он направился прямехонько в сторону нотного прилавка.
Мы поздоровались, как и положено обнялись (распахнули друг другу объятья), воскликнули: «Сколько лет, сколько зим!» Ну, и прочее, полагающееся по этикету встречи бывших однокашников. После этого, цепко и пристально меня оглядев, он произнес:
– Изысканно старомоден! Благородно консервативен! А тебе идет!
– Донашиваю старое тряпье.
– По бедности или соображениям идейным? Бросаешь вызов новой буржуазии? Одобряю.
– Вызовы я чаще бросаю врачам. Когда не могу доковылять до поликлиники, вызываю их на дом.
– Шутник. – Он легко уступил мне преимущество в том, в чем и не думал со мной соперничать. – Помню, какие ты стишки сочинял… А, знаешь, меня тоже потянуло на старые одежды. Сам не знаю с чего, но потянуло. Даже странно: я ведь вообще-то тряпье не люблю. Но, наверное, тут есть некая предопределенность. – У него вырвался нервозный смешок, и он нехорошо улыбнулся. – Сегодня, представь себе, выбираю галстук у зеркала и думаю: «Дай-ка я повяжу самый старый, еще студенческих времен». Шальная такая мыслишка пробежала. И – повязал. Вот посмотри… ты оценишь. – Он расстегнул пиджак и показал мне галстук, чтобы я мог оценить.
Мне пришлось со значением кивнуть и произнести:
– С ним ты моложе на тридцать лет.
– Ну уж, ты брось. Нам ли с тобой молодиться. Я о другом. И мой галстук, и твои старые одежды – это неслучайно. Раз уж ты и я сегодня встретились и так совпали, мы должны это неким образом ознаменовать. Я предлагаю… – Он ждал, что первым предложу я и, конечно же, окажусь в проигрыше.
– Выпить за встречу?
– Нет, дорогой мой. Напиться – это было бы слишком мелко, банально, не по-рыцарски. А ведь мы рыцари, черт возьми. На всем нашем курсе лишь мы одни… Поэтому я предлагаю по такому случаю набраться храбрости и рискнуть – удариться в откровенность и друг другу признаться. Признаться в чем-то таком, в чем раньше мы никогда не признавались. Не показывали, прятали, скрывали, таили в себе. Лишь иногда каждый из нас позволял себе намекнуть – жестом, случайно оброненным словечком. И тотчас же – цоп! – словечко-то и взято назад. «Ты что-то сказал?» – «Нет, нет, ничего. Тебе послышалось». И нет никакого намека, никакого словечка. Ну что, согласен? Не побоишься?
– Пожалуй. Хотя лучше было бы напиться…
– Это почему же?
– В главном все равно не признаемся.
– Ну, это кто как… Каждый пусть ручается за себя. Я вот готов поклясться, что признаюсь. С такой-то петлей на шее, как сегодняшний галстук, – уж точно.
– Тогда и я.
– Что ж, признавайся…
– Я мечтал, чтобы ты был мне лучшим другом, – промямлил я виновато, стыдливо, с опаской.
Промямлил и почувствовал желание тотчас отказаться от своих слов.
– А я всегда был твоим тайным врагом, – произнес он с вызовом, означавшим, что он от этих слов никогда не откажется.
XIV
Старик Малер никогда не позволил бы себе прислушиваться к нашему разговору: он был иначе воспитан и вполне мог упрекнуть нас, что мы – против всяких правил – вводим его в соблазн. Иными словами, не считаясь с его присутствием, пускаемся в откровенности, тогда как лучше – да и намного деликатней с нашей стороны – было бы обойтись без свидетелей.
Из этого следует, что о содержании разговора он догадывался по нашим жестам, выражению лиц и отдельным долетавшим до него фразам. Они-то и убедили его, что нас лучше оставить вдвоем. Лучше – поскольку иначе пребывание старика Малера вблизи от нас чего доброго даст повод заподозрить его в том, что он все-таки прислушивается (подслушивает), хотя всячески делает вид, будто все пропускает мимо ушей.
Поэтому, дождавшись паузы в разговоре, он кашлянул, привлекая наше внимание, и сказал, что ненадолго отлучится – пообедать за столиком у знакомого грузина. Нас же попросил не покидать его закутка и присмотреть за нотами. Конечно, они никому не нужны, но мало ли что…
Мы, разумеется, с энтузиазмом пообещали – клятвенно заверили, что присмотрим. И старик Малер удалился, оставив нас вдвоем, после чего я тоже прокашлялся (дурной пример заразителен) и произнес с показным безразличием:
– Тайный враг, ты должен был мне вредить, как я понимаю…
Я смахнул с себя пылинку, словно она была единственным свидетельством того, что мне чем-то навредили.
– А я и вредил… Неужели ты был в таком восторге от нашей дружбы и настолько слеп, что не замечал? Из-за кого тебя лишили стипендии, не послали на практику, даже хотели отчислить?
– Неужели из-за тебя? – Задавая этот вопрос, я словно бы спрашивал, как мне смотреть на Женю, если он ответит утвердительно.
– Тут была длинная цепочка, но ее первое звено… слуга покорный. – Он тронул галстук, щелкнул каблуками и слегка обозначил поклон.
– И это несмотря на нашу дружбу?
– В этом-то весь смак: быть явным другом и – тайным врагом. Вражда без дружбы – это банально, пошло, лишено терпкости, как прокисшее вино. Так же, как и дружба без вражды…
– По части вина ты у нас был знаток…
– Не был, а считался или казался, уж как кому нравится, знатоком же был ты.
– Да я и не разбирался в винах. С чего ты взял?
– Э нет, братец. Разбираться ты, может, и не разбирался, но всегда попадал в десятку. Помнишь, какое вино ты принес на день рождения красавицы Барсовой? Мое сразу показалось кислятиной, и красавица Барсова первым танцевала с тобой.
– А целовался с ней ты…
– Причем так, чтобы ты это видел. Мне хотелось, чтобы ты ревновал. Уж прости, но писателям, то бишь поэтам, – произнес он так, будто это слово внушало ему особое почтение, – хочется славы, а мне хотелось ревности.
– Но ты все-таки женился на Барсовой…
– Женился. Но она всегда просила купить или как-то раздобыть то вино, которое однажды принес ты. Мне это надоело, и мы разошлись.
– А почему ты заговорил о поэтах? Это намек? – спросил я, словно в этот момент ничто не могло мне так наскучить, как намеки.
– Слава богу, эту породу наконец извели, – заговорил он так, словно не слышал моего вопроса. – Нет больше поэтов, да и вообще писателей. Нетути. Вместо них теперь – ПИПы, персональные издательские проекты. А то, бывало, им почет, уважение, всенародная слава, и они – властители дум. Не подступись. Теперь же они присмирели. Прикусили язык. Знают: если рыпнешься, станешь нетронутую природу защищать, протестовать против вилл и усадеб, понатыканных в заповедных лесах, их сразу осадят: «Сиди и помалкивай, ПИП».
– Это намек?
– Ну что ты заладил. Конечно, намек. На тебя с твоими виршами. – Его взгляд мне что-то напоминал, о чем я, может быть, охотно и вспомнил бы, но только не сейчас и не здесь. Взгляд был если не с угрозой, то с упреком, нехороший, недобрый взгляд.
– Да это все студенческое, баловство, черный юмор. – Я на всякий случай заручился готовностью оправдаться.
– Баловство-то баловство, но уж больно хлестко. – Женя в отличие от меня не был готов принять мои оправдания. – Весь курс смеялся. Покатывались со смеху, как в цирке. Главное, каково название – «Стихи о хорошем человеке». И кто же этот хороший человек, позвольте спросить? А этот хороший человек – я, собственной персоной. Весь вечер на манеже, так сказать. Вот пример приведу, уж ты позволь. Я ведь наизусть помню. Ты в своих «Стихах о хорошем человеке» пишешь:
Я стоял за утренней молитвой,Устремляя взор свой к образам.Ты вошел и полоснул мне бритвой —Полоснул мне бритвой по глазам.Был мне голос во сне: «Стань мне ближе.Я твой верный, единственный друг».Я проснулся и с ужасом вижу:На груди моей дремлет паук.Это я, стало быть, и есть тот паучок. На груди у тебя вздремнул. А вот еще пример:
Я сказал Джангиру: «Скоро дождик.Вымокнуть до нитки не хочу».Он же мне: «Садись в мой внедорожник.Сам тебя сегодня замочу».И еще:Бил ногами.И с разбитой мордойМеня бросил подыхать в кювете,Самый сильный,Самый умный,Самый гордый —Самый лучший человек на свете.– Прости. Дело прошлое…
– Прощаю. Я тоже пробовал сочинить в таком же духе. Срифмовать иногда удавалось, но духа – не было. Поэтому я так и остался хорошим человеком, зато ты – поэтом. Кого ни спросишь: «Помнишь Бориса Ралдугина?» – он ответит: «А, этот наш поэт…»
– Зато ты у нас был славянофилом. Тебя уважали больше.
– В своем славянофильстве я был автодидакт. Все это у меня было сопряжено с волевым усилием. Попросту говоря, натужно. Славянофил Джангир Айдагулов, ха-ха. Со смеху помрешь. Ты же просто любил закаты над Яузой, осень в Лефортове, зиму на Патриарших… А я это не понимал. Аксаковых, Киреевских понимал, а это… это мне это не давалось, как высшая математика.
– Сколько раз я тебя звал и в Лефортово, и на Патриаршие.
– За это я тебя и ненавидел. Уж прости, но лучше бы ты не звал. А то какое великодушие! Какое благородство! И никакого цинизма – даже противно… – Он брезгливо сморщился, показывая, как ему противно все то, в чем не было цинизма.
– Ну, спасибо… – Я что-то взял с прилавка и тотчас положил на место.
– Не благодари. – Он посмотрел на меня с холодной снисходительностью. – Я тебя должен благодарить за то, что сегодня высказался. Ты снял камень с моей души. Ну, а теперь ты во всем признавайся. Твоя очередь.
Женя с выжидательным терпением сложил на груди руки. Я обернулся, словно он ждал чего-то не от меня, а от кого-то другого, стоявшего за моей спиной.
– А мне признаваться-то больше и не в чем. Я тебе все сказал. А мои вирши – тоже, наверное, от ревности. Я ревновал тебя ко всем, с кем ты дружил, и мечтал стать для тебя единственным другом, – сказал я куда-то назад, за собственную спину.
– Вот мы оба и признались. – Его взгляд показывал, что за спиной у него тоже что-то есть. – Может, лучше было не признаваться?
Мы хотели уже разойтись, но вспомнили, что надо дождаться старика Малера. Вспомнили и – разошлись (он должен был вернуться с минуты на минуту).
XV
Последний понедельник сентября выдался пасмурный, рыхлый, туманный, словно подсвеченный с обратной стороны облаков желтой настольной лампой, то стелющийся от ветра волоконцами мелкого дождя, то покалывающий косыми иголками. Я снова оделся… скажем так, по сценарию. Иными словами, мне был предписан некий образ действий, и предписан не мной, а великим сценаристом. Или даже – Сценаристом (каждый волен понимать под этим, что ему угодно).
Итак, оделся и вышел из дома с предчувствием, что непременно кого-нибудь встречу. Бывают такие предчувствия, собственно, ни на чем не основанные: кого-нибудь… непременно… Кто это мог быть, я, разумеется, не знал и даже не пытался строить предположения, словно в этом заключалась бы попытка обмануть случай.
Случай же всесилен, и его не обманешь, не предугадаешь, чем он обернется, какую личину примет, какую рожицу тебе покажет. Поэтому я просто гулял (шатался) по старой Москве (раз одежда старая, то и Москва – соответственно) и ждал.
Но мне никто не встречался.
Тогда я в отместку стал думать, что случай меня обманывает. В конце концов, он имеет на это полное право, оставаясь при этом случаем, и нельзя ему пенять. Так я себя убеждал. И все-таки неприятно было чувствовать себя обманутым. Из-за этого чувства я стал пытаться неким образом воздействовать на случай, понуждать его к тому, чтобы он себя проявил, высунулся из окопчика (а то окопался, видите ли), выманивать, создавать для него благоприятные условия.
Словом, всячески его ублажал, улещивал, прикармливал, будто жирного сома под трухлявой корягой.
Ради этого прикорма я посетил знакомые места, где раньше встречал многих друзей, приятелей (и приятельниц): университетский дворик, Александровский сад, Чистые пруды, Яузский бульвар. Никого. Я готов был возмутиться и вознегодовать, и вдруг там, где Яузский бульвар переходит в Покровский, случай, похоже, снизошел ко мне.
Вдали показалась некая фигура. Словно сотканная из туманной дымки, она пошатывалась на ветру, переламывалась пополам, меняла очертания, то удлинялась, то укорачивалась, то сминалась, то разглаживалась.
Когда туман разошелся, я увидел господина, безукоризненно, хотя и старомодно одетого, в плаще, застегнутом под самым горлом (цепочка продета сквозь пасть медного льва), в широкополой шляпе, чем-то похожего на графа Сен-Жермена, каким я себе его представлял, пилота Нестерова, первым сделавшего мертвую петлю, или гроссмейстера Таля.
Я заинтересовался, даже слегка привстал от любопытства, стараясь не показаться нескромным, и вдруг узнал в нем… СЕБЯ.
Да, не кого-то похожего на меня, не моего двойника, в конце концов, а себя самого. Себя! Я смутился, растерялся, замер от изумления. Почему-то заговорить с собой было труднее, чем с незнакомым человеком. Но я попытался преодолеть охвативший меня страх и – заговорил:
– Извините, вы – это я?
Столь хорошо знакомый мне незнакомец ответил слегка грубовато, насмешливо, что, впрочем, не лишало его фламандского добродушия:
– Ну а кто же еще? Что ж ты, любезный, себя не узнаешь?
Тут я зачем-то стал оправдываться, пустился в ненужные объяснения:
– Нет, вы не подумайте, я сразу узнал, но – засомневался. Все-таки нечасто встречаешь на бульваре самого себя.
Знакомый мне незнакомец едва заметно зевнул и с усилием подавил зевок.
– Хм… Апостол Петр тоже засомневался и, как известно, стал тонуть. Да и ты сам, когда летал вместе с любящей тебя женой, из-за своих сомнений чуть было не сверзился вниз. Ты этого хочешь?
– Нет, нет, что вы! – Я попытался заверить его, что не испытываю никакого желания утонуть и сверзиться. – Разрешите еще вопрос. А для чего, собственно, вы мне явились? Может быть, я скоро умру?
– Не беспокойся. Лет десять еще протянешь. Гарантирую. Твой же приятель Джангир Айдагулов тебя не раз вразумлял: «До семидесяти пяти ничего не бойся». Тебе же как раз шестьдесят пять.
– Тогда для чего же?
– Явился-то? Чтобы ты на себя посмотрел. Себя узрел, так сказать.
– Только для этого? Я и в зеркало на себя могу посмотреть.
Мой незнакомец собрал у носа морщины, словно собираясь то ли чихнуть, то ли презрительно фыркнуть.
– Нет, причем тут зеркало. Посмотрел внутренним взором.
– А-а-а… – протянул я так, как будто мне все стало понятно.
– Вот тебе и а-а-а. Посмотрел? – Он отвел мне некоторое время на внимательный просмотр. – И что же ты в себе видишь?
– Если откровенно… – Я не был уверен, что откровенность меня не скомпрометирует.
– Валяй откровенно. Напрямую. Что тут жеманиться.
– Если откровенно, то вижу свалку мусора.
– Вот! Молодец, что признался. Человечек ты и впрямь так себе, дрянцо помойное, хотя на твое счастье музыка тебя спасает.
– А ты что – лучше?
– Не лучше и не хуже. Я во всем тебе подобен. И мое спасение – в тебе одном. Поэтому мой тебе совет. Теперь начни этот мусор в себе разгребать. Как когда-то на даче опавшие листья – грабельками… раз-раз…
– А может, поджечь, чтобы разом сгорело?
– Нет, будет дымить, и дым этот очень едкий, смердящий, от него глаза слезятся. Лучше потихоньку, не сразу. И так, чтобы никто не догадывался. Не надо бить себя в грудь: я, мол, такой хороший. Мусор в себе разгребаю. Не надо громких слов о твоих благих намерениях. А то мусор весь выметешь, а они и вселятся. Они любят все чистое.
– Кто это они?
– Ну, есть тут одни заинтересованные товарищи.
– Ладно, учту. – Я не стал уточнять, кто намерен в меня вселиться, а решил выяснить для себя нечто иное. – С мусором внутри меня постараюсь покончить. А вовне? От чего-то мне тоже следует избавиться? Выбросить вон. В мусор.
– Это твое новое тряпье, что ты недавно купил? В мусор.
– А книги?
– Новые? Только что с прилавка? В мусор. Старые же сохрани. Они – настоящие.