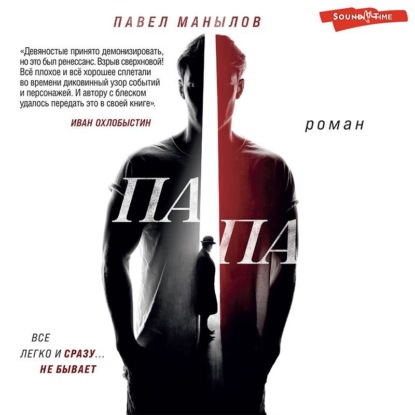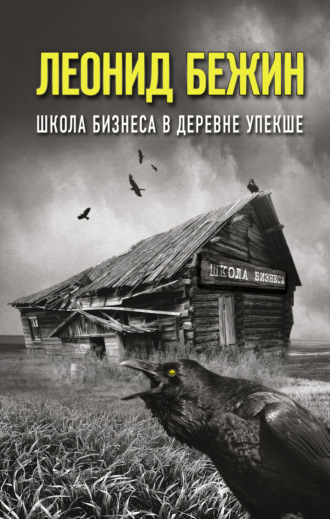
Полная версия
Школа бизнеса в деревне Упекше
Ну, что-то подтвердил Иван Могила, самый надежный источник, которого так и нарекли – Могилой (настоящая фамилия его Хвощ), поскольку, если что скажет, то это – верняк.
Верняк не верняк, а все равно сведений мало, что я не мог не сознавать и не сетовать по этому поводу. Все-таки я тоже историк – историк своего двора, и мне хотелось быть точным и в фактах не врать. Ведь тогда врали запойно, вдохновенно – до горячечных кошмаров, и я учился по учебникам, где ни слова правды. Если же словечко все же чудом проскочит, то, как говорится, помянут кремлевского горца…
Впрочем, не буду ругать учебники, как не буду хулить мою красную кирпичную школу на Большой Молчановке, где отучился четыре года, моих наивных, неискушенных, девственных учителей (их ведь тоже не доучили) и директора с плоской грудью, особым педагогически выверенным накрахмаленным жабо на шее и перетянутым шрамом ртом – Дору Дормидонтовну.
Не буду, ведь я их не просто любил, а боготворил, считая чуть не бесплотными ангелами, неземными существами, кои питаются цветочной пыльцой или амброзией и уж, конечно же, не ходят в туалет (мое детское воображение не допускало такого кощунства и осквернения святыни)…
Однако вернемся к коронации. Для меня как историка нашего двора одно несомненно. Вернулся Николай вором в законе, о чем весь двор сразу узнал: и заговорили, и еще больше зауважали. Был конец мая, цвела в палисадниках настурция и бегония, благоухала и лезла в окна черемуха, сладко пахло липами, и первые грозы шумели и прокатывались по небу так, что содрогались водостоки, из которых выметало пенную воду.
За какие заслуги короновали Брауна, ведь Арбат – не воровская Ордынка и не бандитская Марьина роща, где обитают лишь домушники и мокрушники? Там, на Арбате, неслучайно рождаются кликухи вроде помянутого мною Горбатова, поскольку арбатские братки кое-что слышали о делах литературных и даже знали, что на Малой Молчановке некогда жил такой жиган (правда, не фартовый, поскольку его убили молодым), как Лермонтов.
Словом, родиться и жить на Арбате вовсе не означало сразу получить воровскую марку, и на коронации об этом было сказано. Оппозиция базарила, что Брауна следует прокатить, а то он, чего доброго, еще стихи сочинять начнет. Да, раздавались по углам и такие голоса… Хотя у Николая нашлись авторитетные и чтимые среди воров поручители, но не это главное. И Сиплый, и Горбатый, и Могила свидетельствуют, что Николай достойно держался. Уж не знаю, начистил ли он до зеркального блеска себе ботинки, но не заискивал и не старался угодить.
С одобрением восприняли и то (немаловажное обстоятельство), что его отца расстреляли за растрату. К тому же признали, что арбатские татуировки Николая не уступают ордынским, а к арбатским добавились еще и воркутинские: словом, он весь был украшен – олицетворенный шик и фасон.
Но главное все же не это. Горбатый рассказал, что Николай составил полный список украденного и в этом списке под одним из первых номеров значилась генеральская дочка. Такого на подобных коронациях отродясь еще не слыхали. Правда, кое-кто принял это за фуфло, но в целом оценили: это и удивило, и развеселило. Вволю поулыбались, посмеялись, позубоскалили, а веселая минутка в лагерях ценится ой как высоко. Николаю это зачли.
К тому же он выложил в общак крупную сумму, которую чудом довез до Воркуты и сохранил при шмонах.
Словом, все проголосовали, но тут нужна одна оговорка – поправочка некая: все, кроме… ангела. Ангела со смертельно белым, закрытым ладонями рук лицом, чьи крылья были распростерты за спиной, а ступни – стопочки чистоты божественной – над землей зависли. На него указал старичок в драном ватнике по прозвищу Ботвинник, считавшийся у зэков умным и прозорливым. Его звали на коронации с условием, чтобы он сидел и помалкивал, а если что – сказал бы, но коротко и по существу.
Вот он-то после коронации поманил заскорузлым пальцем Брауна, взял под локоть и шепнул ему на ухо:
– Водочки мне нальешь? Тогда скажу кой-чего…
– Налью, старик. Есть водочка. Говори.
– Видел я его аккурат над тобой.
– Кого это? – Николай недоверчиво отстранился.
Ботвинник тихонько засмеялся, конфузливо закрыл беззубый, черневший провалом – дырою – рот ладонью, но все же произнес:
– Ангела смерти, милой. Хи-хи-хи.
– Ух ты, мать!.. И что ангел?
– А ничего. Руки-то за тебя и не поднял. Не стал голосовать со всеми. Остерегся…
Николай задумался, как это понимать. На всякий случай спросил:
– Ну, и что теперь?
– А то, милой… то самое. Разумей, раз такой умный.
– Да куда мне уразуметь… Сам скажи.
– Умрешь ты скоро. Вот и весь сказ.
– Ну, это мы еще посмотрим…
– Смотри, смотри, пока глазелки не лопнули… Только умирать все равно придется. Да и не тебе одному – многих вскорости Господь приберет. Страда настала – жатва аж побелела…
– Ладно, не пугай. Я не из пугливых.
– Это верно. Ты герой. По-геройски и голову сложишь. Ну, бывай, страдалец…
– Почему это я страдалец? – Брауну не понравилось, что его так называют.
– А потому что я не зря сказал: страда великая грядет – вот и страдалец. Водочки, водочки мне не забудь налить. Так-то, милой.
Старик покрутился еще возле Николая и исчез, словно его и не было.
Эту историю мне поведал Горбатый – хоть и не лауреат Сталинской премии, но тоже сочинитель известный. Поэтому за достоверность ее не ручаюсь, но передаю как есть.
Глава девятая
Замолчано и забыто
Летом сорок первого, когда в палисадниках пышно и муторно цвели бегония и гортензия, осыпая вокруг себя лепестки, а Золотые шары, обламываясь, ложились головками на дорожки, прокатилась по небу самая страшная – адская – гроза. В полном согласии с Пактом о ненападении двинулась на нас жуткая стальная армада и пошла месить нашу землю, подминая под себя все живое.
То, что слепцы не желали знать, а зрячие предсказывали с точностью до даты – 22-го июня, сбылось. Но правоты предсказателей словно бы и не заметили, и не признали, и даже более того – правоту их замолчали и забыли: не они оказались в героях сводок и донесений. Никто пред ними не извинился за преступную беспечность – за то, что им не поверили и пред ними так сплоховали; никто не покаялся. И, конечно же, им не объявили благодарность перед строем и не представили к награде. И все потому, что те жили чем-то слишком далеким и не умели жить близким, а следовательно, даже в правоте своей оставались чужими.
Нет ни в чем вам благодати,С счастием у вас разлад:И прекрасны вы некстати,И умны вы невпопад.Некстати и невпопад – как это по-русски. У нас чего ни возьми – все невпопад, и в то же время попадание самое точное. Попадание в десятку. В яблочко.
Оставались же чужими, поскольку мыслили не как все, отличались, не совпадали, а главное, осмеливались считать себя умней командования, генералов, маршалов и самого Вождя, единственного из всех генералиссимуса, который втайне бывает прав даже тогда, когда явно ошибается. На то он и Вождь. Они же осмеливались считать. А кто так считает, тот не слишком отличается от врагов – врагов затаившихся, замаскированных.
Но лишь только их правота – правота зрячих перед слепыми – обнаружилась, возник непреодолимый соблазн их разоблачить, обличить, сорвать с них маски.
Сорвать, поскольку, обличая их, оправдывали себя.
Так я как историк объясняю себе то, что с началом войны отношение к Николаю переменилось. Наша коммуналка и прежде всего Ксения Андриановна, Матрена Ивановна и Слободан Деспот приняли его с прежней любовью, не дали ему почувствовать никакой перемены. Но для двора он перестал быть своим. Наш двор сразу разделился на своих и чужих, воров и честных. При этом наши честные не прочь были что-нибудь мимоходом украсть, а не наши – воры, напротив, могли проявить честность и благородство, поделиться последним и отдать самое дорогое.
Но это ничего не меняло. Воры – в отличие от наших дворовых мальчиков – не шли в военкоматы записываться на фронт и умирать, становиться навеки девятнадцатилетними. Воров и всю арбатскую подворотню не спасало больше то, что они любят Родину. Никто в их любовь теперь не верил.
Поэтому воровская сплоченность дрогнула. Воры взяли реванш уже после Победы, в 1946–1956 годах, когда вспыхнула война воров против сук. Ее так и называли: сучья война. Суки отличались от воров тем, что воевали на фронте, якшались с властью, выполняли приказы, получали ордена и медали. Но в сорок первом до этого было еще далеко; будущие суки еще ходили в героях, и Николай – при всем своем благородстве и готовности поделиться последним – имел несчастье по меркам нашего двора оказаться среди воров.
Более того, ему припомнили, что он – немец, не Егоров по отцу, а именно Браун по матери.
Раньше этому не придавали значения, и в нашем дворе все нации были вперемешку – русские, татары, украинцы, грузины и даже ассирийцы (в своих узких уличных кабинках они торговали гуталином, шнурками и зарабатывали чисткой обуви). Но теперь это значило всё – если не по части татар и грузин, то по части немцев уж точно.
Честные (свои) сплотились и выступили против воров (чужих), двор – против подворотни, и если раньше Николая любили как русского, то теперь возненавидели как фрица.
После, правда, стали различать немцев и фашистов, но тогда, в самом начале войны, любой немец был фрицем, а фриц – фашистом, будь он даже близкой родней Эрнста Тельмана.
Вот и Николай не избежал такой участи. При этом его перестали бояться и уважать за силу, ловкость и смелость – перестали, потому что были в сговоре и чувствовали дворовую спайку – поддержку друг друга.
Любое дворовое ничтожество могло свистнуть в два пальца вслед Николаю и бросить ему насмешливый вызов.
Да, мои бывшие соседи по коммуналке (их давно уже выселили с Арбата за окружную дорогу – на московскую Колыму) до сих пор рассказывают, что стоило Николаю выйти из дома, и он слышал за своей спиной:
– Эй, урка, а почему тебя отпустили из тюрьмы до срока?
Это изощрялся сопливый, шепелявый, стриженный под ноль, с выбитым зубом и вывороченной губой Федюня, которому Браун, не оборачиваясь, отрывисто бросал через плечо:
– Заткнись.
– Ну, ударь меня, ударь, – напрашивался, лез на рожон Федюня, которому все-таки хотелось заставить, чтобы к нему обернулись. – Посмотришь, что тогда будет.
– Много чести тебя бить. Еще в штаны наложишь.
– А тебе не много чести? Честных воров до срока не отпускают. Ты к честным не примазывайся.
– Вали отсюда, сопливый. – Николай еле сдерживался, и сжатые губы его белели.
– Это мой двор, а не твой. Ты здесь чужой. Поэтому сам канай, пока тебе не накостыляли.
Тут Николай слегка приостанавливался, делал вид, что не расслышал, и не без хитрости заходил с другого бока.
– А самокат тебе сделать на подшипниках? Могу и свинцовую биту для расшибалки выплавить. Хочешь?
– А что это ты вдруг?.. – Федюня не решался признаться в своем желании, подозревая какой-то подвох.
– Я сегодня добрый. Пользуйся.
– Ну, сделай… выплави…
– Вот ты и купился… Ха-ха! Дешево стоишь.
– Пошел ты со своей битой… Говори, почему тебя до срока отпустили? Почему в военкомат не идешь? Сдрейфил? Или слишком гордый?
Николай угадывал в этом вопросе влияние дворового агитпропа.
– А кто тебе велел об этом спросить? Двор?
– Ну, двор…
– Вот и скажи своему двору… Меня отпустили, потому что я кое-что знал.
– А что ты знал? Знал, когда начнется война?
– Когда рак на горе свистнет…
– Ты знал, потому что ты – Браун. Или даже Браунцвейг! Браунпупс! Ха-ха! Браунпупс!
– Браун или не Браун – причем здесь?..
– А притом, что ты немец! Немец! Иди к своим немцам! Иди к своему Адольфику! Выноси за ним ночной горшок! Лижи ему задницу!
Это был уже самый откровенный – наглый и беспардонный – агитпроп.
Иными словами, за такой базар Николай мог и отметелить, а то и порезать, но он сдерживался. Видно, на душе у него свербело из-за того, что он – Браун и что не идет в военкомат. Все-таки свербело и совесть его жгла и мучила, хотя он храбрился и вида не показывал.
Вида не показывал, и начищенные ботинки (все те же коричневые) на нем, как всегда, сияли, но все-таки… все-таки… прожигала насквозь… на то она и совесть.
Глава десятая
Совпадение неслучайное
Зимой сорок первого Николай исчез. За обитой драной клеенкой и изрезанной ножом дверью – последней в коридоре – не слышалось ни звука, ни скрипа, ни шороха. Все решили, что Николая где-то спрятали братки – спрятали от опасности как вора в законе, чтобы он переждал, отсиделся, пока тут такая буча: военкоматы всех гребут, всем шлют повестки с предписанием явиться.
А многие и сами рвутся на фронт, что уж вовсе не по воровским понятиям. Иными словами, западло. Так дворовый агитпроп изображал исчезновение Николая. Но была и другая версия. Многие высказывали догадку, что он тайком убежал через фронт к немцам (немцы были близко – приближались к Перхушкову). Убежал, чтобы избежать призыва и воевать на их стороне. Вернее, не на их, а на своей, ведь он же Браунпупс – немец. А куда еще он мог убежать? Не в подвале же прятаться и не на чердаке.
О Брауне спрашивал милиционер – не Емельяныч (того забрали на фронт), а совсем молоденький, почти подросток по имени Валериан. Но сказать ему ничего не могли – только отводили взгляд и пожимали плечами. Да и некому было говорить: половина нашей и двух соседних коммуналок ушла добровольцами. Даже ассирийцы заперли свои кабинки, оставив непроданными шнурки и баночки гуталина, и – ушли: раскидало их по разным фронтам.
Комнатушку Брауна в конце коридора опечатали, а потом вскрыли и вселили в нее старика-инвалида, стучавшего костылем и что-то клепавшего на ручном станке. Точнее, он сам вселился, никого особо не спрашивая. Вредный был старичок, прижимистый – что твой куркуль нераскулаченный. Мыла и спичек никому не давал (а если одалживал, то под расписку: вернуть с довеском), хотя у самого был целый склад.
Лучше бы вселили ангела, закрывающего лицо ладонями: оставалась бы хоть маленькая надежда. Надежда на возвращение Николая. Старичок же был – хуже самой смерти, такой, что и надежды никакой не осталось. Он прямо всем говорил, и говорил с удовольствием: «К немцам убег ваш Браун. На довольствие его там поставили. Воюет против нас. Скоро крест получит за старание».
И почти не скрывал, что и сам бы мечтал о таком довольствии и – если б не костыль, – убег бы к немцам.
* * *Вот и вся история – если не Арбата (его история еще не написана), то, во всяком случае, фартового жигана Николая Брауна. Вряд ли спрятали его братки, пусть даже в это верить было бы легче, хоть и легкой веры не бывает. Но, скорее всего, перебежал он к немцам. Ведь и сам немец, и к тому же мать научила его немецкому. Читал и писал без словаря. По-русски писал с ошибками и кляксами, грязно, а по-немецки – чистенько и гладко, почти без ошибок. Значит, готовился…
К такому выводу под влиянием агитпропа пришел двор (а с ним и подворотня). И постепенно к нему же сползала, как подтаявший ледок к самому краю крыши, наша коммуналка. Хоть на агитпроп и не столь податливые, но сползали, скользя подошвами, и концертмейстер Ксения Андриановна, и зубной врач Слободан Деспот, и парикмахерша Матрена Ивановна, и другие, ютившиеся по правую и левую стороны длинного коридора.
Другой версии у нас не было, и приходилось как-то мириться с этой. Со многим приходится мириться, хотя поначалу мы о-го-го… противимся… выказываем свое упрямство и несговорчивость. Но на несговорчивых воду возят. Здесь бы и поставить точку, ан нет, у истории нашлось-таки продолжение.
У старичка, вселившегося в квартиру Николая, однажды углядели газету, которую тот не читал, а рвал на куски и подсовывал под сырые дрова, чтобы растопить печку. В газете же мелькнула фотография – до боли знакомое лицо то ли Николая Брауна, то ли кого-то на него похожего.
– А ну-ка, милейший, позвольте… дайте-ка сюда, – властно и высокомерно попросила Ксения Андриановна, с нетерпением шевеля пальцами протянутой руки – шевеля так, словно собиралась пробежать ими по клавишам.
Старичок нехотя дал. Ксения Андриановна надела очки, поднесла газету к глазам. Поднесла и тотчас воскликнула: «Он! Господи, он!» С фотографии на нее смотрел Николай Браун. В выцветшей гимнастерке, с непокрытой, стриженной ершиком головой (пилотка спрятана под ремень). С двумя медалями на левой стороне груди и орденом Красной Звезды – на правой.
Не было никаких сомнений, что это именно Николай.
Под фотографией же – набранный крупным шрифтом рассказ корреспондента о том, как наш Браун героически воевал, ходил в разведку, вместе с ротными лихими ребятами совершал отчаянные вылазки за языками. Пролезал ужом под колючей проволокой, переходил линию фронта по минным полям.
Своим воровским ножом укладывал рядком часовых, не успевавших даже охнуть – не то что вскинуть автомат и выстрелить.
Возвращался целым и невредимым, скалился перед медсестрами извечной своей шальной улыбкой. И сам же переводил все, о чем доставленные в штаб немцы сообщали на допросах. Сообщали или, по выражению тех же ротных, лаяли на своем собачьем языке.
Рассказывал корреспондент и о том, как в последнем бою под Берлином, отстреливаясь и матерно ругаясь, Николай пал смертью храбрых. Пуля попала ему прямо под сердце и прошла навылет.
Вот так он и погиб, коронованный вор в законе.
Впрочем, о ругани ничего сказано не было. Хотя эта подробность важна и весьма существенна, корреспондент о ней умолчал. Напоследок сказал лишь о том, что посмертно Браун был награжден вторым орденом Красной Звезды, но прицепить орден к гимнастерке ему уже не пришлось.
Что ж, мы дозвонились до редакции. Корреспондента того разыскали. Он вспомнил, как брал интервью у старшего лейтенанта по фамилии Браун, и еще привел подробности, не попавшие в заметку…
Значит, не спрятали его братки, нашего Николая, и не бежал он к немцам, а честно отвоевал свой срок – сначала в штрафбате, а затем – в разведроте. Теперь это установленный факт – если не для истории вообще, то для истории нашего двора.
И еще скажу напоследок. Николай Браун не дожил до Победы. Все в нашем дворе его жалеют: «Эх, не дожил, бедняга, совсем немного, всего-то чуть больше месяца». Я же думаю: отчасти, может быть, и хорошо, что не дожил. Время от Победы для него отсчитывается назад, в наше прошлое (для меня как историка это особенно важно), а оно с каждым годом проясняется, приобретает страдальческий, просветленный отсвет.
Вперед же пусть отсчитывают другие.
День старой одежды
«… тот, кто у себя дома в старом рваном пиджаке принимает вечность…»
Борис ПоплавскийI
Есть у меня одна причуда. Я, собственно, весь соткан из причуд, их у меня множество, словно игральных карт в колоде, и каждая (не только оперные «Три карты! Три карты!») достойна внимания. Но одна из них – особенная, на редкость странная и даже эксцентричная. Во всяком случае, не все ее одобряют, а некоторые так и просто гнушаются мною из-за этой причуды.
Иного при виде ее так и резанет, словно бритвой по глазам (неспроста я упомянул эту самую бритву)…
Тем не менее я позволяю себе ее иметь, поскольку – закоренелый холостяк – живу один и потихоньку старею. По утрам нацеживаю настой маньчжурского гриба из банки с затянутым марлей горлышком, поливаю цветок, название которого уже и не помню.
И даже замечаю, что иногда разговариваю сам с собой.
Однако есть у меня работенка – не то чтобы репетиторствовать (хоть я и мог бы, поскольку друзья называют меня не иначе, как кладезь знаний), но обучать юные дарования… магии. Нет, нет, вы не подумайте: магии шахматной игры. Тут я мастак, граф Сен-Жермен (он-то наверняка выигрывал с седьмого хода). И стоит мне с шахматной доской под мышкой, погромыхивающей фигурами, выйти на бульвар, как все почитают за благо тихонько удалиться.
Удалиться, лишь бы избежать позора: сесть со мной за доску и проиграться вдрызг.
Чемпион бульваров, второй Капабланка или Алехин (если бы еще второй, а то ведь – двадцатый или тридцатый) – как себе не позволить иметь причуды. Их мне, может быть, и не хватает, и я себе в этом потворствую, даю поблажку: чуди, братец, чуди. Поблажкой же грех не воспользоваться, поскольку, увы, их не так уж много в нашей жизни, поблажек.
Вот я и пользуюсь: по первым и последним понедельникам месяца донашиваю старую одежду, скопившуюся у меня в гардеробе. Сам гардероб у меня тоже старый, рассохшийся, со скрипучими дверцами и вечно застревающими выдвижными ящиками (в детстве это было лучшее место, чтобы спрятаться от мамы, затаиться и до сладкого удушья надышаться нафталином). И висящая в нем одежда имеет вид заношенного тряпья.
Я бы отвез ее на дачу, как это принято в московских семьях (там всегда найдешь ватную телогрейку, фуражку без кокарды и резиновые сапоги), но дачи у меня нет: по суду оттяпали родственники. Хотел собрать мою старую одежонку, уложить в тюки и выбросить на помойку, чтобы ее растащили бомжи, но мне стало жалко.
Жалко не столько ее самой, сколько частички (пылинки) моего прошлого, да и меня самого, каким я был пять – десять – двадцать лет назад.
Между тем, приглядевшись, я обнаружил, что не такое уж это все тряпье. Некоторые свитера, кофты, костюмы вполне пригодны к носке – пусть даже на локотках они слегка трачены молью. Пригодны и даже способны бросить вызов моде, всегда склонной не столько изобрести что-то новое, сколько перетряхнуть старый гардероб.
И я решил: буду хотя бы два раза в месяц надевать и донашивать мою ветошь. Конечно, предварительно отдам ее заштопать, почистить, прогладить горячим утюгом (лучше всего чугунным) – словом, привести в божеский вид.
Я не замедлил этим занялся. Мне даже стало интересно, поскольку я смутно чувствовал, что старые одежды на нас неким образом влияют. Не просто придают что-то походке, жестам, манерам (заставляют в знак приветствия со старомодной учтивостью кланяться и приподнимать над головой шляпу), но таинственно воздействуют на нашу жизнь, открывают ее сокровенные тайны и меняют судьбу.
Словом, мне тоже захотелось выиграть с седьмого хода, захотелось воспарить, вознестись, взлететь…
II
На дворе стоял август, по утрам дождливый, облачный (тоска собачья), но ближе к вечеру – солнечный, с закатным заревом у горизонта, похожим на остывающую жаровню, и фиалковыми лоскутами неба.
В мой первый понедельник меня потянуло в нотный магазин, где я особенно часто и охотно бывал раньше, отдаваясь усладе завзятого меломана, и куда и теперь иногда заглядываю.
Заглядываю, хотя и без прежней охоты, а скорее так, по привычке.
Тут следует уточнить (и не без горького сожаления): тот магазин теперь торговал сантехникой – раковинами, бачками и унитазами, а от нотного остался лишь жалкий прилавок, втиснутый между штабелями коробок и ящиков.
Там, словно у древнего алтаря, священнодействовал сухонький, сгорбленный старичок, носивший потертую ермолку, гордившийся своими длинными, посеребренными сединой пейсами, засохшей розой в петлице и музыкальной фамилией – Малер. Но я все равно считал его прилавок если и не алтарем, то, во всяком случае, магазином и расписной потолок (парящие музы с лирами в руках), остатки лепнины, колонны, увитые гирляндами, относил к нему, не признавая никакого права на них новых владельцев.
Я благоговейно брал в руки и перелистывал партитуры Моцарта, Бетховена и Чайковского, сохранившие запах нотной печатни (поскольку их никто, кроме меня не перелистывал). Все прочее же старался не замечать и с презрением отворачивался от ненавистных уродов – фаянсовых бачков и унитазов.
Вот и сейчас я, не глядя по сторонам, пробрался к моему прилавку. Я поздоровался со старичком Малером (а заодно – с Моцартом, Бетховеном, Чайковским и музами на потолке, приветствовавшими меня звуками лиры) и купил ноты «Благородных и сентиментальных вальсов» Равеля. В другой день недели я наверняка не стал бы их покупать, но в этот день – День старой одежды – не мог не купить, поскольку… впрочем, чтобы это объяснить, следует начать издалека, с тех времен, когда мне только исполнилось четырнадцать лет.
С врученной мне наградой – книгой «Дети капитана Гранта» (за отличную учебу и примерное поведение) я перешел в седьмой класс. Родители были рады моим успехам, но при этом решили, что школьных занятий для меня явно недостаточно. По их мнению, я справляюсь с ними легко и у меня остается слишком много свободного времени.
Свободное же время, как и всякая форма свободы, в те годы считалось чем-то опасным, таящим некую угрозу, вызывающим подозрения. Сами они боялись свободного времени, поскольку не знали, что с ним делать (нашинковать и заквасить, как капусту, засолить, как огурцы, или пустить на моченые яблоки). И их преследовало смутное беспокойство, оттого что я, успевавший по всем предметам гораздо лучше, чем когда-то они, и в этом знании могу их опередить.