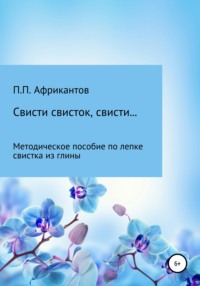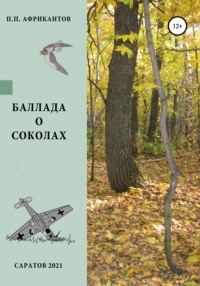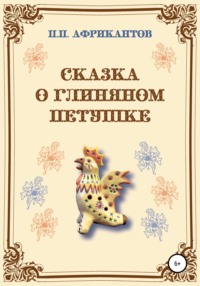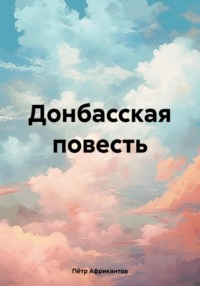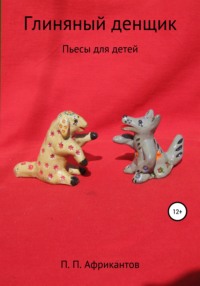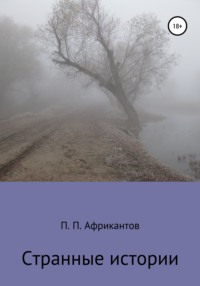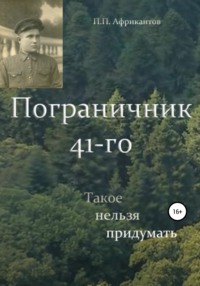полная версия
полная версияСаратовские игрушечники с 18 века по наши дни
Но так получилось, что именно в этот предновогодний день я почти всё и узнал о мастере. Поведав ему, как водится, свою биографию, я как-то сразу расположил Петра Петровича к себе. Прямо тут, у ящика с игрушками, когда волна покупателей схлынула, он рассказал мне о своей родословной.
– Родился я, Евгений, в маленькой деревушке недалеко от Саратова, километров пятьдесят от города по Петровскому тракту. Малой Крюковкой она называлась, стояла недалеко от Полчаниновки. Больших деревень в нашей местности уже мало осталось, а таких, как она, – и подавно. И в былые-то времена в ней больше двадцати пяти дворов не насчитывалось. Но что интересно: деревня эта никогда не была барской. В этом месте землями наделялись как раз крестьяне, выкупившиеся от бар. Хозяева в деревне все были крепкие, а дома ладные, лентяев тут не было. В советское время она вошла в разряд «неперспективных», потому и делали для нее власти всё как бы нехотя, в расчёте, что она сама развалится окончательно – это я и об электричестве, и о радио. А люди, однако, жили и жили тут, в своём родном «медвежьем углу», и разбегаться особо не спешили. Мне вот 58 стукнуло, а я помню, как в нашей деревне телефон появился, потом радио, а там и электрический свет от движка… А еще помню, как это всё – в обратной последовательности – исчезало…
Африкантов широко улыбнулся и покрутил головой, вспоминая.
– В нашей деревне электричество появилось в 1962 году. Я в четвёртом классе учился. Помню, когда я ещё в школе не учился и электрической лампочки в глаза не видел, спорили ребятишки помладше, глядя на электрические лампочки, развешенные на столбах: у кого же в доме светлее будет? И в голову взять не могли, что лампочки повесят и в домах тоже! Но я на поздний приход цивилизации в нашу деревушку не сетую. И даже наоборот – радуюсь: в моей жизни было то, чего никакой лампочкой и телевизором не заменишь и не восполнишь. Мы катались на санках с гор, а когда промёрзнем, забирались на тёплую печь и там, под завывание вьюги в трубе, слушали сказки, которые нам рассказывали не дяди и тети с экранов телевизоров, а родные бабушки и дедушки. И не по книжкам рассказывали, а по памяти, а то и сами сочиняли. А ещё рассказывали всякие истории… Семья у нас была замечательная: отец – книгочей, песенник и незаурядный рассказчик. Фронтовик, служил на границе, в первый же день войны был тяжело ранен. Всё прошёл: плен, партизанщину, участник парада Победы. Да у меня и дед был боевой: в первую мировую получил серебряный Георгиевский крест. У нас в роду все воевали и все были орденоносцы, я этим очень гордился!
– Мое поколение, к сожалению, и советских-то времён уже не помнит, – вставил я.
– Откуда ж помнить, годов нет… В общем, деревенька наша, Евгений, была маленькая, но сказочная, и жители в ней были сказочные: с характерами могучими и душами глубокими, хотя с виду люди были тихие и незаметные.
– Наверно, и школа была маленькая?
– Четырехлетка. Больше пятнадцати учеников в ней никогда не насчитывалось. Мы, ребятишки, после окончания четырёх классов ходили в школу за семь километров, в соседнюю деревню – Большую Фёдоровку, там была восьмилетка. Из этого периода мне хорошо помнится только осень: холодно, темнотища, хлюпающая грязь, кирзовые сапоги. А еще – на палке привязанная консервная банка с тряпкой, в которой горит коптящим пламенем солярка. Этот факел и освещал нам дорогу по полям и оврагам…
Я присвистнул, представив себе эту картину, а Африкантов продолжил:
– В общем, урбанизацией и не пахло. Но я на это не сетую. Я, наоборот, очень рад, что родился и вырос в такой вот заштатной деревушке, с её вековыми устоями, с традиционным воспитанием, когда тебя мог за озорство наказать любой житель деревни, попросту говоря – отшлёпать. Это было стыднее всего. Старших мы уважали, стариков почитали, а с младшенькими сестрами и братьями возились. И тогда уже лепили игрушки! Да-да, уже тогда… Убежишь, бывало, и в укромном местечке, в овраге, где из глинистых берегов бьют ключи, лепишь… Но профессионально заниматься ручной художественной лепкой из глины я, дорогой мой Евгений, начал пятнадцать лет назад, когда могучая волна перестройки вышибла меня из кресла заведующего редакционно-издательским отделом Приволжского книжного издательства. Да-да… понял теперь, откуда у меня такой правильный слог? Ну, вышибло и вышибло, устроился работать педагогом дополнительного образования в Заводском районе. Сначала думал, что устроился временно, пока товарищи мне работу подыщут, а оказалось потом – на всю оставшуюся жизнь. И стал я тогда осваивать лепку из глины. Не столько осваивать, сколько вспоминать то, чем занимался в детстве. Вскоре обнаружил, что дар никуда не пропал – и стал в себе этот дар школить. Да так, что иные ночи напролёт уснуть не мог, всё в моей голове разные поделки возникали. Появятся и пропадут, появятся и пропадут, словно дразнятся… Сначала лепил всякую всячину и только потом, годы спустя, взялся за главное дело в своей жизни – за воссоздание вот этой местной глиняной игрушки. Как говорится, себе на развлечение, ребятишкам на потеху, а старожилам на воспоминание…
Петр Петрович прошелся вокруг ящика с остатками товара. Холодало, ему пора было уходить с базара. Но мастеру, видимо, хотелось дорассказать мне что-то важное.
– Когда взялся я за эту игрушку, то, по правде говоря, до конца и не понимал, во что впрягался. Просто что-то потянуло… Это уж потом она стала основным моим делом. Сперва обозначилась боязнь ответственности, потом наметились какие-то ориентиры, а потом в душе прояснилось живое восприятие. Как будто появилось что-то, и вот ты уже не один, не сам по себе. Пусть и нет ещё реально ничего, а ты уже за что-то отвечаешь, что-то хранишь и лелеешь, в сердце носишь…
Он ненадолго задумался, то ли пытаясь получше сформулировать то, что в нём жило, но не получило ещё словесной оболочки, то ли заново переживая мучительный, но в то же время радостный процесс рождения чуда творчества. Я ему не мешал, ни о чём не спрашивал, понимая, что наводящие вопросы в такой момент ни к чему.
– В Саратовской местности, Евгений, не было одного устоявшегося типа глиняной игрушки, – как, например, в Дымковской слободе; всяк у нас лепил и вымудрялся по-своему. Потому и назывались игрушки на базаре и по именам мастеров, и по улицам, и по местечкам и деревням, где их делали, например: «Матрёнина», «Глинская», «Поливановская» и так далее. Это мне старики говорили. Игрушки у нас были красивые, только вот не повезло саратовской глиняной с купцом-пронырой – чтоб закупал он игрушку оптом и вёз на продажу за тридевять земель. Тогда, глядишь, и спрос бы вырос, и глинолепов прибавилось. А то занималась этим делом одна, редко две семьи из всей деревни, и то не из каждой. Часто – только в свободное от основной работы время, по вечерам…
– А это плохо, что не оказалось купца-проныры? – поинтересовался я.
– С одной стороны – вроде плохо, а как раздумаешься, то вроде и хорошо даже выходит. В Дымковской слободе не только такую дымковскую игрушку лепили, как мы её теперь знаем, а и другие тоже, и не все выбеливали, а где теперь те игрушки? Нет их…
– Победила конкуренция, – извлёк я из головы известный штамп.
– Нет, Евгений, не конкуренция. Барыга победил… барыга: именно он загнал те игрушки в угол. Я рад, что нашу игрушку такая участь миновала, а то бы продавали по городам и весям какую-то одну из этого набора, а других покупатель бы и не увидел, и жизнь бы была человеческая беднее, вот так-то. Я уж не говорю, что многие бы покупатели не нашли своей игрушки – той, что по вкусу и по душе. С этим можно спорить, но я-то, стоя за прилавком, вижу, что одну берут бойчее, но над другой-то тоже кто-то до слёз умиляется. Я это вижу, а барыга не видит, он всё деньгами меряет!
– А если рядом с вашими, то есть, с глиняными, игрушки из другого материала поставить на продажу? Или глиняные в таком сочетании никогда не стояли?
– У нас, Евгений, были игрушки не только глиняные. Из дерева у нас игрушек не резали, только одни свистульки, как карандашики, без каких-либо украшений, но зато глиняных свистулек и глиняных игрушек было достаточно. А ещё мастерицы шили кукол из тряпок и набивали этих кукол мякиной или опилками, накладывали волосы из лыка, обязательно чтоб была коса или несколько косичек. По крайней мере, такие куклы продавались на старом Сенном базаре и на «Пешке». Делали тряпичных кукол и в нашей деревне. Разрисуют им лица, наведут бровки углем, подмалюют губки – и чем не Маша-краса, ржаная коса? Любили этим делом заниматься девушки и девочки-подростки. Я помню, как моя сестра Анна Петровна, в замужестве Жирнова, с подружками таких куклят мастерила. А ещё она любила глиняные игрушки в тряпичные одежды одевать. Я леплю, а она им одежду шьёт…
Мастер оживился, вспоминая былое.
– Глиняных игрушек на базаре в нашем Саратове было несравнимо больше, чем других, и они были разнообразнее. Я хотя был тогда и маленький, а прилавок на Сенном со сверкающими на солнце игрушками помню хорошо. Но это он тогда мне казался прилавком. А так – просто ведь ящик или мешковина, на земле расстеленная. Меня к глиняным игрушкам тянуло, как магнитом. Баловали нас родители, подростками брали город посмотреть, когда по нужде крестьянской в него ехали: картошку или мясо продать.
Помню еще и то, как старьёвщики возили глиняные игрушки в телеге по деревням на продажу. Издали были слышны покрики торгаша-возницы: «Женщинам – заколки, мужикам – мундштуки, ребятишкам – игрушки расписные глиняные, свистки заливистые! Бери, молодка, глухаря – приобретёшь мужа-ухаря! Купишь тройку с бубенцами – под венец помчатся сами!». Ну, и так далее. Возил торгаш к нам, в деревню, игрушки одного стиля, видно, работы одного мастера. А возможно, сам он их и делал, потому как, отвечая на вопрос «Когда привезёшь собачку?», говорил частенько: «Сохнет», или «Греется», или «Ах, какие вы скорые, разве мне за вами успеть?». У него, как я вспоминаю, игрушка была отменная, золотистая. Он «сушку» не возил. У него была только «жжёнка», которая обжигалась в горне, с крапинками, штришками, кое-где подкрашенная коричневой глиной. Я эту игрушку потом у Никитичны увидел. «Сушку» куда повезёшь в телеге – один бой будет…
______________
В следующий раз мы встретились с мастером Африкантовым в начале весны. Мне захотелось подарить своим женщинам что-то особенное, непривычное, я вспомнил об игрушке, о своём новом знакомом и о его приглашении заходить к нему в гости, в центр дополнительного образования.
Так я и отправился в Заводской район. Поскольку района не знал хорошо, то, сойдя с автобуса, спросил толпившихся около газетного киоска ребятишек:
– А где тут дом, в котором работает кружок керамики?
– Лепка, что ли? – спросил один из мальчишек.
– Вы, наверное, Петра Петровича ищете? – спросила девочка постарше.
Я кивнул.
– Пойдемте, мы вас проводим,– сказала она.
Вскоре мы подошли к пристройке девятиэтажного дома, на дверях которой крупно было написано «Корпус ЦДО для детей Заводского района № 4».
Приехал я немного не вовремя – у Африкантова как раз шли занятия. Я заглянул в кабинет: около стола, за которым сидел Пётр Петрович, толпились дети, он им оживлённо что-то рассказывал. Увидев меня, тут же подошёл:
– А! Евгений! Рад видеть. Ты подожди чуток, сейчас группа уйдёт, и мы с тобой пообщаемся.
Вскоре, на ходу одеваясь, детишки высыпали в коридор, кабинет опустел, и я вошёл. Огляделся – убранство кабинета меня сразу же заворожило: на стенах висят большие лепные картины с сюжетами из русских народных сказок и множество подкрашенных рельефов поменьше. По углам стоят, вылепленные в рост, сказочные герои: вот медведь несёт на спине Машеньку в коробе, вот Алёнушка с братцем Иванушкой, а вот Баба Яга с длинным носом высунулась из избушки… И еще огромная древнегреческая амфора стоит на сейфе.
– Прошу к столу, Евгений, – услышал я голос хозяина,– потом рассмотришь.
На столе появились дымящийся чайник и чашки.
– А я тебя сразу узнал, – сказал Пётр Петрович,– вот, думаю, все-таки не забыл, приехал…. Это хорошо, что ты пришёл, значит, взяло тебя за живое наше лепное творчество. Ты ведь искусствовед, если мне не изменяет память?..
Я кивнул.
– Это хорошо, что искусствовед. Этим делом надо заниматься.
– Так я из другой области…
– Неважно, из какой области, а вот то, что мы с тобой за одним столом сидим и чай пьём – это, брат, хорошо. У нас с тобой, если пошире подумать, одна область… Помнишь, я тебе тогда, зимой, рассказывал, что работал я в Приволжском книжном издательстве?
– Как же, хорошо помню.
– Так вот, – сказал Африкантов, наливая мне в чашку ароматного чаю, – работал я себе спокойненько в издательстве, заведующим сельскохозяйственной редакцией, и к глине никакого касательства не имел. Если бы не горбачёвская перестройка и не ельцинская передряга, то, возможно, Петра Петровича здесь, в этих стенах, и не было бы. А стало бы оно в итоге лучше? Кто знает, кто знает… Уж, во всяком случае, для дела возрождения саратовской глиняной игрушки оно было бы хуже. Но Господь рассудил иначе – и вот я здесь! Знаешь, Евгений, в зрелом возрасте приходишь поневоле к мысли, что человек только предполагает, а Бог располагает. Ему лучше знать, в кого Он какие способности заложил и как этим задаткам лучше проявиться. Вот я хорошо рисовал в школе, участвовал в конкурсах, хотел поступать в Саратовское художественное училище, а не получилось. Окончил Тимирязевский сельскохозяйственный техникум в Татищевском районе, стал механиком, работал трактористом, шофёром, автомехаником, затем окончил филфак, а всё равно не минуло к рисованию вернуться. Не знаю, какой уж я там был тракторист, механик или корреспондент газеты, только, когда настало время собирать камни, с чего я начал?.. А начал я с того, что во мне сильнее всего и заложено было… Всему, Евгений, своё время. Раньше, бывало, никаких желаний и мыслей о возрождении игрушки мне и в голову не приходило, а потом – откуда что взялось! Словно камень на голову свалился! Непостижимо это человекам, только одному Богу известно…
Африкантов замолчал. Он пил чай, глядя поверх моей головы и вглядываясь то ли в своё изрезанное событиями прошлое, то ли в будущее. Я нарушил молчание вопросом:
– Мы с вами о мистической стороне дела всё говорим, Петр Петрович, тут сто дорог, а вот как в реальности всё происходило? Ну, когда камень-то этот на голову свалился, образно говоря?
Пётр Петрович широко улыбнулся.
– Честно сказать, идея возродить местную игрушку была не моя. Я её, эту идею, только подхватил, а высказана впервые она была на собрании мастеров, в музее прикладного искусства, у Виктора Васильевича Солдатенкова. Человек он был, царство ему небесное, незаурядный, и людей вокруг себя собирал под стать себе, с изюминкой. Вот на таком же чаепитии в музее и зашла речь о глиняных игрушках. Был у нас тогда хороший мастер по резьбе по дереву, он и глиной занимался – Фомин Александр Васильевич, трудовик из пятой гимназии. Это он высказал идею создания саратовской глиняной игрушки, и образцы он же представил. Но Фомин был родом не из Саратова и потому не знал, что в Саратове своя историческая игрушка уже была – и потому заново создавать ничего было не надо: я ведь уже вам рассказывал, что с младых ногтей эту игрушку в руках держал. Тут я и сказал Фомину, что заново ничего создавать не надо, что эта игрушка издавна была в городе. Меня поддержали пожилые мастера-саратовцы, они тоже эту игрушку помнили, только сами глиной не занимались. Солдатенков и говорит: «Раз ты в эту игрушку играл, на ней вырос, помнишь, раз сам лепкой занимаешься, то и давай возрождай», – так и благословил. Потом ни Александра Васильевича, ни Виктора Васильевича не стало, а я вот так и леплю, с лёгкой их руки…
– А вы, Евгений, пейте чаёк-то, пейте, – попотчевал, прерывая сам себя, Пётр Петрович, – игрушка, она никуда не убежит, она глиняная, а вот чай остынет…
– Это чай, Пётр Петрович, никуда не денется, – парировал я. – Чай и подогреть можно, а вот об игрушке хочется слышать из первых уст…
– А! Значит, зацепила… – сказал мастер весело.
Он подошел к шкафу, отворил дверцу и бережно выложил на стол с десяток глиняных изделий.
– Это все новенькие, ещё на прилавке не были, – заметил Африкантов.
Все игрушки были сделаны в виде свистка, с удлинёнными туловищами, двумя ногами. Были тут Баба Яга в ступе, русалка с витиевато изогнутым хвостом, волк, филин. К ступе мастер приделал куриные ноги, получилось очень оригинально. Я присмотрелся – туловища у всех игрушек были одинаковые, а вот головы и некоторые другие детали –
разные. Сказал об этом мастеру.
– Молодец, наблюдательный, – похвалил игрушечник,– правильно подметил. Эти все, о двух ногах, с вытянутыми одинаковыми туловищами – это гуделки…
– Свистки, значит?
– Нет, свистки – это самые маленькие, звонкие. А это гуделки: у них голос другой, более низкий. Мы их так в детстве называли. Взрослые мастера, может быть, так и не называли, а мы вот делили… Туловище я оттискиваю вот в этой гипсовой формочке, потому как у гуделки должна быть приятная высота звучания. При помощи гипсовой формы легче сделать пустоту внутри. Каждый раз в этот объём пустоты, что внутри тела игрушки, попадать трудно…. Это, можно сказать, тональные свистки, я их делаю с двумя игральными отверстиями. Получается устойчивый звук и чёткий переход на другую высоту при поочерёдном закрытии пальцами отверстий.
– Я видел у той бабушки маленькие свистки с двумя отверстиями, – заметил я.
– Это свистки с высокой частотой звучания, – пояснил мастер, – я такие тоже делаю, но только без игральных отверстий. Слух режет перебор на такой октаве, маленькие дети даже испугаться могут, а этот звук много мягче, но и свистковое отверстие делать сложнее, ведь струю воздуха надо не только разорвать, но и закрутить, тогда хрипов не будет и глухоты. Наши предки это умели очень хорошо делать – и свистки, и гуделки, и кукушки, и даже окарины.
– Мне внучка Никитичны о «кукушке» говорила, что это такое?
– В кукушке есть одна хитрость. По сути, это та же гуделка, на одно или два игральных отверстия, только объём резонатора подобран так, что при закрытом игральном отверстии она выдаёт звук «до» четвёртой октавы, а при открытии игрального отверстия переходит на «ми». Так и звучит поочерёдно: «до» – «ми», «до» – «ми», а нам слышится «ку-ку», «ку-ку»…
Мне захотелось спросить Петра Петровича об окарине. Я раньше слышал о таком музыкальном инструменте, но никогда его не видел.
– А вы окарины тоже делаете?
– Балуюсь понемногу… Делаю простые и полифонические, – и мастер вытащил из стола глиняную птицу с вытянутой шеей, элегантным хвостом и короткими приспущенными крыльями.
Птица, казалось, приготовилась оттолкнуться от земли и взлететь. По её туловищу, с обеих сторон, шли игральные отверстия. Пётр Петрович взял изделие в руки, приставил к губам, и тотчас тишину кабинета наполнило бархатное звучание. Птица пела, и мне показалось, что она не желает взлетать, а сидит на ветке и, вытянув шею, всматривается туда, где должны появиться первые солнечные лучи…
– А вы, Петр Петрович, хорошо разбираетесь в музыкальной грамоте? – задал я очередной вопрос.
– В музыкальной грамоте не шибко разбираюсь, я самоучка. Но есть друзья-музыканты. К примеру, Шайхутдинов Леонид Халяфович руководит детским оркестром народных музыкальных инструментов в нашем районе, так его дети играют и на моих окаринах тоже. Федотов Игорь с ним в паре. Этот инструмент, грубо сказать, большой свисток, только отверстия просверлены не как у гуделки, лишь бы яркие звуки выдавить, а согласно звуковой гамме, ну там, знаете: «до», «ре», «ми»…
– Вы и играть умеете?
– Нет, вот играть я не умею, – признался мастер.
– А как же, не умея играть, инструменты делаете?
– Играть – это одно, а делать – другое. Мы же не требуем, чтобы музыканты сами умели делать пианино или скрипку! Разумеется, основы строя знать надо, – хотя, если вы имеете абсолютный музыкальный слух, то и этого не требуется. У меня такого слуха нет, потому ориентируюсь на знание музыкальной грамоты. А настраиваю под компьютер, раньше под баян настраивал. Компьютер более точно воспроизводит звук, и подбирать под него легче, удобнее, хотя бы растягивать меха не надо. Я обо всём этом подробно рассказал в своей книге «Саратовские сказочники». Солдатенков Виктор Васильевич её на грант издал. Эта книга о мастерах и о музее народных художественных ремёсел. Я там всю свою технологию описал…
– Так вы и книги пишете, гм… А это что у вас за глиняные трубочки на столе лежат?
– А, эти… – Петр Петрович несколько смутился. – Да я, знаете, на орган керамический замахнулся. Это образцы игральных труб. Знаете… кучу литературы перечитал. Мне хочется сделать его в виде аккордеона. Чертежи сделал, несколько игральных трубок, а дальше пока отложил, переориентировался на другое, но от задумки своей не отказался, цепляет. Пока окариной занимаюсь, да флейтами…
Я не стал углубляться в окаринную тему, хотя понял, что об этом Пётр Петрович может говорить долго и со знанием дела. Мне хотелось побольше узнать о саратовской глиняной игрушке и я перевёл разговор в прежнее русло.
– Скажите, а какой вы помните игрушку вашего детства? Какой она в вашей памяти сохранилась?
– Я отлично помню ту игрушку, которая стояла у нас в шкафу и ту, которую возил по деревням на лошади тряпичник. Я вам о нём уже говорил. У него в телеге стоял сундучок, в котором были разные гребешки, булавки, заколки и, конечно, глиняные игрушки. Помню свистульки и гуделки. Их было много, на разный манер сделанные, большие и маленькие. Что тогда было востребовано, то и делалось мастером. Куклята ещё были, их девочки покупали. Из куклят самыми ходовыми были «ребёнок в зыбке» и «кормящая мать». Мальчишки покупали свистки с разными головами: медведя, барана, коня. Старались составить коллекции. Сейчас марки собирают, а мы собирали свистки. У меня тоже была такая коллекция. Я сейчас и сам на продажу такой свистушечный набор сделал, вдруг жажда в детворе проявится?
– А чем конкретно, Петр Петрович, отличалась саратовская игрушка от дымковской, например?
– Много, чем… технологией изготовления, создаваемыми образами…У нас, если опираться на память, любили лепить коней с развевающимися гривами. Вообще любили лепить домашних животных, но кони превалировали. Я тоже всяких животных леплю, но вот как за коня берусь, обязательно в душе что-то ёкает. В этом животном особая поэзия и особое звучание проявляется…
Мастер помолчал, подумал.
– А что касается технологии, Евгений, то здесь ведь всё зависит от глины: какой её цвет был до обжига, какой в сухом состоянии и какой после обжига. Вот дымковскую игрушку почему выбеливали: основной-то цвет у нее тёмно-коричневый. С этим цветом на рынке далеко не уедешь, но в основе глина хорошая. В Саратове для обжига нет хороших глин, все загрязнены известью. Попадёт такой кусочек, величиной с игольное отверстие, и пиши пропало. После обжига известь начинает поглощать из атмосферы влагу, начинает увеличиваться в размерах, раз в пять-шесть, и разрывает изделие… Перед тем, как сделать «жжёнку», с глиной надо было повозиться: перетереть, пропустить глиняное молоко через ткань, затем выпарить на солнце. «Сушки» было гораздо больше, потому как таких сложностей здесь не было: она не обжигалась, а просто хорошо высушивалась на солнце и раскрашивалась. Сверху все игрушки крылись молоком. От этого им был присущ матовый блеск. Таким методом в России пользовались многие игрушечники, это не секрет.
– Со «жжёнкой» мне всё ясно, там огонь цвет даёт, а почему у вас «сушки» в основе разного цвета? Вы их что, так специально красите?
Тут я, по правде говоря, немного слукавил, потому как уже знал ответ на этот вопрос от Никитичны. Но мне интересно было услышать ответ от Петра Петровича.
– Да нет, не специально. Наша игрушка вообще не покрывалась красителем всплошную, предпочитался естественный цвет глины, тем более, что глина к этому располагает. Естественный цвет – он и есть естественный, а краска – она всегда только краска. Почему у меня «сушка» нескольких видов? Можно сказать, что это дань старине. Просто в Саратове делали «сушки» из разного цвета глин: из серо-белой глины, которой по саратовским горам видимо-невидимо, из желтоватой и из коричневой. Тут уж всё зависело от вкуса мастера. В большинстве своём «сушки» были самыми простенькими игрушками – изготовление их было технологически не обременительным делом: пошёл, копнул лопатой глинки, и лепи. Из неё и лепил всяк, кому не лень. Но «сушки» делались и профессиональными мастерами. Раньше, к примеру, мастера и мастерицы со стажем обязательно добавляли к серо-белой глине коричневую, для плотности и теплоты. Из плотной глины свистковые устройства удобнее делать. Я же добавляю коричневой – с расчётом, чтобы получился состав светло-коричневый, или бежевых оттенков, на этих цветах и работаю по «сушке». Покупатели ведь все разные, кому бежевая нравится, кому серая, а кому и светло-коричневая. Сейчас у мастеров, конечно, возможности другие: красители на выбор, лаки тоже. По «сушке» краской или лаком поработаешь – она зазвучит, только вот такого золотистого цвета, как у «жжёнки», у неё никогда не будет: там огонь красит. С огнём ничто не сравнится!