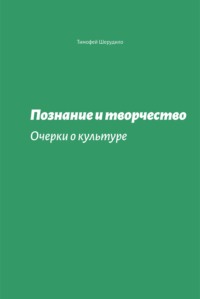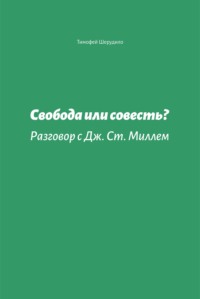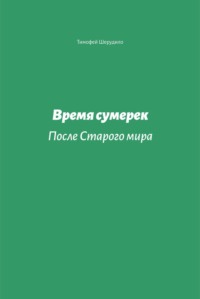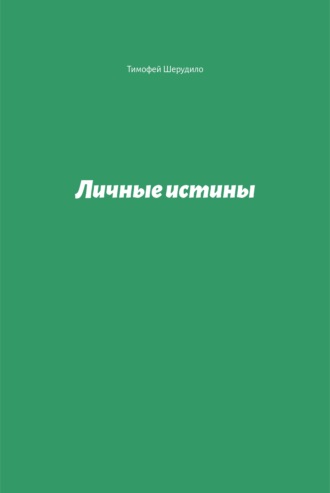 полная версия
полная версияЛичные истины
Современный мир настойчиво отвергает всякий дуализм в объяснении природы и человека, и в техническом отношении человеческая мысль, освобожденная от тяжелой и не всегда плодотворной работы над нравственными вопросами, добилась необыкновенных успехов. Но всякие успехи в построении личности, семьи, общества возможны только на почведуалистического взгляда на вещи. Монизм упраздняет саму возможность существования высших ценностей, превращая их, как и всё невещественное, в любопытную и иногда приятную иллюзию; высшие ценности уходят… и всё проваливается в тартарары. Если западный мир еще на чем-то держится, это говорит только о небывалой прочности заложенного католической Церковью фундамента, на котором стоят современные Америка и Европа.
***
У Набокова в «Даре» есть такие слова: «замутнение источника по мере обострения жажды». Сказано это о русском «освободительном движении», но относится в полной мере и к европейскому человечеству. В области духовного мы наблюдаемвсё ускоряющееся движение при полном забвении первоначальных целей, если под первоначальными целями понимать умственную независимость и свободное развитие личности, которыми вдохновлялись Возрождение и Реформация. Отрицательные определения, бывшие только условиями достижения положительных целей, – независимость от принудительного нравственного авторитета, свобода мнений и их высказывания – как-то стали самостоятельными, если не сказать самодовлеющими ценностями. Достоевский говорит о сектантах, что те разбили священный сосуд – Церковь – и драгоценная влага веры вытекла на землю. Здесь происходит обратное: строится дом, не имеющий крыши, но зато с хорошо покрашенными крепкими стенами… «А крыша? – Нет, крыши нам не надо, это ущемило бы нашу свободу!» Условности, процедуры, уловки, обычаи, которыми окружала себя личность, защищаясь от произвола государства и Церкви, стали основным содержанием жизни, ценностями, которые передаются потомкам, хотя когда-то были только средствами защиты. Ныне это самостоятельные ценности – и, скажем, растление масс считается меньшим злом в сравнении с введением цензуры. Точно так же поступает наука, которая провозгласила свою незаинтересованность в смыслах, в вопросах «почему» и «зачем», и сосредоточилась на изучении фактов. Служебная ценность непредвзятого исследования превратилась в самодостаточную святыню исследования, ни к чему не приводящего. По сути дела, мирозданию было отказано сначала в познаваемом, а затем и в смысле вообще. Но если нет смысла, что толку в фактах?.. И свобода современностью понимается сугубо отрицательно – в первую очередь как свобода от мысли, от усилий, от умственной и нравственной дисциплины. Можно было бы дать определение, и недалекое от истины: современно понятая свобода есть движение по пути наименьшего сопротивления. Хорошим признаётся то, что не требует усилий, и дурным, неестественным – всё трудное, и потому высокое и прекрасное. Человечеством овладело противоестественное стремление к «естественности», безнадежное и неутолимое потому, что ни сознание, ни совесть, ни культура, словом, душевная жизнь во всей совокупности своей ни в какой мере «естественной» не является, сколько бы ни старались последователи Маркса, Фрейда и Дарвина загнать человека обратно в мир мертвых вещей. Нет и не будет ничего «естественного» в том, что мы живем, мыслим, любим и алчем вечности.
***
Пора уже признать, что идея «равенства» была порочна изначально, и хороша оказалась только как острое оружие против разделенно-замкнутого общества средневековья.Положительного содержания эта идея никогда не имела. Всякая революция, писавшая это слово на своих знаменах, заботилась не об установлении общественного равновесия, но о «выворачивании наизнанку» существующего положения дел – о свободе своим и бесправии чужим. Так и феминизм, надо заметить, в качестве движения во имя равенства, заботится не об уравнении возможностей, не о «наполнении долин и уравнении высот», а о том, чтобы обратить существующий порядок вещей, чтобы в новом порядке всё осталось по-прежнему, с одной лишь разницей – в нем мужеподобные женщины поведут женоподобных мужчин (и Запад Запада – Америка – может быть, к тому идет). Однако в мире нет ни тени равенства, есть только неизменная ценность человеческой души, а это совсем не одно и то же. Равенство как раз предполагает отказ от идеи души как последней ценности, поскольку душа – темная, неисследимая глубина, она внутри и ее не видно, а равенство ищет простых и внешних признаков; всё внутреннее, индивидуальное его поборников, напротив, беспокоит. Даже более того, равенство и демократия естественно враждебны Богу, п. ч. не могут смириться ни с какой силой превыше средних человеческих способностей – к которым всегда взывают и с которыми чувствуют себя легко и спокойно. Без сомнений они делают своей опорой эгоизм и жажду потребления, признавая, например, государство «средством для осуществления личной свободы человека». Однако естественный вывод из этого положения – «ближние суть средства для осуществления моих желаний» – уже не так благородно звучит. Вся благопристойная внешность идеи «государства-слуги» сохраняется до тех пор, пока мы не видим за безликим «государством» собрания живых личностей, страдающих душ. За этой формулой сверхчеловечество самого дурного пошиба – сверхчеловечество ничтожества, которое расположено только брать, и брать не потому, что оно сильнее, а потому, что ему нет противодействия.
***
Есть, грубо говоря, два общественных порядка. Один признаёт авторитет, с недоверием или осторожностью относится к общественной самодеятельности, но при этом поощряет в человеке высшие способности и помогает личностям высших способностей занять свое место в обществе. Второй, при видимом одобрении большинства, замалчивает как высшие ценности, так и их носителей, постоянно зато обращаясь к «здоровым понятиям и инстинктам»… Первый случай принято рассматривать как угнетение; если и так, то второй не в меньшей степени является угнетением –высших низшими. Либо вы опекаете недееспособных, иногда совершая ошибку в отношении взрослых и разумных людей, либо вы наделяете дееспособностью всех, и наблюдаете, как поколение за поколением, руководимые злонамеренными шутами, злоупотребляет своей свободой. У ограниченной разумной свободы есть одно неоспоримое достоинство: ей нельзя злоупотребить.
Общество есть воспитательное, не только охранительное учреждение. Взгляд на государство как на слугу своих подданных ложен и ограничен, вызван редко случающимся стечением обстоятельств. Он мог зародиться только в обществе крайних индивидуалистов, каждый из которых был убежден в обладании последней религиозной истиной и просто неспособен подчиняться ни земным, ни небесным властям, какими и были первые поселенцы Соединенных Штатов. Американскую демократию часто понимают как вершину общественного развития; на деле американская демократия была создана людьми,предельно непригодными для общества, каждый из которых ревниво оберегал свою независимость и право на обладание истиной. Они – поймите же вы это! – создавали не общество как единство, в котором все неизбежно связаны со всеми, но такой уклад, в котором связи между людьми были бы как можно более поверхностными и притом предельно точно обозначенными законом; уклад, в котором каждый оставался бы не более необходимого, то есть не свыше терпимого предела, включенным в общество, и в то же время совершенно отдельным. И это нам подается как наиболее совершенный общественный строй… Это общество, основанное не на привязанностях, а на отталкиваниях: «Ты только меня не трогай, и тогда я, так и быть, уделю крошку своей свободы для общего блага» – общество всеобщего разъединения!
***
Разорвана священная связь слова и смысла, и книга больше не святыня, но орудие шутов и дураков… «Только мы, русские, – говорил Пушкин, – всё еще почитаем печатный лист святым». Это преувеличение. Слово долгое время подразумевало чистоту намерений говорящего, и не для нас одних, вплоть до той эпохи, когда вместо «правды» и «лжи» стали говорить о «выгоде» и «невыгоде». Если выгодно солгать, солги! Гниль – если можно так сказать – проникла в самую сердцевину: в область намерений. Что ни говори, но древние римляне или греки, или люди средневековья, лгалинамеренно и прилюдно гораздо меньше нас, в первую очередь потому, что ложь является ключом к успеху только в условиях нашего общества, в условиях, когда друг другу противостоят ничем не ограничиваемый обман и ничем не ограничиваемая вера, т. е. готовность быть обманутым… По мере роста образованности общества его нравственная сила убывает, понимая под нравственностью способность сопротивления лжи.
***
У думающих и чувствующих людей в наши дни в ходу мироощущение плоское, как поверхность мыльного пузыря: внизу ничего, вверху ничего, только тонкая радужная пленка. Мироощущение полной непросвещенности, для которого мир слагается только из совокупности чувственных ощущений, и в нем – ни глубин, ни высот… Как будто все нити, соединяющие душу с мирозданием, с человечеством, с прошлыми и будущими временами, перерезаны, и она оставлена среди зыбких, неясных призраков, с единственно несомненнымчувственным опытом, ограниченным понятиями приятного и неприятного. Это не порок отдельных личностей, но черта эпохи, которая разуверилась во всем и ничто ее больше не защищает – ни высота Церкви, ни крепость государства, ни почва культуры… Нет больше ни основ, ни стен, ни крыши, но только изгнанный из своего дома человек – король Лир уже без короны, но еще без мудрости.
Более того. Ценность человеческой личности, и более – человеческой жизни, – в мире, т. е. в европейско-христианском человечестве, стремительно убыла, ушла в песок. Нынешнеевосстановленное общество, насколько его удалось собрать из обломков, оставленных революциями и войнами, на словах признаёт великие ценности XIX века, но оно – только фасад, декорация, хорошо расписанное полотно, за которым скрывается нечто пугающее. Трагичность эпохи, даже больше того – ужас эпохи в том, что под наскоро восстановленными гуманистическими ценностями (т. е. ценностями христианства, не будем об этом забывать) ничего нет. Нам (говоря нам, я говорю о Западе и о Востоке) удалось восстановить государственные формы, но не их содержание. Взгляд на карту Европы обманывает. Нет больше ни Англии, ни Франции, ни – она пала первой – России. Есть пугающее будущее, скрытое за старыми формами и новыми упованиями. Самая удачливая, восходящая держава современности потому и удачлива, что для нее нет противоречия между преданиями и действительностью, она не вынуждена оглядываться назад, берясь за орало. Она откровенно ставит силу, богатство и власть на место первых жизненных ценностей, и уверенно теснит более культурные, и потому более слабые нации… Это сила откровенно противохристианская, несмотря на то, что исходит из страны, много говорящей о своем христианстве. Ведь христианские ценности не ограничиваются 10 заповедями Моисеевыми. Признавать христианские ценности в полном объеме значит испытывать глубочайшее отвращение к силе, а также с недоверием или по меньшей мере с осторожностью относиться к власти и богатству. Христиа́нин есть не в последнюю очередь человек, не подпавший под обаяние силы. Насилие как образ действия, жестокость как признак действия, сила как единственное оправдание деятеля не вызывают у него трепета и желания поклониться. Много ли таких христиан в наше время? Сущность христианства в его отношении к силе; христианин, признающий силу за достаточное обоснование власти, авторитета, общественного значения, – то же, что горячий лед или твердое облако. Христианство родилось как противление насилию во имя Бога и человеческой души. Кесарь и его легионы прошли мимо Христа – Он только бросил им требуемую подать. Так же должны поступать и мы.
***
Рационализм пытается всему дать объяснения, не превосходящие мыслительных способностей объясняющего, что опасно, т. к. совершенно извращает отношения исследователя и исследуемого. Вместо того, чтобы подниматься до сложности своего предмета, исследователь принижает предмет до своего уровня, видя в себе поистине «меру вещей», что, конечно, совершенная нелепость. Вселеннаяне обязана быть удобопонятной для всякого любопытствующего.
Думая изучать природу, исследователь изучает человеческое общество новейшей формации; думая изучать человека, он изучает новейшие из созданных человеком машин. Нельзя не видеть, как социология и кибернетикаотбрасывают тень на биологию и психологию. Таким образом, «наблюдательные» науки о природе и человеке оказываются под большим сомнением. Незыблемой остается, может быть, только химия, но уже физика, притязающая быть матерью всех познаний, есть только череда меняющих друг друга механических моделей немеханических взаимодействий. Наше знание о мире под серьезной угрозой, и именно сейчас, когда объем познания растет в прямой связи с уменьшением его глубины. Оно совсем не так бесспорно, как внушают профанам, и слишком отражает нынешнее состояние нашего общества и нас самих. Мы наблюдаем кризис познания в переживающем кризис обществе. Поставленное перед необходимостью самопознания и преображения (одно есть условие другого), оно всячески сопротивляется, предпочитая оглушать себя бодрыми криками о могуществе и благосостоянии человечества, причем под человечеством подразумевается весьма скромная его часть, а именно – та, к которой принадлежат сами кричащие. Как всегда в по-настоящему переходные эпохи, политический упадок сопровождается духовным. Запад не просто испытывает «еще одни» политические трудности, но политические трудности совокупно с неспособностью их разрешения, несмотря на всю военную и хозяйственную силу. В переломные эпохи трудные, но разрешимые задачи ставятся перед неспособными их разрешить правителями. Так было в 1917 году в России, так происходит теперь на Западе.
Можно подумать, что человечество обезумело – и слепо ломится всё вперед по ложной дороге. Именно неотклонимость нынешнего движения – признак того, что это не просто «трудности», но ослепление обреченных. Современный Запад с тем большей силой стремится вперед, чем более ложен путь. Все глаза закрыты, все уши оглушены ревом славословий о «могуществе человека»; но будущее уже совсем близко. Что сказать этому времени? Нужны слова Исаии, чтобы разговаривать с ним: «Грядет день Господа Саваофа на всё гордое и высокомерное и на всё превознесенное… и на все кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену». Философия неуместна в апокалиптические эпохи. Взвешивать доводы и отсчитывать положения – занятие слишком пресное для времени, когда шатаются основы основ. Ему нужен пророк, но пророка оно не только не послушает, но и не даст ему говорить, ибо «свобода слова» есть свобода только для тех слов, которые не будят дремлющий ум и спящее сердце.
Впрочем, плоско-положительное мировоззрение, которое сегодня поставляется в Россию из стран Запада, для нее не ново. Целый слой русской интеллигенции еще в первую половину XX века питался удивительно легковесной умственной пищей. «Величайший писатель – Чехов, величайший мыслитель – Герцен, величайший поэт – Некрасов». Я даже, может быть, неверно выразился. На словах, конечно, признавалось величие Пушкина и Достоевского, но ключ к настроениям души, слово для верного выражения мысли искали именно у Чехова-Некрасова-Герцена. Симпатия русского интеллигента к Пушкину имела скорее литературоведческий и политический оттенок, состояла в изысканиях личной жизни и поисках политических сопоставлений, т. е. была чисто внешней. Сокровенные мысли Пушкина о месте поэта в мире – с их неизбежно религиозным оттенком – были слишком далеки от круга интеллигентских святынь. Интеллигенция потом вспомнила-таки Достоевского, но это было уже перед концом ее устойчивого существования… Чем были плохи названные литераторы? Да тем, что приучали к поверхностной мысли, обедняли мышление целых поколений, заменяя глубокомыслие свободомыслием, политическую мысль – политическими намеками, а психологию – внешней наблюдательностью (ибо при всем моем уважении к Чехову я не вижу, чтобы он переходил грань, отделяющую простую наблюдательность от познания души, свойственного, напр., Достоевскому).
***
Искусство демократического управления массами состоит в том, чтобы выставлять на обсуждение вопросы второстепенные, но зато способные собрать достаточное число голосов за или против, и решать важнейшие вопросы, от которых на самом деле зависит судьба народов, за кулисами, в тени. Демократическая власть, несмотря на всю свою балаганную открытость, – самая тайная власть. Она лишь не задает рядовому гражданину вопросов, не превышающих его разумения, и потому чаще всего получает более или менее осмысленные ответы на свои запросы, поэтому и может хвалиться своей «открытостью»… Мы наблюдаем – нужно хотя бы себе самим в этом признаться – великолепно обставленный обман. Толпы народа текут на избирательные участки; выражают прилюдно свои мнения; объединяются в партии. Всё это звучит музыкой для неизбалованного русского слуха, и всё это имеет не большее влияние на ход политических звезд, чем шорох листвы. Убаюканные массы спят, листва шумит о праве и свободе, а звезды движутся к своим неведомым целям. Таково действительное положение вещей.
***
Исключительность христианства не в том, что оно обещало каждой личности вечность – это мнение и до него разделяли все высоко поднявшиеся умы, – а в том, что оно увидело в Боге не грозную неизвестность, но силу, которая сопутствует нам во всём высоком, добром и прекрасном; силу, вступающую в тесный союз с человеком не ради жертв или исполнения заповедей, но настолько, насколько человек остается человеком, более того –тем больше, чем более он человек. Была указана великая связь человечности и божественности, по которой согрешивший против своего естества грешит против Бога. Эта связь в иные времена бывала любовным притяжением, сыновним подчинением, наконец, стала ощущаться как цепь, порвалась… и сила разрыва отбросила человечество к его нынешнему горестному положению.
Потребительский материализм постепенно сменяется природопоклонством, но поклонение «Природе» ничуть не лучше поклонения «Прогрессу»: и тут, и там цели и ценности ставятсявне человека. Сила и исключительность христианства в его опоре на святыни, неразрывно связанные с человечностью. В части ценностей христианство вообще ничего не измышляло нового, но было только психологически зорким наблюдателем. Его парадоксальность и неотмирность не намеренны: они только отражают неразрешимое противоречие, незаполняемую трещину между духом и миром.
***
Что любопытно: Достоевского всю жизнь искушал бес, Льва Толстого тоже. Но ни один самый маленький бесенок не угрожал тем, кто не искал горнего и лучшего, а возлагал свои надежды, скажем, на прогресс и либерализм. Это говорит о чем-нибудь? На мой взгляд, несомненно говорит. Идущих к истине всеми силами пытаются от нее отвлечь. Кто? Он самый, я уже назвал имя… Но это уже выход за пределы психологии (да и чисто психологическая точка зрения уже требует в наше время большой смелости, т. к. современная наука из всех явлений душевной жизни замечает только удобные для ее построений, т. е. грубые и простейшие). Оставаясь на почве психологии, можно выразиться иначе: те же самые личности, что отмечены стремлением к высшим ценностям в их самом чистом проявлении, переживают постоянную внутреннюю борьбу с совершенно противоположными стремлениями, грубо говоря, с тягой к низкому и безобразному, хотя и – спешу предупредить высоконравственного читателя – вполне может быть, невинному в глазах большинства, причем чем сильнее тяга к одному, тем больше и порывы к другому.
Современность находится в ином положении. Нельзя сказать, чтобы ее искушал бес; скорее, сама она всеми силами приманивает всех возможных бесов – ищет всяческих соблазнов и торопится испытать еще непознанные искушения, чтобы заполнить чем-то пустые дни…
Прошло время, когда мнениями о нравственных вопросах обменивались собеседники, равно признающие Десять заповедей. Сейчас громкоголосое меньшинство, преступившее все возможные заповеди, но заслоненное, как щитом, всевозможными «правами» и «свободами», противостоит неслышному ропоту подавляемого большинства. Быть нравственным, сохранять душевную чистоту по́шло, ретроградно и постыдно. Бестрепетность обращения с ужасным и постыдным отличаетнового человека, на развалинах старой нравственности пролагающего путь к успеху.
Общество торжественное и серьезное, отворачивающее свое лицо от низкого в человеке, – такое общество, если оно достаточно свободно, постепенно расшатывается изнутри теми, кто привлекает всяческое внимание именно к вытесняемому из общества низкому. Только в обществе, которое не разучилось поднимать глаза к небу, появляются проповедники «тайны пола» вроде Розанова или (гораздо менее сложного) Фрейда, и находятответы там, где до сих пор не было принято видеть даже вопросов. С детской горячностью они выкрикивают свои стыдные истины в противовес принятым истинам возвышенным и строгим… Но время проходит, и мы видим на месте прежнего новое, уже всесторонне растленное общество, с его ценностями не выше пояса, и посреди этого общества – стыдящихся толпы̀ одиночек, которые робко поднимают глаза к небу. Всякое «освободительное» движение кончается на развалинах; не составляет исключения и борьба за освобождение от тягот морали.
***
Мы переживаем эпоху великого разнуздания страстей. Впрочем, страсть подразумевает нечто сверх потребности, а речь идет как раз об утолении потребностей – причемискусственно создаваемых потребностей, в этом тайна и определение современного общества. Это в полной мере общество искусственно создаваемых потребностей, которые позволяют окупить и даже сделать выгодным ненужное производство. Сколько бы ни говорили о «радостях обладания», брак – в первую очередь тесная дружба и желание радовать друг друга. Страсть, вопреки всем разговорам, не основа брака, а путь к нему. Итак, половая жажда искусственно возгревается, и повседневно распаляемое общество ищет оставшихся еще ненарушенными запретов. Это удивительно для стороннего наблюдателя, т. к. разврат как таковой бесполезен и непосредственной выгоды никому не приносит, разве только делает общество всё более и более легко управляемым, предлагая вместо бича – во всё больших и больших количествах – мед.
В мире утверждаетсяновый нравственный порядок, который ничего не говорит о добре и зле, считая их молчаливо упраздненными, но повседневно проповедует естественность насилия, являющегося, как известно, щитом и опорой всякого зла. Распространяется невысказанное, но явное поклонение силе и ужасу – при жажде всяческих личных удобств. Обывателя приглашают занять уютное кресло в аду, у самого огня, из которого он, непринужденно устроившись, сможет слышать вопли истязаемых и обонять адский чад; но притом он убежден (по меньшей мере, его заставляют в это поверить) в том, что ад всегда для других.
***
Массам ныне свойственно состояниепредельной развлеченности, поверхностного возбуждения ума, при котором наибольшую ценность приобретают наименее важные вопросы, силы уходят в погоню за пустяками, и наряду с отрицанием главных, основополагающих ценностей царит всеобщее легковерие. Пожалуй, никогда еще человек не был так беззащитен перед обманом, как теперь, когда он мнит себя трезвым скептиком. Его сомнения, заслугой целого хора голосов, направляются только на те предметы, уверенность в которых предохраняет от обмана во всем остальном. Сомнение, скажем, в заповеди «Не произноси свидетельства ложна» освобождает от сомнений во всех случаях склонения к лжесвидетельству… Мы наблюдаем удивительную, невероятную для наших прадедов картину: общество неверующих скептиков оказывается обществом всеобщего и предельного легковерия, причем именно в таких вопросах, в которых оно смерти подобно. В нравственном отношении это общество скептиков определяется шатанием и нетвердостью в вопросе о дозволенном и недозволенном, с явной склонностью предпочитать в качестве дозволенного приятное. О его умственной культуре самым мягким будет сказать, что она склонна к непрестанному понижению уровня и упрощению форм умственной жизни. «Культуру, – говорят мыслящие представители этого общества, – в наше время принято потреблять – что же, надо с этим смириться и предоставить потребителю приятное кушанье»… Скептикам прошлого странно было бы увидеть это общество, «наконец-то освобожденное от идеи Бога» – шатко стоящее на нетвердой почве, колеблемое ветром и притом отчаянно гордое. Из всех наших прадедов один Достоевский верно оценивал события и предупреждал о наступающем царстве нравственной шатости, но за то и был осужден современниками – как клеветник прогресса.