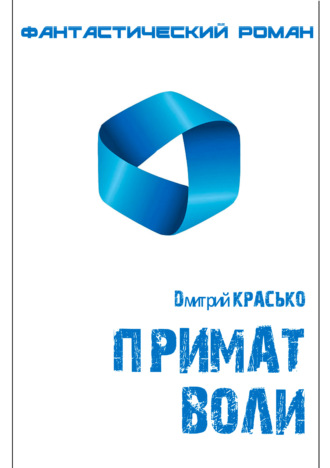
Полная версия
Примат воли
Я открыл глаза и повернулся на бок. Копер. Тащил на себе тело отремонтированного Мудреца. При этом оставаясь почти неслышимым. Удивительное создание. Чтобы не выглядеть невежливым, я сел.
– Не любят на Земле пророков, – весело сообщил большеголовый и сбросил принесенное тело на топчан. – Последнего привязали к пушке и выстрелили – хотели по всему свету развеять. То-то нам с Доктором пришлось повозиться, чтобы его воедино собрать! Слава Великим, до наступления Сроков управились. Пусть полежит, пока действие мертвой воды не закончится.
– Поздравляю! – дурашливо воскликнул Лонгви. – Вы сегодня вообще молодцы – показали нам, простым смертным, как нужно жить и работать.
– Не очень-то вы и простые, не зазнавайся, – возразил Копер. – Какой простой смертный по сотне-другой жизней прожил? Во всяком случае, способы расстаться с жизнью могли бы выбирать себе попроще. И пореже это делать, – он повернулся к Леониду и уточнил: – К тебе это особо относится, Воин. На ссоры ты мастак, а о дальнейшем не думаешь. А нам с Доктором приходится напрягаться, чтобы собрать тебя по кусочкам, срастить и оживить.
– Да ладно, – Леонид смущенно махнул рукой. – Я ведь тогда не знал, кто я. Думал, просто с дурацким характером уродился.
– Мы тогда сущие младенцы были, – плаксиво протянул Лонгви. – Редко-редко проскочит какое-нибудь воспоминание, но ведь дежа-вю всех людей время от времени посещает!
– Наше дежа-вю – особенное, – не удержался я. – У нас оно с подробностями и продолжениями. У нормальных людей так не бывает.
– А ты еще и доктор, да? – насмешливо спросил Лонгви.
Копер усмехнулся, протянул руку в мою сторону и изрек:
– Прошу любить и жаловать: великий знаток человеческих внутренностей, кудесник скальпеля и чародей снадобий, несравненный Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина. Он же Авиценна. Врач, философ, астроном и прочая, и прочая.
– Какие люди в нашем захудалом обществе, – радостно заорал Лонгви. – Приветствую вас, о светило медицины! Помнится, лет тысячу назад в забытом Аллахом селении Ходжент вы пользовали меня. Но увы – я умер.
– Не помню, – я покачал головой. – Авиценна тоже не сразу стал Авиценной. А сколько людей ему приходилось пользовать – голова кругом.
– Только не вздумай принимать это близко к сердцу, – поспешил загладить бестактность Игрок. – Чума – жестокая болезнь.
Я посмотрел на свою правую руку, и страшная, давно было утихшая, но вновь вернувшаяся через века боль разорвала мою душу.
– Да, – глухо сказал я. – Страшная.
* * *IМожет, это привиделось. Помню:Мы с тобою сидим на заборе,А по улицам – белые кониИ вкус ветра пленительно-горек.IIМожет, это привиделось как-то:Мы с тобою сидим и смеемсяНад таким удивительным фактом —Мы друг другу в любви признаемся.IIIМожет, это приснилось однажды:Мы с тобою одни во ВселеннойУпиваемся сладостной жаждой —И любовью необыкновенной.ЭпилогНо уходят любые виденья,И от ярости рвется аорта,Как расплата, как искупленьеЗа виденья такого сорта.…То были годы Черной Смерти. Кажется, в середине четырнадцатого века. В самой середине. То были годы, когда чума собирала свой урожай, не считаясь ни с возрастом, ни с полом, ни со званием. Раб ли ты, владетель – ничто не могло тебя уберечь. То были годы, когда вымирали селенья и целые города, когда жизнь замерла – люди боялись выходить из дома, чтобы не стать жертвой морового поветрия; многие поэтому глупо и страшно – и страшно глупо, – умерли с голоду. То были годы, когда убить могли только за то, что заподозрили в тебе разносчика заразы. Без жалости выжигались дома, районы и небольшие города, вымершие от чумы – заселять их все равно никто бы не решился, да и некому было. Горы почерневших трупов росли день ото дня, и хоронить их тоже никто не собирался – все боялись даже близко подходить к ним. Живые сходили с ума от горя, от безысходности или страха, и завидовали мертвым, которых уже ничто не могло лишить рассудка. То были годы, когда Европа, запертая сама в себе, лишилась миллионов – каждый третий стал избранником чумы, данником Черной Смерти.
Но врач не имел права бояться, как не имел и возможности исцелить больных. Если кто и вырывался из цепких лап чумы, то по счастливой случайности, либо благодаря природной стойкости организма. Моя задача заключалась в другом – я должен был выявлять очаги заражения, локализовывать их, обеззараживать. Да регулярно теребить градоначальника – чтобы он выставил карантин на дорогах и постоянно проверял стражников. Не дай бог, напьются, пропустят в город чумного – беда придет во многие дома.
И многие десятки, со временем превратившиеся в сотни и тысячи, беженцев, которых останавливал на подходе к городу карантин, ждали, пока я приду и осмотрю каждого – нет ли на теле темных пятен, не лихорадит ли, а может, легкий жар… Таких в город не пропускали – они так и оставались у костров, за рогатинами. Об их пропитании никто не заботился, потому что жить им все равно было недолго. И только я раз в неделю наведывался к кострищам, складывал трупы кучей, забрасывал их хворостом и поджигал. Чуме нельзя было давать ни одного шанса.
На второй год чумного поветрия весна выдалась на редкость красивой. Природе не было дела до того, что в мире людей властвует безумие смерти. Деревья не болеют чумой.
И они цвели, радуясь теплу, тому, что снова прилетели птицы, и пчелы и шмели самоотверженно роются в разноцветных, пахнущих медом цветах. Среди людей буйствовала смерть. Среди деревьев буйствовала весна.
Я приехал на Северную заставу вместе с начальником городской стражи. Было его время проверять посты. Было мое время проверять собравшихся у карантина.
Их еще много скиталось по дорогам, этих несчастных, которых черная смерть согнала с насиженных мест и бросила на поиски безопасного пристанища. Это потом, к концу второго пришествия чумы, когда страшная жатва подошла к завершению, скитальцев стало мало – самые неосторожные уже умерли, самые боязливые отсиделись в запертых наглухо домах, под удар попадали только самые невезучие. Но у карантинов больных и заразных уже почти не бывало.
Итак, бушевала весна. А я, вместе с десятком закутанных с ног до головы в плотную ткань, густо перемазанных в смеси серы, пережженного свиного жира, камфары и прочей дряни стражников, бродил меж костров.
Тех, кто не вызывал подозрений, стражники отводили к рогатинам. Этим предстояло еще дочиста отскоблиться в бане. В серном дыму, в невообразимой грязи, перемешанной с золой. Их одежду сожгут, но они будут допущены в город. И они радовались этому, понимая, что в этом – их спасение.
Подозрительных – а, по чести, зараженных; я редко ошибался, и дело даже не в явных и тайных синдромах, просто я чувствовал болезнь – отводили через дорогу к большому костру, у которого им предстояло доживать последние дни.
Была еще третья группа людей – тех, кто пришел сюда вместе с зараженными, кто сидел с ними у одного костра. Таких я приказывал оставлять за карантином еще на три дня. Этого времени было достаточно, чтобы понять – подхватили они заразу, или нет.
Я успел осмотреть уже добрую сотню пришельцев, и добрался до костра, к которому жались человек десять. Восемь, очевидно, вилланов, и двое – явно благородного происхождения. Это было видно и по лицу, и по одежде. Но сословность в те времена никого не волновала. Чума равняла всех.
– Кто вы, господа? – спросил я, остановившись у их костра.
– Кавалер де Грассан, из Шампани, – ответил тот из благородных, что постарше. – Со мной моя дочь, мой племянник и восемь крестьян – все, кто остался из моих людей. А вы, мсье?
– Я доктор в этом городке. Просто доктор.
– Он не просто доктор, шевалье, – заметил кто-то из стражников. – Он наше спасение. Благодаря ему у нас уже полгода не было ни одного случая чумы. Поэтому его слово – закон.
Я недовольно обернулся в сторону говорившего:
– Не искушай судьбу, Марэ!
– Я слышал о вашей работе, – покорно сказал де Грассан. – И готов принять любое ваше решение. Мои люди – тоже. В такие страшные времена, доктор, выше вас – только Бог.
– Пусть ваши люди подходят ко мне по одному, – вместо ответа сказал я.
Кавалер только склонил голову. Он уже не считал себя вправе командовать.
Одного за другим я заставлял вилланов раздеваться донага и придирчиво осматривал их. И не находил ничего подозрительного. Затем пришел черед и де Грассанов. Они тоже разделись донага и тоже оказались чисты. Никто не испытывал стыда по поводу своей прилюдной наготы, будь то мужчина или женщина – так было нужно. Да и кому придет в голову похотливо смотреть на ту, которая, может быть, несет в себе страшное чумное семя? И для меня, и для стражников, меня сопровождавших, обнаженное женское тело было лишь возможным распространителем заразы, но никак не источником наслаждения. За годы чумы мы видели множество обнаженных женских тел – прекрасных, юных, идеальных и в любое другое время невероятно, до безумия желанных. Но ни разу в нас – и в данном случае я могу отвечать не только за себя – не шевельнулось мужское начало.
– Вы и ваши спутники чисты, кавалер, – сказал я, закончив осмотр. – Вам повезло.
– Я приказал покинуть наши земли, оставив там еще живых людей, – он снова уставился в землю. – Живых, но зараженных.
– Очень вовремя, – похвалил я.
– Там остались полторы сотни крестьян, моя жена, мать и оба сына, – глухо сказал он.
– Кавалер, – сухо проговорил я. – Я не буду выражать вам сочувствие. Во мне его не осталось. Я скоро закончу осмотр и пойду сжигать трупы погибших. Потом отправлюсь на Орлеанскую дорогу – там тоже, верно, немало умерших, которых необходимо сжечь. И все это длится уже больше года. Единственное, что я могу вам сказать – вы все сделали верно. Но вы, кажется, говорили, что с вами ваша дочь. Где она? Я ее не вижу.
– Женевьева с утра пошла прогуляться по лесу, – сказал он. – Она совсем еще ребенок. Шестнадцать лет.
Мне не понравился ответ. Отцовская любовь не такая слепая, как материнская, но тоже способна на хитрость. Например, отправить зараженную дочку в лес, пока не закончится осмотр. Авось доктор, не нашедший никаких симптомов у десятерых, одиннадцатого не больно-то искать станет.
– В какую сторону она пошла? – резко спросил я.
– Туда, – де Грассан довольно безразлично махнул рукой куда-то вправо. И это безразличие тоже показалось мне подозрительным.
– Отведите их к заставе! – приказал я стражникам. Если мои подозрения окажутся верными и дочь будет заражена, отец и его люди могут затеять драку, а я не хотел этого.
Стражники и де Грассаны направились к толпе, ожидающей разрешения на вход в город, а я пошел в лес – в ту сторону, куда указал пришелец из Шампани.
Весеннее буйство красок так не подходило ко всеобщей атмосфере ожидания смерти, что становилось страшно за собственный рассудок. Но оно подходило Женевьеве де Грассан, девушке шестнадцати лет от роду, которая сама казалась неотъемлемой частью весны.
Я увидел ее издалека – она бродила между деревьев, время от времени обрывая цветы с диких яблонь и нюхая их, и постоянно что-то мурлыкала себе под нос. Если ее и трогало то, что творилось в мире, то не в данную минуту. Сейчас она была абсолютно счастлива, потому что полностью слилась с природой.
Я смотрел на нее во все глаза и не мог сдвинуться с места. Все – и чума, и врачебный долг – отошло куда-то на второй план. Я отдавал себе отчет в том, что ничего похожего со мной прежде не случалось. И я отдавал себе отчет в том, что это любовь.
Сколько продолжалось мое оцепенение – не знаю. Но пришло время, и я сбросил его, сделал шаг вперед и позвал:
– Женевьева де Грассан!
Девушка замерла на мгновенье, потом повернулась ко мне и спросила:
– Кто вы?
Вопрос был странный, если не сказать – чудной. На мне были костюм и маска, говорившие о том, кто я, лучше всяких слов. Видимо, слишком далеко от этого мира унеслась она в своих мыслях, чтобы сразу вернуться в реальность. Я сделал на это скидку. И постарался ответить как можно мягче:
– Я лекарь в этом городе. Только что я осмотрел ваших спутников. Они чисты. Теперь я должен осмотреть вас. Подойдите ко мне и… снимите одежду.
Впервые с начала поветрия я запнулся, произнося это. И здесь тоже чувствовалось знамение. Но иначе было нельзя, и девушка понимала это. Она медленно приблизилась и стала разоблачаться. Краска стыда залила ее лицо. Я уже давно не видел, чтобы люди смущались при досмотре. Была ли тому виной ее недавняя расслабленность, или же она почувствовала мой вовсе не врачебный интерес к ней – не знаю.
Я внимательно осматривал ее еще девичье угловатое тело, а перед глазами плыл туман. Из-за него осмотр занял вдвое больше времени, чем обычно уходило на человека. И я от души благодарил небо за то, что на мне маска и широкополая шляпа, ибо знал, что лицо мое пылает от восторга и смущения.
Девушка была чиста. Вряд ли я что-нибудь упустил, даже несмотря на туман перед глазами. Просто не мог себе этого позволить.
– Вы не заразны, – вынес я свой вердикт. – Одевайтесь и следуйте за мной.
Женевьева повернулась ко мне спиной и принялась возиться с многочисленной одеждой. Я в изнеможении уселся под небольшим дубом и с тоской посмотрел вверх.
По голубой глади неба медленно плыли полупрозрачные белесые облачка. Они были редки, и только подчеркивали прелесть весеннего дня. И, возможно, пытались намекнуть, что сейчас самое время любить, что мое нынешнее чувство – вовсе не случайность, а, скорее, закономерность. Предопределение. Но зачем, о небеса, посылать такое чувство в такую годину?! Неуместно. Цинично. Кощунственно, наконец!
– Я прожил большую жизнь, – неожиданно для самого себя проговорил я усталым голосом. – И ни разу еще не видел такой великолепной, такой прекрасной весны. Природа сошла с ума. Но это хорошее сумасшествие.
Она на секунду прекратила одеваться и даже повернула голову в мою сторону. Но, приметив, что я сижу, прислонившись спиной к дереву и совсем не смотрю на нее, продолжила свое дело. Молча.
Я терпеливо дождался окончания процесса, встал и направился в сторону карантина. Женевьева шла за мной. За весь путь не было сказано ни единого слова, но я чувствовал, что она буквально сверлит взглядом мой затылок.
Передавая ее отцу с рук на руки, я сказал:
– У вас очень красивая дочь, кавалер. Берегите ее, коль скоро даже смерть ее стороной обходит. У нее нет заразы.
Де Грассан молча поклонился, взял Женевьеву за руку и отошел к группе своих спутников. А я пошел довершать осмотр.
В эту ночь, как и во все предыдущие с момента пришествия Черной Смерти, я почти не спал. Но на сей раз мне мерещились не горы черных вспухших трупов – до самого утра меня преследовал образ девушки с гривой светло-каштановых волос, бродящей среди цветущих деревьев. Если бы я был художник, клянусь – я написал бы холст и назвал его «Весна». Потому что именно так где-то на подсознательном уровне и представлял ее себе.
Но я не был художник, я был лекарь. И любой художник вскипающей Эпохи Возрождения раскритиковал бы ее внешность. Образ Женевьевы нельзя было назвать безупречным. Длинноватый для тогдашнего идеала нос, более полная, чем нужно бы, нижняя губа, слегка выступающий вперед подбородок. Этот самый любой художник нашел бы еще массу изъянов, и с легкостью доказал, что в натурщицы девушка не годится. Однако для меня она была магически притягательна.
Но следующая наша встреча состоялась только через три дня. Я вернулся с Германской заставы и сразу отправился в серную баню вместе с теми, кого допустил в город. Осматривая беженцев, легко самому подцепить болезнь. И мне каждый день приходилось париться в смрадном чаду, смывая не только возможную заразу, но и толстый слой свиного жира с камфарой, которыми я обмазывался с утра.
Де Грассаны словно поджидали меня. Они, все втроем, топтались на тротуаре напротив бань. Но нет – здесь находился постоялый двор, на котором они остановились.
Я много передумал за эти три дня. Я решил, что любовь в такое время мне не нужна. Кончится моровое поветрие – видно будет. А потому я твердо вознамерился пройти мимо. У меня бы получилось, потому что я чувствовал себя почти смертельно измотанным. Но был остановлен голосом кавалера.
– Добрый вечер, доктор, – сказал он.
Пришлось остановиться. Хотя бы из вежливости.
– Добрый вечер, господа.
И, говоря это, я смотрел вовсе не на кавалера, но на его дочь. И она под моим пристальным взглядом потупилась и залилась краской. Хотя не сказать, чтобы ей это было неприятно. Во всяком случае, в глазах я заметил лукавые искорки, да и выражение лица отнюдь не выказывало отвращения.
– Как прошел день? Вы сегодня, вижу, без маски. На карантинах затишье?
– Если бы! Все, как всегда. Две заставы в день. И не видно конца-краю. Устал, конечно. Но привычно. Я уже больше года такого распорядка придерживаюсь. А что маски нет – так она в будке у стражников осталась. Мы постоянно там одежду оставляем – запах от нее, что в аду, не к ночи будет сказано. Я отмывался в банях – доктора тоже подвержены заразе.
И мы еще полчаса тешили себя светской болтовней – ощущение, почти забытое в эти страшные годы. А закончилось все тем, что кавалер, сам того не желая, решил мою судьбу. Он пожаловался на большую скученность народа на постоялом дворе. Дескать, недолго и до беды в таком столпотворении. Я вынужден был согласиться, что он прав – стоит мне проморгать и пропустить хоть одного чумного, и город вымрет.
– Завтра же схожу к градоначальнику. Пусть думает, куда людей расселять. В городе всего три постоялых двора, и все забиты. Нужно, чтобы горожане беженцам приют давали. Иного выхода не вижу.
– Мудро, – кавалер посмотрел на меня с уважением. – При таком положении дел остановить заразу будет много проще.
Я задумчиво посмотрел на него и сказал:
– А знаете что, де Грассан? Я, как доктор, должен во всем подавать пример в такие времена. А потому – собирайте-ка вы свои вещи (хотя, какие у вас могут быть вещи? Заговариваюсь; устал) – и перебирайтесь ко мне. Дом у меня просторный, десяток человек вместит.
Кавалер заикнулся было, что это не вполне удобно, но я настоял. Мне понравилась идея поселить Женевьеву рядом с собой. Коль скоро, вопреки моему решению, небо решило вновь свести нас, почему я должен противиться?
С этого самого вечера я получил возможность любоваться красотой юной госпожи де Грассан ежедневно. И не пренебрегал этим. Через некоторое время я понял, что меня, как и многих в эту страшную эпоху, тоже постигло безумие. Но мое безумие было приятным.
Наверняка Женевьева чувствовала, как я к ней отношусь. Но, поскольку избегать меня попыток не предпринимала, я предположил, что и ее устроило бы дальнейшее развитие отношений. И я испросил ее руки и сердца.
Де Грассану показалось немного досадным, что мужем его дочери – хоть захудалой, а все же дворянки – станет простой лекарь. Пусть даже первый после Бога в это жуткое время. Но, будучи человеком разумным и в значительной степени справедливым, чваниться он не стал, и отказа я не услышал. Тем приятнее ему было впоследствии узнать, что его зять закончил Сорбонну и является младшим отпрыском хотя не самой знатной, но столь же славной фамилии, что и сам шевалье.
Женевьева стала моей женой в конце лета. Начались счастливейшие годы моей жизни. И, как доброе знамение, вскоре затихло моровое поветрие, были сняты карантины и люди свободно могли идти, куда хотели. Ушел и кавалер со своими вилланами. Остались мы с Женевьевой, да наше десятилетнее счастье.
Страшная болезнь чума. Ей нет дела до человеческих чувств, до любви и ненависти. Она не щадит никого. Она с одинаковой легкостью забирает с собой и грешников, и праведников.
Страшная болезнь – чума. Ее второго прихода не ждал никто. Слишком свежа была в памяти жуткая жатва 1348-49 годов. Еще не совсем прошла подозрительность к пришельцам.
Моя жена умерла в конце лета 1363 года. В числе первых. Мы с опаской относились к чужакам, а заразу притащили крысы, которых в тот год развелось видимо-невидимо.
Я снова лишился рассудка. На сей раз – от горя. Я толком не помню, что делал и как пережил то второе пришествие Черной Смерти. Знаю только, что не стремился его пережить – напротив, после ее смерти мне хотелось последовать за ней.
Помутнение разума – плохой друг ясной памяти. Но я точно помню, что, увидев ее труп, весь в черных пятнах, я схватил нож и, вне себя от горя и гнева – как могла она умереть, ведь мы любили друг друга! – пронзил ее сердце, а потом этим ножом изрезал себе правую руку. Но чума не пришла за мной, как за ней.
Она не захотела брать меня и после, когда я, уже не предохраняясь, бродил среди беженцев, тыкал пальцем в набухшие бубоны и ворчал, что этот – заразный. И когда я голыми руками складывал трупы в кучу, чтобы запалить очистительный костер. Но все это было как во сне. Страшном сне, который продолжался еще лет десять, пока меня не убили в пьяной драке на том самом постоялом дворе, что некогда приютил семейство де Грассанов с их людьми.
Но из этого страшного полубредового состояния я вынес одну из самых трудных магий – магию связанных сердец. Сродни спиритизму, но, в отличие от него, позволяющую не только беседовать с умершими, но и проникать в потусторонний мир. Женевьевы там не было.
Сейчас-то, собранный разумом и памятью воедино, я понимал, отчего чума брезговала мной. Вечный папирус Пта. Жрецы египетского бога могли налагать десятка три заклятий, которые невозможно было ни снять, ни отменить, пока существует тело. Они налагали на умерших фараонов заклятие нетленности, и только после этого бальзамировали. Я тоже был жрецом Пта и, пользуясь случаем, наложил на себя пару десятков заклятий – те, что, по моему мнению, были нужны. Среди них – от чумы и от огня. Трижды меня сжигали на кострах инквизиции, и очень удивлялись, почему я не сгорал. Два раза мне удавалось воспользоваться замешательством палачей и сбегать, когда перегорали путы, в третий раз мне всадили стрелу в грудь, едва я вышел из огня.
Но все это было – и жреческое служение, и тройное аутодафе – до или после Черной Смерти. А те страшные годы подарили мне самое светлое – Женевьеву. За три с половиной тысячи лет, что я провел на свете, за все то множество жизней, что были прожиты мною, я много раз любил. Да и странно, будь это не так. Я дрался из-за женщин на турнирах и дуэлях; я устранял соперников с помощью магии или простым подкупом наемных убийц; я похищал их и платил за них огромный калым. Я вел себя, как обычный человек, не гнушающийся страстей и пороков. Мне много раз доводилось переживать и смерть любимой, и ее измену. Я терпел и боль, и тоску, и разочарование. Но все это – в прошлых жизнях. Теперь же, когда во мне вдруг собрались все три с половиной тысячелетия, я понял, что настоящая боль – лишь та, которую довелось пережить в страшные годы Черной Смерти. И единственная любовь двух сотен моих жизней – это Женевьева, девушка-весна.
* * *– Да, – повторил я, разглаживая шрамы на правой руке. – Страшная болезнь – чума.
– Что это вы все о грустном? – поспешил влезть в образовавшуюся паузу Копер. – Вам сейчас раскисать нельзя. Скоро придет Доктор (он сейчас с Сириусом беседует), очнется Мудрец, и поговорим серьезно. Нам есть, о чем рассказать, а вам есть, что послушать. Не думаете же вы, что за просто так прожили столько жизней? Вы должны исполнить Предназначение. Наша с Доктором миссия сегодня закончилась. Как и лента Мебиуса…
– Что за лента такая? – недовольно прогудел Леонид. – В который раз про нее слышу, а понять не могу – откуда, что…
– Это мы для удобства ее лентой Мебиуса называем, – объяснил большеголовый. – Потому что структурная модель та же. Вот и пользуемся терминологией людей – все-таки, среди них живем. А строго говоря – это путь, по которому развивается все человечество. И даже, наверное, мироздание… Ну, это вам долго придется объяснять. Так что пользуйтесь пока этим названием – лента Мебиуса. И баста! – Он хохотнул и указал на лежащего Мудреца: – Умный все-таки был мужик. Доказал, что двухмерная поверхность может быть односторонней. Не даром философ. Сократ!
– А я – Собака Диоген, – радостно хрюкнул Лонгви. – Такой же философ, не лучше и не хуже.
– Ты не философ, ты циник, – раздался голос Доктора. Он, видимо, уже успел наобщаться с Сириусом и поспешил присоединиться к нашему обществу. Открыл дверь и услышал последнюю фразу Лонгви. – Ты всю жизнь играл – деньгами, чувствами, людьми. Даже твои разговоры с Македонским – не больше, чем игра. При том, что ставка в ней была – твоя жизнь. Твой цинизм, дорогой Лонгви, очень часто – махровый цинизм. А от такого большинство людей просто воротит.
– Ты меня почти убедил, – проворчал Лонгви. – Я сейчас буду долго и нудно плакать, потом пойду искать пятый угол. Потому что больше мне в этой жизни, видимо, ничего не светит. Только ты мне скажи – его «Женись обязательно; попадется хорошая жена – станешь счастливым, попадется плохая – станешь философом» – это не есть махровый цинизм?









