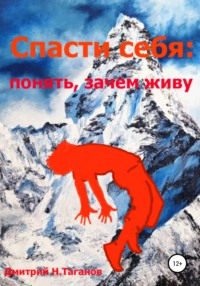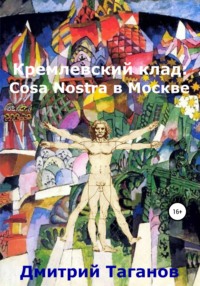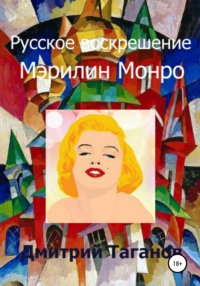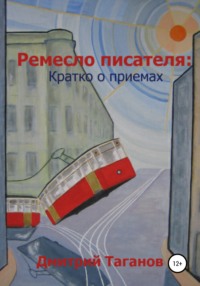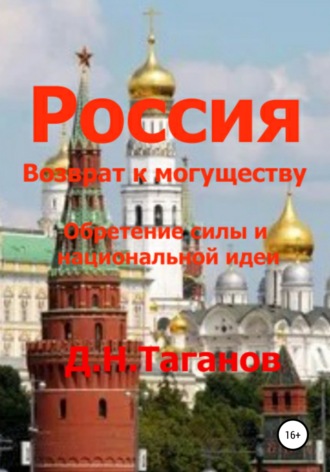 полная версия
полная версияРоссия – возврат к могуществу. Обретение силы и национальной идеи
Народное хозяйство, где наибольшее значение уделялось «валу», т.е. количеству продукции для насыщения спроса, всегда превышающего предложение, при гнетущем страну тотальном «дефиците», могло успешно функционировать и в режиме государственного капитализма и административно-командной системы. «План», «вал», «трудовая дисциплина» – были общими законами государства, нарушение которых строго наказывалось, в критические времена даже лишением свободы.
Это успешно «работало», страна восстановилась, победила в войне и вновь восстановилась – на тех же производственных принципах и стимулах к труду: «все у нас общее», то есть государственное, и «кто не работает, тот не ест». Принуждение к труду было всеобщим. С 30-х до конца войны неоднократно опоздавших на работу судили и «сажали». Позже за «тунеядство», т.е. за «отлынивание от общественно полезной работы» судили и отправляли на работы в отдаленные районы страны. Известный пример этому ссылка на работы за «тунеядство» знаменитого впоследствии поэта, Нобелевского лауреата Иосифа Бродского.
Однако вскоре после аврального восстановления после войны экономика перестала развиваться, и страна незаметно вошла в «застой». С 70-х годов плановые пятилетки и семилетка развития страны уже ни разу не выполнялись, что, как всегда, умалчивалось. Сельское хозяйство после революции всегда, мягко выражаясь, «хромало» и вызывало «головную боль» у руководства, но теперь стало считаться вообще «черной дырой», куда бесполезно утекала валюта, вырученная от продажи нефти.
Бригады «шабашников», в основном приезжих из союзных республик, строили по деревням «Нечерноземья» коровники, «халтурные» по качеству, но «золотые» по себестоимости. Ничего не помогало: подневольный труд ни в колхозах, ни в совхозах не порождал изобилия, даже отдаленно похожего на «западное». Продуктов питания не хватало, страна не могла достигнуть самодостаточности, достойной «супердержавы». С середины 60-х годов приходилось уже импортировать пшеницу и прочие зерновые. Как злорадно удивлялись западные наблюдатели: «И такое происходит в стране, которая до революции кормила хлебом всю Европу!». Действительно, это было для всех неожиданно. Пришлось даже элеваторы и погрузочную технику в Новороссийском порту срочно переделывать из традиционно экспортной системы отгрузки пшеницы в систему для приема пшеницы из-за рубежа.
Плановая экономика с ее трудоемкими расчетами «всего и вся», стремившаяся согласовать на годы вперед производственные возможности, с одной стороны, и потребности хозяйства и населения, с другой, способна была, как всегда, «с горем пополам» удовлетворять только базовые потребности страны. Дефицит ощущался практически по всем товарным позициям и продуктами питания. В очередях в магазинах люди теряли по несколько часов ежедневно. Если в крупных городах, столицах республик, власти еще старались поддерживать видимость изобилия, то в областях, в поселках и деревнях на полках магазинов можно было видеть, чаще всего, только «дежурные» соль, водку, некоторые крупы, рыбные консервы, макароны и хлеб. Автор этих строк, выезжавший в начале 80-х годов в командировку в город Ереван, столицу союзной Армении, был поражен очередью в продуктовый магазин с хвостом на улицу на десятки метров. На вопрос: «Что дают?» получил ответ: «Сливочное масло».
Тем не менее еще при Ленине переход от «военного коммунизма» к НЭПу, высвободивший корыстный инстинкт личного обогащения частным предпринимательством, моментально дал эффект и заполнил рынки и полки магазинов. Но для современных партийных владык, победителей и авторов «Развитого социализма», завершение постройки которого они официально объявили на съезде своей партии, малейшее отступление от марксистко-ленинской догматики казалось преступлением.
Естественная мотивация частного производителя – корыстный или тщеславный интерес в получении наибольшей прибыли, ради которой он проявляет организационные чудеса, – при советском социализме заменилась партийным понуканием. Партийные ячейки и парткомы, созданные во всех учреждениях и предприятиях (государственных, иных не было), ведомые десятками тысяч райкомовских инструкторов, теребили, требовали, угрожали исключением из партии, потерей постов, уголовным преследованием, зачислением в «враги народа», что наводило на всех страх. Но страх – негодная замена предпринимательскому порыву и заинтересованному труду. Однако и страх, подстегивавший тружеников, раньше «работал», страна развивалась, но только на раннем, «примитивном» этапе развития промышленности и сельского хозяйства, когда главными были «план» и «вал», а полки в магазинах были пусты, и Красная армия остро нуждалась в вооружении.
Все в мире резко и навеки изменилось с середины 50-х годов, с началом «научно-технической революции – изменилось в мире, но не в СССР. Не в мировой коммунистической системе зародилась и развилась научно-техническая революция. Лишь свободное предпринимательство, подкрепляемое корыстным интересом, тяга людей к самореализации могли породить лавину технических новаций, изменивших мир во всех областях – в экономике, в обыденной жизни, в культуре. СССР безнадежно отставал во всем. Это проявлялось не только в быту советских людей, лишь понаслышке знавших о жизни за «железным занавесом», но сказалось и на авторитете страны. Всем становилась очевидной неспособность коммунистической системы дать людям современные блага и свободы.
Тем временем личные автомобили, комфортабельное «отдельное» жилье, удивительная по тем временам бытовая техника становились нормой жизни в западных странах, даже недавно разрушенных войной и «побежденных» в ней. В то же время у нас люди ютились, в большинстве, в коммунальных квартирах, а за вожделенным личным автомобилем, стоившим более пятилетней годовой средней зарплаты, стояли в очереди по десятку лет. Автор этих строк, встав на очередь на автомобиль «Запорожец» в 1972 году, получил его по очереди только в начале 1980-х. Полки магазинов даже в крупных городах были полупусты, все продавалось только с длинными очередями. Немногочисленные импортные товары, исключительно из стран «соцлагеря», т.е. из стран содружества «стран народной демократии», а также дефицитные продукты питания (в городах – колбасы, рыбные копчености, консервированные фрукты и т.д.) продавались трудящимся на производстве и в учреждениях в виде «наборов» или «заказов», чаще всего, к большим праздникам. Мера была вынужденная, т.к. ничего «дефицитного» после работы в конце дня трудящимся в магазинах уже не доставалось.
К 80-м годам неспособность безраздельно правящей коммунистической партии вывести страну из нескончаемых проблем стала очевидной. Народ все болезненнее воспринимал свою бедность, общую несвободу, границы «на замке», лживость пропаганды СМИ. Вот примеры лозунгов многометровыми буквами на крышах домов: «Слава КПСС!», «Народ и партия едины!», «Все ради человека, все на благо человека!», «Советское – значит отличное», «Партия – наш рулевой», «Партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи», «Ленин с нами». Эти лозунги начали вызывать только усмешку и раздражение. Ведь генсек Никита Хрущев уже пообещал коммунизм в начале 60-х годов: «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме!». Но вместо обещанного коммунизма, ленинского «рая на земле» в 80-х годах, как и прежде, в магазинах были полупустые полки, длинные очереди, во всем неискоренимый «дефицит», а «коммунистический быт» – в тесных общих, «коммунальных» квартирах.
Однако явные протестные настроения широко не распространялись в народе, хотя и случилось восстание рабочих в Новочеркасске, с расстрелом и жертвами, затем засекреченное. В основном среди людей разливалось нечто похожее на разочарование и апатию. Ведь все-таки был мир, а это после страшной войны казалось великим достижением и «заслугой» руководства. Люди были более-менее сыты, продавался необходимый ширпотреб. Безработицы, как за рубежом, в советской стране «принципиально» не существовало, о чем трубили СМИ. На улицах люди не ночевали, как в «западных» городах: государственное жилье было у всех, – чаще общее, коммунальное, но было. Начали строить и раздавать бесплатно «остро нуждающимся» отдельные квартиры, позже появилась возможность в некоторых городах купить отдельную «кооперативную» квартиру. Народ, отвыкший за 70 лет от дореволюционного «съестного» изобилия, от политических свобод, наоборот, свыкшийся с равенством в бедности и беде, не имея возможности сравнить свою жизнь с «западной», воспринимал свое существование со спокойным равнодушием. И действительно, это был тот случай, когда протест и восстание ради большего «комфорта» народ инстинктивно понимал как ошибочные, ведущие только к ухудшению положения. Потому что только разлитое в народе понимание действительной опасности ситуации, стремление к восстановлению сопротивляемости этноса и его Силы способно подвигнуть его на революционный хаос и последующие лишения. Именно это случилось в феврале 1917 года, когда народ совершил революцию самостоятельно, неожиданно и без участия политических партий, работавших над этим десятилетия, даже к большому их изумлению.
При нарастании общего глухого недовольства в народе, явных протестных акций заметно не было. Бывали единичные «видимые» проявления «антисоветских», как это тогда называлось, настроений, но только в столице и крупнейших городах. Случались немногочисленные «пикеты» с плакатами на Красной площади, которые моментально подавлялись дежурившими агентами КГБ. Очень редко доходили слухи, что где-то арестовали «антисоветчиков», как это произошло с небольшой компанией студентов в Ленинграде в середине 60-х.
Неоднократно происходили попытки вырваться на «свободу», за границу, с захватом пассажирских самолетов. Из-за невозможности замолчать, в газетах приходилось это сообщать. Сообщили о неудавшейся попытке угона «сионистами» небольшого пассажирского самолета в Ленинграде. Другой широко освещенный в печати случай – трагический. Пассажирский лайнер был захвачен с применением оружия группой музыкантов – братьев и сестер с их матерью. То был широко известный в стране семейный джазовый самодеятельный ансамбль «Семь Симеонов». Самолет штурмовали на летном поле. Несколько музыкантов и их мать погибли, остальные члены семьи были судимы и получили сроки.
Когда становились известны такие случаи «неповиновения» и «антисоветских выходок» народ в целом относился к этому сочувственно, с любопытством, однако и с внутренней усмешкой. Прочие широко распространенные в народе «акты неповиновения»: сочинение и пересказ политических анекдотов (за которые после смерти Сталина уже «не сажали»); чтения в «интеллектуальных» кругах размноженных копий зарубежных изданий «диссидентов»; прослушивание прорывающихся в эфире сквозь «глушилки» радиопередач «вражеских» станций «Свобода» и «Голос Америки», включая любимый многими ежедневный «Джазовый час»; и, конечно, нескончаемые «политические» беседы среди своих. При таких разговорах бывалые люди всегда включали громкое радио, опасаясь «прослушки». Более сильных протестных акций «в народе» не наблюдалось.
Представление об общем эмоциональном состоянии «советского общества» в последние десятилетия его существования может дать следующая невеселая миниатюра, написанная автором этих строк в конце 70-х годов для своих друзей, без всяких надежд и попыток ее опубликовать.
«Тошно?
Дождливое, темное, как ночь, утро, когда чтобы проснуться смачиваешь из водопровода затылок, – с этого начинается новый день. Скорей, скорей – тебя ждет работа! Скорей, скорей – тебя ждут на автобусной остановке! Там много людей хотят втиснуться с тобой в автобус и ехать. Скорей!
В автобусной толпе, прижавшись к мокрым от дождя спинам и рукавам твоих ближних, первое время ты еще сохраняешь свою индивидуальность: с кем-то борешься, толкаешься, огрызаешься. Но не долго. Стиснутый, сонный и злой ты успокаиваешься. Тебе плохо. В полусонном сознании ты стараешься разыскать что-нибудь светлое, какую-нибудь радостную соломинку, чтобы ухватиться в это унылое утро. Но тщетно. И, зажатый, лишенный всякой свободы, ты смирнеешь, покоряясь своей жалкой судьбе.
Но обмякнув, расслабив мускулы, ты почему-то не падаешь, а сохраняешь свое место в автобусном коллективе. Десятки таких же, как ты несчастных, безвольных, с расслабленными телами мерно качаются в такт Великому Движению и поддерживают тебя в своем теплом студенистом теле. Товарищ, ты не один – нас много! Таких же пассажиров этой железной клетки на колесах. Нам тоже плохо, но мы молчим. Молчим и полуспим, расслабив мускулы своей воли. Здесь сыро, тошно, но хоть тепло всем вместе. И думать не надо – ведь нас везут. Как куда? На работу! Ах да…
Ты закрываешь глаза, не желая бодрствовать, и хочешь увидеть прекрасный сон. Но этого здесь нельзя, тебя что-то сдавливает с боков, непреодолимая сила, как морской вал, вращает безвольное тело, несет к стенке и, ударив о ящик кассы, оставляет в покое.
Остановка. Новые пассажиры с лицами завоевателей врываются в узкие дверцы автобуса, утрамбовывают поникшее автобусное население. Они энергичны, эти новые пассажиры, на их шляпах блестят свежие, еще не впитавшиеся капли дождя, в их глазах надежда. Плечами, торсами, всей молодой мускулатурой они ищут себе пространство. Это тебя раздражает. Ты ведь теперь все знаешь про этот автобус: здесь нет пространства, здесь нет никакой свободы, здесь только тесно и тошно. Ты хочешь сказать им об этом, но молчишь…
«Двери закрываются, оплатите проезд!» – ты вздрагиваешь от этого нечеловеческого голоса с жестяного автобусного неба и поспешно шаришь в кармане. Он здесь, твой билетик-комочек, но тебе было на миг страшно…
Двери закрылись, и ты снова качаешься в коллективном такте. Но вдруг кто-то там, у самой двери вдруг подал голос, – может быть, его сдавило больше других или из дверной щели поддувает свежестью. Он кричит: «Подайтесь вперед! Что стали-то!». Выгибается дугой, пуговицы на себе не жалеет – хочет протолкнуть толпу вперед. Но здесь этого нельзя. Автобус – жесток, не из резины, а двери закрыты…
И снова едешь… Твой ближайший сосед, что из новеньких, уже тоже расслабился, и его тело мирно качается вместе с твоим. Капельки дождя на его плечах уже утратили свежесть и прохладу, превратились просто в тепловатую сырость. Он тоже все понял, закрыл глаза и спит. А тот, что у дверей, тоже все понял, да не спит. Двери он разжимает, нет для него тут места, да и не по пути.
А ты все спишь… Не тошно?
Д.Т., ноябрь 1977 г.»
Как ни странно может показаться, в народе одновременно было разлито и горделивое чувство своей значимости, даже превосходства. При общей материальной и бытовой отсталости советского общества, воспринимаемой уже почти как неизбежная норма, в послевоенное время властями настойчиво пропагандировалось и внедрялось в сознание людей чувство государственной мощи. Повсеместно народу прививалась гордость за свою страну. Безусловно, это было вполне заслуженным и естественным чувством после победы в Отечественной войне, а затем послевоенных успехов в создании «ядерного щита» страны и, наконец, блестящих успехов в космической области: запуска первого в мире искусственного спутника Земли, создание первой в мире космической станции и т.д.
Успехи широко освещались СМИ, разъяснялись пропагандистами и лекторами на производстве в обеденные перерывы. Главные государственные праздники (День Октябрьской революции и День Победы) праздновались всегда с величественным размахом, с грандиозными военными парадами и салютами.
Это воспитывало и укрепляло в советском народе гордое чувство своей силы, значимости, мощи великого, «на 1/6 часть суши», государства. Так воспитывались граждане Советского Союза уже несколько поколений – учителями в школе, преподавателями в ВУЗах, лекторами на производстве и в селе, инструкторами на партсобраниях.
Поэтому советский народ в целом всегда ощущал свое превосходство над большинством народов прочих стран. Лишь одну страну он в глубине души признавал себе «ровней» – Соединенные Штаты Америки. Прочие страны воспринимались либо как «побежденные» в минувшей войне, поэтому с внутренней снисходительной усмешкой, либо как «подчиненные» – примкнувшие к СССР «младшие братья», союзники по военному Варшавскому договору. В 60-70-х годах кроме этих и не было в мире стран, заслуживающих серьезного внимания советского народа-победителя.
Здесь следует отметить, что, несмотря на постепенно растущее недовольство населения бытом и «свободами», при подобном чувстве собственного достоинства, и даже превосходства, революции никогда не свершаются. Чувство никогда не обманывает народ. Если он действительно «силен» своим государством, то никакие приманки или призывы к «лучшей жизни», как бы к большим «комфорту» и «свободе», никогда не смогут подвигнуть народные массы на серьезный протест и восстание.
Положение стало заметно меняться в 80-х годах. Отставание СССР по уровню жизни населения становилось всем очевидным. Скудный выбор продуктов питания, бедные ассортимент и качество отечественных промтоваров, «дефицит» всего импортного, недоступность без очередей или «блата» автомобилей, холодильников, цветных телевизоров и т.д. – резко контрастировали с качеством товаров, привозимых из-за рубежа командированными, и даже с видом и «запахом» приезжавших с Запада туристов.
Среди части молодежи широко распространилась «фарцовка» – покупка у приезжих иностранцев модной одежды, жевательной резинки, сигарет и прочих недоступных в стране вещей. Эти товары стали предметом вожделения советской молодежи, и покупались ими, если удавалось, за любые цены. Власти преследовали эту «спекуляцию», «фарцовщики» получали значительные сроки лишения свободы. Широко освещался случай с «валютчиком» Рокотовым, «взятом» на скупке валюты у иностранцев. Генсек Н. Хрущев тогда пошел даже на ужесточение задним числом закона об ответственности за валютные операции. Рокотова судили и неожиданно для всех, и него самого, приговорили к расстрелу.
Постепенно в душах многих советских граждан горделивость за мощь и победы своей страны стала разбавляться «комплексом неполноценности» перед странами Запада – по внешним признакам «процветающими» в сравнении с советским населением, вопреки лживым утверждениям пропаганды.
Уже с 70-х годов стал падать в народе авторитет партийных властей и советских руководителей. Народ начал с недоверием и иронией воспринимать партийные призывы и «почины». Никто уже всерьез не верил обещаниям построения «коммунизма», о котором теперь даже не упоминалось с высоких партийных трибун. Однако и в достигнутом «развитом социализме» всем была очевидна общая «бесхозяйственность», «головотяпство», «разгильдяйство», полная неэффективность советской системы хозяйствования. Распространилось настроение, метко выраженное присказкой: «Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем».
Экономическое состояние страны в середине 80-х годов резко и внезапно ухудшилось. К обычным проблемам в экономике, особенно в сельском хозяйстве, неожиданно добавилась проблема нехватки валюты на закупку продовольствия. Это было вызвано внезапным резким падением мировой цены на нефть, которая оставалась практически единственным источником твердой валюты для страны. Цена нефти упала до 8-12 долларов за баррель. Как позже стало известно, падение нефтяных цен было спровоцировано США по договоренности со своим союзником, крупнейшим в мире поставщиком нефти Саудовской Аравией. СССР никогда не обеспечивал себя продуктами питания, поэтому падение нефтяных доходов грозило теперь и голодом. Так «победа» США в многолетней Холодной войне с СССР оказалась возможной и почти уже достигнутой с помощью лишь «бумажных» манипуляций на мировых товарных рынках.
Однако, несмотря на охватывающую СССР слабость и неминуемое приближение краха, результаты и последствия существования этой громадной и могущественной сверхдержавы для мира были огромны. Отметим только одно явление, которые было следствием переплетения сложных и трудных судеб народов СССР, однако в большей степени оно было естественным, чем сознательно осуществленным. Это перерождение их этносов. В республиках Средней Азии советский строй вывел кочевников и примитивных аграриев из феодальных отношений в современную, европейски-ориентированную цивилизацию. То же произошло с малыми народностями Сибири и Дальнего Востока. Русский же народ, претерпев основные тягости и беды насильственной коллективизации, ускоренной индустриализации, беспощадной Отечественной войны, вышел из них этносом-победителем, с глубокими внутренними чувствами собственного достоинства, силы и непобедимости.
Но суперэтнос с названием «Коммунистический мир» у большевиков не получился. Как и не осуществились их надежды на «мировую революцию». Действительно, во многих странах заигрывали с коммунистическими идеалами. Зарубежные коммунистические партии, финансируемые из СССР, имели некоторое влияние на политику своих стран, но демократическим путем ни одна из них во власть не вошла. Возродившийся из «пепла» и вековой нищеты Китай, с энтузиазмом взявший на вооружение коммунистические лозунги и идеи, был этносом, настолько далеким от российского, что общий коммунистический суперэтнос не образовался. В 60-х годах на фоне разногласий по оценке роли Сталина в развитии коммунистического движения между этими странами началось охлаждение, имели место пограничные боевые столкновения, затем последовало многолетнее отчуждение.
Однако с гибелью Российской империи, с изгнанием и эмиграцией миллионов соотечественников, (послереволюционной и послевоенной волнами), а впоследствии с развалом на части СССР в 1991году и с миллионами оставшихся за пределами России этнических русских, начал оформляться как целостность мозаичный суперэтнос «Русский мир». Его судьба теперь зависит от способности новой России вернуть себе былое мировое влияние и силу.
Но перед тем, как «союз нерушимый республик советских», как пелось в его гимне, окончательно разрушился и рассыпался, как карточный домик, партийной элитой была предпринята в конце 80-х отчаянная попытка его робкого реформирования. Разваливающаяся экономика, нехватка твердой валюты на самые насущные нужды, скрытая инфляция, выражавшаяся в хроническом дефиците, доступность качественных товаров только «из-под полы» или из «валютных магазинов», вынуждали руководителей из Политбюро срочно искать выход из кризиса.
Не смея ничего трогать из «ленинских заветов» в фундаменте советского государства, взоры партийного руководства обратились в сторону Китая. Коммунистический Китай уже 10 лет как «поступился» некоторыми марксистскими принципами и, следуя присказке «отца» своих реформ Дэн Сяопина «Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей», при помощи щедрых американских инвестиций и допущенного частного предпринимательства, демонстрировал невиданные результаты. Рост экономики Китая буквально «зашкаливал», превышая 12% в год, в то время как генсек «реформатор» М. Горбачев призывал свою страну к росту хотя бы на 4%, без чего – и он этого не скрывал, – страну ждали большие неприятности. Однако, судя хлебной очереди с длинным хвостом за дверью магазина, увиденной автором этих строк на главной улице Москвы (ныне Тверской), в стране тогда был не рост, а уже развивалась глубокая рецессия. Внешний долг увеличился за нескольких лет правления Горбачева в три раза, внутренний долг – еще более, но он никогда потом так и не был выплачен миллионам владельцев «сберкнижек». Даже если бы он и был возвращен, его бы сразу «съела» инфляция, достигавшая 90-х 2000% в год.
Вспоминая те дни, представляется, что недалекий, но оптимистично настроенный генсек Горбачев видел спасение своей страны в двух мероприятиях, вполне «революционных» для государства «развитого социализма» и психологии его руководителей.
Первое, обращение к ленинскому опыту начала 20-х годов введения в стране НЭПа, т.е. разрешения строжайше запрещенного уже 70 лет частного предпринимательства. Если при Ленине это оживило страну буквально «за ночь», то Горбачев ожидал, что это произойдет и теперь. «Ленинское наследие» было реанимировано в виде разрешения на организацию производственных и торговых «кооперативов». Однако при отсутствии у населения достаточных сбережений, капиталов, как у давно истребленных нэпманов, у которых имелся также опыт, теперь, при всеобщей государственной собственности, горбачевский НЭП открыл путь только кустарничеству и мелочной торговле на улицах. Одновременно хлынул поток криминала, мошенничества и коррупции. Ни о каком оживлении умирающей экономики в масштабе страны не могло быть и речи. Горбачевская «перестройка» оказалась мертворожденной.
От второго своего почина Горбачев ожидал немедленного успеха на международном поприще. Он был, по-видимому, давно убежден, что согласившись на «уступки» враждебному капиталистическому окружению, он моментально изменит их вечно враждебное отношение к советской стране. Будучи еще вероятным наследником кресла генсека, Горбачев ездил по приглашению в Великобритании, и очень тепло был принят премьер-министром Маргарет Тэтчер, знаменитой и хитрой «железной леди», сразу распознавшей в нем простака. Неизменную европейскую вежливость и обязательную благожелательность в личном общении, бывший комбайнер Горбачев принял за намеки и обещание будущего мира и согласия – только лишь СССР перестанет им угрожать, пойдет на уступки и «цивилизуется».