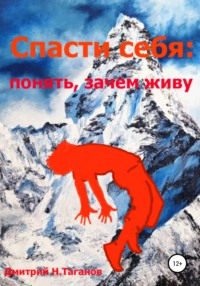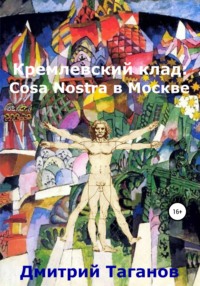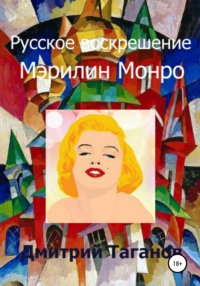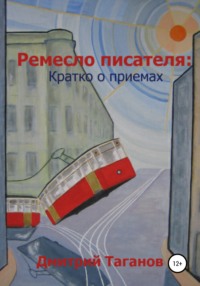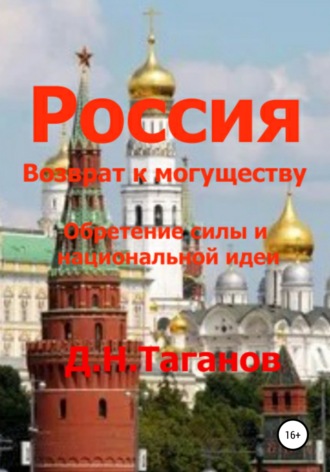 полная версия
полная версияРоссия – возврат к могуществу. Обретение силы и национальной идеи
Поэтому, думается, не безмерное тщеславие заставляло Сталина держаться за власть в партии и стране, а стремление не позволить врагам ослабить ее или вырвать из своих рук, наоборот, всеми мерами укрепить ее. Для такого пассионарного человека власть нужна была не для личного тщеславного удовлетворения. Но если согласиться, что Сталин был одним из самых пассионарных русских революционеров, то какова же была его архиважная цель, всю жизнь манившая его? Ради чего он всю молодость жертвовал свободой, благополучием в семье, многократно рисковал жизнью. Ведь только много позже, после Февральской революции, он стал подниматься по ступеням партийной иерархии, что могло, наконец, потешить его тщеславие.
Он не был теоретиком, имел поверхностное образование, хотя был очень начитан, не знал иностранные языки, имел физические недостатки, из-за чего его не призвали в армию. С раннего возраста он был увлечен идеями Маркса-Энгельса, однако, в упрощенной интерпретации товарищей по подпольной борьбе и ссылкам. Много позже, чтобы поднять свой философский теоретический уровень он пригласил к себе крупнейшего марксиста-философа того времени Яна Стэна. Однако вскоре занятия по гегелевской диалектике, проводившиеся два раза в неделю, были прекращены. Сталин объявил, что эти философские измышления не имеют к действительным проблемам никакого отношения. Ни теория, ни профессор не произвели на Сталина впечатление. В 1937 году Ян Стэн был арестован и по прямому указанию Сталина расстрелян.
Как и все большевики в дореволюционные годы, не исключая Ленина, Сталин был полон иллюзий о возможности скорого построения социализма по Марксу-Энгельсу, не только в России, а сразу во всем мире, с местными революциями как падающими костями домино. Но с каждым годом после октябрьского переворота всем, знакомым с действительным положением в стране, становилось ясно, что никакого «счастья» или реальной «свободы» русский многострадальный народ получить в скором времени не сможет. Русский народ, как и всякий другой, оказался более сложной сущностью, чем было прописано в теориях классиков. Когда революционная горячка прошла, страсти улеглись, и все должно было войти в колею, оказалось, что противоречия, желания и цели у разных групп людей слишком разные, чтобы вместе, мирно и послушно идти в общий коммунистический рай. Увещевания, популистские лозунги не помогали. Тем временем страна все глубже погружалась в послевоенную разруху. С тем же успехом можно было следовать призывам Льва Толстого, полагавшего решение всех проблем человечества в выполнении христианской заповеди любви к ближнему. Замечательная заповедь, но в жизни она неприменима как средство решения социальных проблем.
Чтобы не погибнуть от голода и разрухи, большевикам с Лениным во главе пришлось вернуться к капиталистическим «свободам» и частнособственническим стимулам, поступившись коммунистическими принципами. Введенный Лениным НЭП оживил крестьянство, хлеб начал поступать в города, заработала промышленность и товарный голод отступил. В результате советский рубль стал твердой валютой, выпустили серебряные рубли с изображением кузнеца с молотом и наковальней, и даже золотые червонцы. По-видимому, в результате этого шатания политики партии, Сталин пришел к выводу, что стране нужна, прежде всего, железная дисциплина. Пока ее нет, не будет никакого прогресса, не будет порядка и согласия, не будет достатка ни в деревне, ни в городе. Но главное, в стране не прибавится Силы: страна вновь падет под напором внешнего врага, как это случилось совсем недавно. Сталин по-своему понимал, как добиться нужной дисциплины и порядка. Стране нужен был страх. Не обещания скорого счастья и благостные ленинские лозунги, а животный страх.
Страх работал без осечек в недавней деятельности Сталина. Страх безошибочно воздействовал на крестьян в 1918 году, не желавших добровольно сдавать хлеб продотрядам. Тогда несколько расстрелянных «кулаков» решали дело, как и концлагеря в вопросах со спекулянтами и мешочниками. На фронтах гражданской войны в страхе перед децимацией – расстрелом каждого десятого из отступивших, что практиковал по образцу древних римлян верховный комиссар Троцкий, – солдаты проявляли «чудеса» храбрости. Наконец, только страх загнал крестьянство в колхозы, мигом сделав их управляемыми и смирными. Тех же из них, кого страх не пронял – расстреляли или выслали с семьями в Сибирь. Видимо, только страх каждого жителя страны, поможет сделать страну сильной. А без силы страна пропадет, и очень скоро. Страх и Сила – вот что было необходимо народу, чтобы добраться до своего счастья. Без этого страну ждет вечная разруха, нищета, а позже неминуемое рабство у нового завоевателя. Поэтому наступило время почувствовать страх каждому в стране, для его же блага. Отметалась марксистская мантра «Бытие определяет сознание», восходило грозное «Битье определяет сознание».
Если достижение государственной Силы и не было изначально сверхцелью пассионарного революционера Сталина, то именно это заместило собой «свободу» и народное «счастье» в сознании Сталина в сложившейся после 1933 года внешнеполитической реальности. Фашизм уже поднял голову в Германии. Гитлер определенно заявил в своей книге «Моя борьба» о ненависти к коммунистам и о притязаниях на русские земли. Когда он пришел к власти, став в 1933 году канцлером Германии, его речи наполнились еще большей ненавистью к коммунистической России, немецких коммунистов начали изолировать в концлагерях. Война, развязанная германским фашизмом, или его союзниками, уже полыхала в Маньчжурии, Китае, Абиссинии, Испании.
Скорая война для России была неизбежна. Это понимали все большевики, уверен в этом был Сталин. Соответствующее настроение распространялось и среди народа. Но враг в предстоящей войне еще не был установлен. Кроме Германии беспокойство вызывали и другие. Стычки с Японией пока радовали победами, но то были победы с кровью, в настоящих боях. Великобритания в лице премьера Чемберлена вела хитрую и подлую игру, подталкивая Германию на восток. Веками обиженная на Россию Польша постаралась бы тоже примкнуть к агрессору, чтобы поживиться чем-нибудь у своих границ.
Нет, народное «счастье» не могло пока состояться в России, и построение «справедливого» общества предстояло отложить на неопределенный строк. Стране нужна была теперь, прежде всего, Сила, только могущество государства. Сталин еще настойчивее устремился к этой цели – сделать страну сильной или, что вернее, успеть сделать сильной, пока еще оставалось какое-то время – всего несколько лет. Если не успеть, то выйдет так, как вырвалось у Сталина в минуты отчаяния в начале войны: «Все, чего добился Ленин и что он нам оставил, мы про… Все погибло».
Ситуация складывалась очень тревожная, но почему именно Сталин мог и должен был возглавить это движение к Силе? В партии были тысячи активных большевиков, плечо к плечу боровшихся с Лениным в подполье, взявших вместе с ним власть в Октябре, отстоявших ее в Гражданской войне. Однако среди них было мало влиятельных большевиков, кто мог бы претендовать на абсолютную власть, которая теперь была востребована, и которую массы большевиков одобрили бы и приняли.
Реально могли получить власть в партии, или, во всяком случае, имели право требовать ее, недавние «оппозиционеры», т.е. «левые» и «правые» уклонисты. Только они имели по-прежнему широкую поддержку среди большевиков в центре и на местах. Это была, в основном, легендарная «ленинская гвардия», «старые большевики».
«Левые» – Зиновьев, Каменев, и воссоединившийся с ними Троцкий – имели ореол славы ближайших соратников Ленина на всех критических этапах борьбы. Каждый имел множество заслуг, и находился теперь на ключевых постах, кроме изгнанного из страны Троцкого. Однако и авторитет Троцкого, как славного организатора октябрьского переворота, а затем комиссара победоносной Красной Армией в Гражданскую войну, был на недосягаемой высоте для многих партийцев.
«Правые» возглавлялись Н. Бухариным, о котором Ленин писал: «Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии». Бухарин, Рыков, Томский и другие видные большевики призывали партию к замедлению темпов индустриализации, к послаблениям для крестьянства и учету их интересов, против насильственной коллективизации и принудительного изъятия хлеба для нужд индустриализации.
Подлинной демократии тогда не существовало ни в стране, ни и в самой партии. Не было свободы политической жизни, возможности создавать другие партии или даже фракции с иными взглядами по внутренней и внешней политике, выдвигать новых лидеров, новые идеи и т.п. Возглавить страну мог только кто-то из соратников и прямых наследников Ленина, с кем он прошел путь подпольной борьбы с царизмом через тяготы ссылок и эмиграции. Даже если это не будет один из тех, кто недавно лично обвинялся в «левом» или «правом» уклоне, то все равно предпочтение большевиками будет отдано одному из «старых большевиков», и никому иному.
Равных «старым большевикам» по былым заслугам, по легендарной преданности основателю большевизма и страны Ленину, по поддержке в партийных низах не было в партии. Из них одних кто-то имел бы шанс быть «демократически» избранным на партийных съездах и встать у руля партии и страны в случае отстранения от власти Сталина. Но тогда в любом случае это провело бы к концу гонки по наращиванию силы государства в соответствии со сталинской «генеральной линией». Сверхвысокие темпы индустриализации были бы неминуемо свернуты «левыми» или «правыми» под различными «благими» предлогами.
Но сталинский темп наращивания силы государства достиг к середине 30-х годов 20-25 процентов в год по росту валовой продукции. Новые промышленные предприятия росли по всей стране как грибы. На партийных съездах, пленумах, массовых митингах партийные и народные делегаты стоя аплодировали успехам, достигнутым под руководством Сталина. Именно тогда Сталин заявил: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее».
Сталин не мог не понимать в те годы, что превратить Россию в «счастливую и свободную» страну, к чему стремились революционеры всех поколений, действуя по приемлемым для большевиков марксистским лекалам и теориям, не удастся. Мировая революция, на которую они рассчитывали, никак не начиналась, а, наоборот, враждебность к стране Советов только усиливалась. Угроза из-за рубежа нарастала, война становилась неизбежной, а страна, несмотря на широковещательную пропаганду, была далеко не готова встретить ее во всеоружии. Поэтому, судя по поступкам Сталина после Гражданской войны, его сверхцель в корне изменилась в 20-х годах. Если раньше он и следовал ленинским планам привести Россию, как и весь мир, в коммунистический рай свободы и счастья, то теперь насущной целью становилось сделать Россию сильной и мощной, способной отразить неминуемое нападение и гибель, причем любыми средствами. Сильная страна может быть счастливой только с «силой в руках», тогда она может стать и свободной, но никак не ранее. Вести народ к силе и могуществу, невзирая на стоны, слезы, крики и кровь – вот цель, затмившая в сознании Сталина все прежнее. Ленинские «мечты» и теории, в практическом воплощении которых Сталин принимал активное участие, тоже не отличались человеколюбием и деликатностью, однако их идеализм, наивность и тщетность претворения в жизнь теперь стали очевидны большевистской верхушке.
Близкое к этому ощущение ситуации в России, отметил известный монархист В. Шульгин: «… И Ленин, и Троцкий не могут отказаться от социализма, они ведь при помощи социализма перевернули старое и схватили власть. Они должны нести этот мешок на спине до конца. Тогда придет «Некто», кто возьмет от них их «декретность»…. Но он не возьмет от них их мешка….Он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям…. И все, что сейчас происходит, весь тот ужас, который сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас навис на Россией – это только страшные, трудные, ужасно мучительные роды. Роды самодержца…».
Это же подтверждают и слова Сталина, высказанные им по свидетельству П. Чагина, работника Ленинградской партийной организации, после избрания Кирова первым секретарем обкома. Сталин: «Не забывайте, что мы живем в России, в стране царей. Русский народ любит, когда во главе государства стоит один человек. Конечно, этот человек должен выполнять волю коллектива».
Развернутую характеристику личным качествам Сталина дает Ф.Ф. Раскольников, близко знавший его много лет, писавший в 1939 г. в своем дневнике: «Основное психологическое свойство Сталина, которое дало ему решительный перевес, как сила делает льва царем пустыни – это необычайная, сверхчеловеческая сила воли. Он всегда знает, что хочет, и с неуклонной, неумолимой методичностью постепенно добивается своей цели…. В тиши кабинета, в глубоком одиночестве он тщательно обдумывает план действий и с тонким расчетом наносит внезапный и верный удар. Сила воли Сталина подавляет, уничтожает индивидуальность подпавших под его влияние людей…. Сталин не нуждается в советниках, ему нужны только исполнители. Поэтому он требует от ближайших помощников полного подчинения, повиновения, покорности, безропотной рабской дисциплины. Он не любит людей, имеющих свое мнение, и со свойственной ему грубостью отталкивает их от себя. Он мало образован…. У него нет дальновидности. Предпринимая какой-нибудь шаг, он не в состоянии взвесить его последствия…. Он знает законы формальной логики, его умозаключения логически вытекают из предпосылок. Однако на фоне других, более выдающихся современников, он никогда не блистал умом. Зато он необычайно хитер.… В искусстве «перехитрить» никто не может соревноваться со Сталиным. При этом он коварен, вероломен и мстителен.… В домашнем быту Сталин – человек с потребностями ссыльнопоселенца. Он живет очень скромно и просто, потому что с фанатизмом презирает жизненные блага: ни жизненные удобства, ни еда его просто не интересуют. Даже в друзьях он не нуждается».
Сталин обладал большим обаянием, и, когда было нужно, очаровывал людей. Английский писатель Герберт Уэллс писал после встреч со Сталиным в 1934 году: «Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного; в нем нет ничего зловещего и темного, и именно этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России. Я думал раньше, что люди боялись его. Но я установил, что, наоборот, никто его не боится, и все верят в него».
Историк Рой Медведев: «И как человек, и как вождь Сталин – фигура сложная и противоречивая. Конечно, его нельзя называть, как это часто делалось и делается, ни подлинным марксистом, ни подлинным ленинцем…. В своих публикациях Сталин использовал марксистскую терминологию, но не марксистский метод…. В сущности, он был не столько участником, сколько попутчиком социалистической революции…. Большевистская партия всегда была для Сталина лишь инструментом, способствующим достижению его собственных целей…. Возможно, поверив в свою исключительность, Сталин решил, что в сравнении с величием дел преступления, на которые он был вынужден пойти – мелочь, издержки движения».
Поэтому когда дело всей жизни Сталина, наконец, пошло в гору, отдавать власть в руки «демагогов» и «писателей», чьи «теории» показали чего они стоят за десяток лет после Октября, стало бы, по его убеждению, действительно преступлением против «дела Ленина». Отдавать сейчас власть из крепких сталинских рук этим «говорунам» было совершенно неприемлемо. Других же лидеров со столь же неоспоримыми революционными заслугами, зарекомендовавших себя в работе, и имевших широкую поддержку среди партийцев, тогда в партии не было. Кроме одного большевика: Кирова.
Сталин работал с С.М. Кировым еще в подполье до революции, в Закавказье, они стали близкими друзьями. Но даже дружба должна была позже уступить «государственным интересам», как их понимал Сталин.
Киров был активным, доброжелательным и обаятельным большевиком. После низвержения Зиновьева он возглавил Ленинградский обком партии, завоевав там общее уважение и даже любовь жителей города. Сталин ценил Кирова, но и ревновал: настаивал на его переходе на высокую должность в Москву, чтобы иметь возможность присматривать за ним, но тот отказался. Поручал он ему и ответственные дела с выездом на места, например в Казахстан.
Отношение Сталина к Кирову окончательно определилось после голосования по переизбранию в члены ЦК на XVII съезде партии. После подсчета бюллетеней делегатов, проголосовавших 1225 мандатами с решающим голосом, выяснилось, что против Кирова голосовали 3 делегата, а против Сталина 292 (по некоторым данным 270). Счетная комиссия, собранная Сталиным из верных сторонников, решила изъять эти бюллетени. Съезду было объявлено, что против Сталина подано 3 голоса, против Кирова 4. Положение спасло только то, что число претендентов было равно утвержденной численности состава ЦК, иначе Сталин не был бы избран в члены ЦК, и на том закончилась бы его политическая карьера. Можно только гадать, что означало бы это для истории России. С тех пор Сталин проявлял к Кирову подозрительность и зависть. Они уже больше не встречались. Хотя внешне это не проявлялось, но дружба Кирова с коварным Сталиным закончилась.
Изъятые бюллетени, заинтересовавшие через полвека партийную комиссию, так и не были найдены в партийном архиве. Полагают, что они были сразу переданы в ГПУ для выяснения личностей делегатов, проголосовавших против Сталина. XVII съезд партии тогда называли «съездом победителей», но позже его назовут «съездом расстрелянных».
Вероятней всего, именно после этого инцидента Сталин понял, что его положение в партии стало шатко, и он неминуемо будет смещен из ЦК, если ничего срочно не предпринять. Надо было действовать немедленно, на опережение, иначе власть выскользнет из его рук. Однако манипулировать обычным «аппаратным» способом с помощью подтасовок и интриг при настоящем составе партии, уже начавшим отворачиваться от него, более не удастся. Требовалось нечто радикальное.
Сталину мешали более всего «старые большевики», «ленинская гвардия», помнившие ленинскую «демократичность» в партии. Н.С. Хрущев, который был делегатом XVII съезда, вспоминал («Время, Люди, Власть», кн. 1,ч.1): «Кто мог голосовать против Сталина? Это могли быть только ленинские кадры.… Молодые люди, которые выдвинулись при Сталине, боготворили Сталина и смотрели ему в рот…. Сталин понял, старые кадры, которые находятся в руководстве, недовольны им и хотели бы заменить, если это удастся. И вот Киров был убит, а затем началась массовая резня. … Сталин правильно определил, кто голосовал против него. И вот полетели головы старых большевиков. Они объявлялись врагами народа, и все наши граждане, и партийные и беспартийные, одобряли это».
На глазах Сталина народ изменился до неузнаваемости. Почему же его партия, по его мнению, не могла бы превратиться из тысяч упрямых, мнящих себя истинными ленинцами соперников и прямых его врагов в таких же молодых, восторженных сталинскими успехами, послушно следующих за своим вождем энтузиастов? Однако этих упрямых заслуженных партийцев не удастся мирно отодвинуть в сторону, их предстоит уничтожать. Ведь недаром Максим Горький писал: «Если враг не сдается его уничтожают».
Сталин замыслил грандиозный выход из положения: в замене всего личного состава большевистской партии. Уйти из нее должны были все, поднятые на высшие посты еще Лениным, а потом ставшие его верными соратниками и «старыми большевиками». Это были и личные враги Сталина, и несогласные с ним в чем-либо или когда-либо, и те, в ком проницательный Сталин чувствовал неприязнь к своей особе. В партии должны были остаться только его верные сторонники. Остальных следовало уничтожить или изолировать, исключив из партии. Их родственников следовало также репрессировать во избежание «разговоров» и вероятной мести.
Число приговоренных по планам Сталина составляло несколько миллионов, это его не смущало. Сталин помнил и большие цифры людских потерь, которые позже «незаметно» и естественно восстанавливалось в русском народе. Его отношение к этому раскрывает его замечание по поводу страшных фронтовых потерь в Отечественную войну: «Ничего, русские бабы еще нарожают». Ведь Сталин прошел всю Гражданскую войну во главе партийного руководства. Тогда гибель миллионов людей в боях, от эпидемий и голода, от террора с обеих сторон не считались чем-то катастрофичным, то была вполне приемлемая «цена» за торжество революции и светлое коммунистическое будущее. Тогда эта «цена» составила от 11 до 15 миллионов жизней, или почти 10% дореволюционного населения России. Теперь же будет, возможно, не меньше, зато высокая цель Сталина будет достигнута, власть останется в его руках, наступит полное единение народа под его началом, государство станет могущественным, каким оно никогда не было раньше. Это стоило нескольких миллионов противников. Им бы все равно не нашлось места в задуманном Сталиным социализме.
Чтобы сохранить власть, оправдаться и сокрушить врагов, Сталин счел необходимым ударить первому. Он начнет с серии публичных судебных процессов, на которых будут разбираться сфальсифицированные дела мнимых «террористов», «шпионов», «контрреволюционеров» и «классовых врагов», которые, не выдержав пыток, будут оговаривать и себя и нужных для следователей лиц, признавать любые преступления и свою вину.
По протокольным данным карательных органов, далеко не полным, зато «точным» до единого человека, с 1930 по 1953 года было расстреляно 786.098 человек, а всего репрессировано 3.788.234 человека. Однако, по мнению историка Роя Медведева общее число репрессированных было не менее 40 миллионов человек. Это означает, что пострадал каждый третий житель СССР.
Новая, сталинская «революция» по традиции большевиков началась в Ленинграде. В конце 1934 года, вскоре после «съезда победителей», названного позже «съездом расстрелянных», любимец ленинградцев Киров был убит в коридоре Смольного, ленинградского обкома. У арестованного убийцы, большевика Николаева, оказался вполне прозаический мотив преступления: ревность. Киров был известен своей «любвеобильностью», и за этот неоспоримый факт ухватилось следствие. Однако подозрительным было то, что убийца уже дважды недавно задерживался НКВД. Он поджидал Кирова с револьвером в портфеле, имевшем разрез для быстрого извлечения, но каждый раз Николаева отпускали без последствий. Начальник личной охраны Кирова знал и докладывал об этом шефу. Почти сразу после гибели Кирова, он и сам был убит при странных обстоятельствах: при незначительной аварии грузовика, в котором его везли на первый допрос. Никто из охранников, ехавших с ним в кузове, при этом не пострадал. Странно было и то, что его, единственного из подозреваемых, везли не в легковой, а в грузовой машине, и в кузов с ним сели охранники с ломами.
До настоящего время «тайна» смерти Кирова до конца не раскрыта. Когда в 1956 году Генеральному секретарю Н.С. Хрущеву, поручившему новое расследование, доложили о результатах, то он запер заключительный документ в сейф со словами: «Пока в мире существует империализм, мы не можем опубликовать такой документ».
Однако народ уже тогда понял суть произошедшего, сочинив и шепотом передавая частушку: «Эх, говори Москва, разговаривай Россея! Ой, огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». Нет сомнения, что действия убийцы Николаева направлялись высшими инстанциями из Москвы.
Социалисты-революционеры, а позже и большевики испытывали большое уважение к «Катехизису» Нечаева, утвердившего путь политического террора во имя счастья и свободы народа. Сталин, вне сомнения читавший это текст, один из немногих, кто следовал ему буквально, но в грандиозных масштабах. Это подтверждает вся его жизнь, от ранних «эксов» с жертвами невинных прохожих, до террора середины 30-х годов против своих недавних близких друзей, соратников-большевиков, мешавших ему теперь достигнуть заветной цели – абсолютной власти в партии и стране. Это пример патологического перерождения крайнего пассионария, что сопоставимо с психическим расстройством царя Ивана Грозного, расширившего свое царство до Сибири, и одновременно истребившего в нем множество своего народа.
Если «большие» политические процессы конца 20-х и начала 30-х возбуждались из-за аварий и хозяйственных просчетов, и были направлены против «вредителей», выбранных «козлами отпущения» за промахи партийного руководства во главе со Сталиным, то новый сталинский замысел по грандиозной «чистке» партии развернулся сразу после убийства Кирова, объявленного терактом.
Уже вечером после убийства Кирова по распоряжению Сталина было составлено и обнародовано Постановление об ужесточении мер против контрреволюционеров и террористов и внесение соответствующих поправок в Уголовный кодекс. Согласие на это членов высшего партийного и Советского руководства было оформлено опросом, только через два дня, и задним числом. Теперь любое «политическое дело» могло быть выдано за подготовку к террористическому акту, а расправиться с неугодными можно было немедленно. Это широко распахнуло двери для последовавших массовых беззаконий. Сразу десятки дел, находившиеся у «органов» в производстве, никак не связанных с убийством Кирова, попали под понятие «контрреволюция» и были спешно рассмотрены судами. Почти все обвиняемые был приговорены к расстрелу, о чем было публично, и к удовлетворению «масс», объявлено в день похорон Кирова.