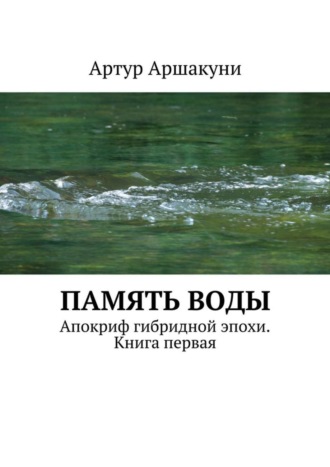
Полная версия
Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга первая

Память воды
Апокриф гибридной эпохи. Книга первая
Артур Аршакуни
Анне – за терпение.
Сыну – за нетерпение.
Дочери – за чудо.
© Артур Аршакуни, 2016
ISBN 978-5-4483-3723-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Все персонажи являются плодом авторского вымысла.
Автор не несет ответственности
за иное их толкование.
Пролог
Я не познал, испытав,
конца не увидел, закончив, —
Сделав, не сделал, свершив,
я завершить не сумел.
Ф е о г н и д.1 «Элегии».– Как ты, Мириам?
Молчание.
Всю дорогу молчала и сейчас молчит. Только вздыхает иногда, как лошадь под непосильным грузом, устало и обреченно. Ничего, здесь отдохнет. Хозяин – сын не своей матери! – мог бы дать место для ночлега и получше, чем этот овечий загон. Хотя и ему надо радоваться, вот – караван расположился прямо во дворе, люди ночуют у костра. Одно слово квириниево подняло с мест и бросило в разные стороны весь народ Израилев. Темны мысли римлян; язычникам никогда не понять народа-избранника. А народу-избраннику можно ли понять язычников? Вот только – когда же, о Господи?
– Как ты, Мириам?
Молчание.
Гордая. Только вздыхает.
Подбросить бы веток в очаг. Что за погода!
Взметнувшееся пламя выхватывает из темноты овечьи морды и контур смуглого женского лица.
Плачет?
Молчание.
Погода как погода. Что ты хочешь – зима.
Дробный перестук копытец, испуганное блеяние заглушает очередной вздох. Со двора доносится истошный крик верблюдов из каравана с достойным ответом осла.
Что ж ей не плакать? Женщина.
Иошаат устраивается поудобнее и протягивает озябшие руки к огню.
Ничего…
– Как ты, Мириам?
Истошный крик верблюдов. Мычание, блеяние и ржание. Шум и гомон многоликой разноязыкой толпы.
Рынок.
Иошаат медленно идет по торговым рядам, коренастый, плотно сбитый, с округлым обветренным лицом, заросшим короткой черной бородой, сдержанный в речах и поступках, и только руки выдают его волнение, потому что он то и дело сжимает и разжимает заскорузлые ладони, привычные к дереву и камню. Ему пятьдесят лет. Много это, мало? Посторонним он кажется стариком, но если верить мудрым людям, которые говорят, что возраст мужчины определяется по его бороде, то она у него иссиня-черная. Он озабочен и серьезен, ибо привело его сюда важное дело, отец праведности, а не праздное любопытство, мать греха.
ОстерегайсяПронзительные крики менял с их фальшивыми монетами:что тебе чужой талант, имея свою лепту.Остерегайся торговцев. Заунывнаяфлейта, монотонный ритмичный шошанними дробный кимвал в руках пронырливых мальчишек, подосланныхнечестными людьми: их счастье построено нанесчастье других.Остерегайся босоногих танцовщицна помосте. Танцуют невольницы, выставленныена продажу: подходи, любуйся, выбирай.Мозолистые пятки мелькают на уровне людскихголов. Провисший полотняный навес не спасаетот солнца. Терпко пахнут торговцев, навязывающих свой товар:хороший товар разгоряченные женскиетела. сам себя хвалит.Иошаат подходит ближе к помосту, туда, где стоит хозяин, чужак из египтян, одного с ним возраста, смуглый, безбородый, в белом синдоне с виссоновым поясом. Взгляд его, неспешный и степенный по восточному обычаю, останавливается на Иошаате и выделяет его из остальных. Звучит гортанная команда, и музыка убыстряется, а в такт ей – и движения невольниц. Еще одна команда обнажает их тела. Зевак у помоста становится заметно больше.
Красивые, однако… Дети уже взрослые, а все равно… Женское тело… Грех, грех!
– Мира и здравия!
Иошаат оборачивается. Это – Ал Аафей, земляк и сосед его, из Назиры, ведет за собой осла за веревку.
– Мира и здравия и тебе, сосед.
– Что вижу я? – удивляется Ал Аафей. – Пристало ли такому почтенному и уважаемому мужу, как Иошаат, из прославленного колена Давидова, лицезреть греховную эту наготу?
Иошаат раздосадован. Ал Аафей известен всем в Назире своим любопытством, более присущим суесловным женщинам, чем степенным мужчинам.
Самого-то тебя что сюда привело, сына не своей матери? Не греховная ли эта нагота?
– Преклонный возраст – возраст мудрости, – продолжает разливаться Ал Аафей, – а мудрость пьет из своих источников наслаждения!
Молчи, сосед, молчи. Говорят не слова, а поступки.
Иошаат степенно отвечает, чтоХотел бы я знать, пришел какие у тебя источники наслаж-дения. Пересчитывать сюда подругой причине. своих овец, свои таланты?Как известно уважаемому соседу, он, Иошаат, недавно овдовел и остался с четырьмя сыновьями и двумя дочерьми. Детям нужна женская забота и ласка. Да и по хозяйству тяжело управляться одному. В Назире девушек на выданье не так уж много, да и кто из них пойдет за старика? А приводить в дом вдовца вдовую старуху – кто тогда за кем будет ухаживать?
– Да, ты прав, – важно кивает Ал Аафей.
Бедность! Бедность – вот главная причина того, что Иошаат не смог найти себе жену в Назире.
– Поэтому я и решил найти хозяйку дому моему и мать детям моим здесь, на рынке Иевусовом. Мне не нужна красавица для утех, – были бы руки работящие да характер покладистый.
– Да, и тут ты прав, – снова кивает Ал Аафей.
Красивая и молодая невольница просто не по карману простому древоделу!
Иошаат, подавляя невольную обиду,Мягко стелешь, сосед! поворачи-вается к рабыням и выступает вперед из толпызевак ближе к помосту. Хозяин неспешно огля-дывает его простой хитон мастерового человекаи отдает новую команду. Музыка смолкает, впе-ред выходят рабыни поплоше: в возрасте, слиш-ком толстые или чересчур худые.– Товар на любой вкус! – лениво растягивая слова, говорит хозяин. – Отрада для мужчины! Все они сведущи в науке неги и наслаждения!
– Нет, нет! – кричит Ал Аафей и подбирается к Иошаату поближе. – Нам не нужна сведущая!
– Так что же нужно и главное – кому из вас? – говорит хозяин.
– Мне, – говорит Иошаат, досадуя на соседа.
Вот ведь привязался! Кому дело, а кому – потеха.
– А, тогда понятно, – хозяин кивает головой, и тонкая, по-восточному едва уловимая ирония его вызывает смех собравшихся. – Тогда вот – совсем несведущие.
На помосте показываются новые рабыни, совсем еще девочки трех-пяти лет. Они поднимают руки вверх и заученно вращаются на месте. Смех усиливается. Иошаат гневно поворачивается, сжимая и разжимая ладони, и раздвигает толпу, чтобы уйти.
Защита бедного – гордость!
– Остановись, почтенный! – голос хозяина лишен лени и иронии; в нем звучит скорее удивление. – Прости, если мои слова обидели тебя. Знай, что обида – не помеха гордости, ибо расположены они в душе на разных уровнях. Есть у меня то, что тебя заинтересует.
– Откуда ты знаешь, что меня заинтересует? – ворчливо спрашивает Иошаат. Он доволен: ему удалось сохранить свое достоинство и не потерять уважения окружающих.
В ответ хозяин, улыбаясь, показывает рукой сначала на свой лоб, затем – на сердце и хлопает в ладони:
– Мириам!
Истошный крик верблюдов.
Иошаат вздрагивает и приходит в себя, но не от крика верблюдов, – он привык к нему и не замечает его, как и овечьего блеяния и перестука копыт, – а протяжного, полного сдерживаемой муки, стона женщины вслед за ним. Он торопливо подбрасывает хворост в очаг, поднимается. В сполохах пламени обычно смуглое лицо Мириам выглядит пепельно-бледным, и эта пепельная бледность пугает его еще больше.
– Мириам?
– Иди, – говорит она чуть слышно.
Иошаат понимает, что она удаляет его от себя – не дело мужчине находится рядом с женщиной в такую минуту, – но ему необходимо оставить за собой последнее слово, и это слово должно быть словом мужчины – взвешенным и рассудительным. Поэтому он какое-то время переминается с ноги на ногу и лишь потом идет к выходу.
– Пойду, – говорит он, – позову кого-нибудь на помощь.
В ответ, уже выходя, он слышит еще один, уже не сдерживаемый, а какой-то внечеловеческий, стон, и этот стон подгоняет Иошаата в спину, несмотря на ночь и непогоду.
Нескладно все получается. Когда теперь домой попадем? Положим, пока перепись подойдет, устроится и с обрядом обрезания, и с именем. Когда же пройдет срок очищения жены по закону, надо идти в Иевус, в храм, устраивать жертвоприношение – опять по закону. Ни козы, ни барашка он себе позволить не может, а совсем без ничего тоже нельзя! Даже два голубя – расходы. И – тоже по закону!
На полпути он останавливается, внезапно озабоченный новой тревогой.
Ведь если не исполнятся толкования пророчеств и Господь одарит его еще одной дщерью, им придется провести на этом постоялом дворе вдвое больше времени! Опять расходы, о Адонай!
На постоялом дворе никто спросонья не может понять его невразумительных слов, пока, наконец, хозяин не призывает какую-то Шелиму. Шелима оказывается древней старухой, вечной приживалкой, из тех, которые живут в своем углу за кусок хлеба и чашу воды, стараясь никому не попадаться на глаза, с закопченным лицом, морщинистым, как сушеная смоква. Она сразу начинает охать и жаловаться на свои больные руки. Иошаат, расстроенный донельзя, уходит, но живая мумия увязывается за ним.
Различие мужчины и женщины – не в чреслах, а в любопытстве. Ладно. Хоть поможет.
Он провожает ее до овечьего загона, а затем ходит по двору бесцельно, время от времени останавливаясь погреться у догорающего костра. Верблюды уже улеглись, как и люди; у костра остались только двое дозорных. Один из них подзывает Иошаата к ним. Они коротают время в тягучих, как вино, историях, и горчащем, как история, вине. С вечера подошли к костру какие-то люди, с виду пастухи, не видел ли их уважаемый? Сидели тут, молчали, грелись, словно ждали чего-то. Совсем недавно также молча ушли. Странно. Хотя, сейчас зима, непогода – какие могут быть пастбища? Овцы все заперты по своим загонам. У жены уважаемого исполнились предписанные ей сроки? Да предначертает Всевидящий явившемуся в этот мир предназначенную ему стезю и отпустит силы щедрой мерой пройти эту стезю до конца! Второй стражник – глухонемой, но тоже загадочным образом знает все; он цокает языком и невразумительным мычанием выражает Иошаату свое одобрение. Кувшин ходит по кругу, и вино больше не кажется Иошаату отвратительным. Наконец, темноту двора прорезает полоска света от двери овечьего загона, и Иошаат направляется туда. Навстречу ему семенит Шелима. Куда подевался ее возраст! Она довольна своей причастностью к исконно женскому ремеслу – ремеслу продолжения рода человеческого; глаза так и сияют. Морщины сложились в счастливую паутину2. Она тоже славно потрудилась:
– Первый-то без меня успел, а второго я приняла. Успела! Ох, шустрый! Уж я за свои руки так боялась, но все обошлось, слава Адонаю. Хорошо, пелен хватило. Я все сделала, и перевязала, и обтерла, и спеленала. Тогда, в суматохе, я про руки и думать забыла, а теперь гляжу – не болят! Не болят руки-то!
Иошаат глядит на нее непонимающими, полубезумными глазами.
Что она говорит?– Мальчики оба, «Первый», «второй»… Какая мальчики, – черный провалвместо рта у Шелимы, наверное, означаетулыбку, —все-таки гнусная такие хорошенькие: темненькийи светленький, кислятина в кувшине и даже родимые пятна у них оди- у этихстражников, сыновей не своей матери,наковые: у одного на правом плече, так все вну-три и печет.а у другого – на левом.Она радуется.
– Молчи, старуха.
Она радуется!
Чему радуется эта глупая старуха? «Мальчики»? «Хорошенькие»? Какие такие хорошенькие мальчики? Да хоть римский легион хорошеньких мальчиков – что они против Одного, но напророченного? Иначе рушатся устои души и тогда самые святые слова – кимвал бряцающий, а самые праведные поступки – прыжки козлищ и овнов. Вера рушится!
И тогда он глядит вверх, в недоступное одноглазое небо, как тысячи раз глядели до него и тысячи раз будут глядеть после него – со страхом и надеждой, с гневом и страданием: доколе, о Господи! Останется ли хоть капля веры после этого в душе? Вразуми же!
Он отодвигает Шелиму и входит в загон.
До чего же отвратительный запах! Или это вино так действует?
В мерцанье углей – слабый овал лица. Чуть ниже – два одинаково белеющих крохотных свертка.
Дальше, куда ни посмотри – овечьи морды. НетБеззвучной дрожащей мышьюот них спасения. за ним появляетсяШелима.Замерзла, старая!Он подходит ближе и наклоняется.
– Мириам?
На помосте показывается смуглая рабыня, закутанная в белое покрывало.
– Вот, – говорит торговец, – вот, я решился ее тебе показать.
– А что такое? – любопытный Ал Аафей опять тут как тут.
Ну что тут поделаешь?
– Она дала обет сохранить свое девство до конца жизни.
Толпа зевак наконец получает необходимую ей искру развлечения и стремительно раздувает пламя:
– Ох ты!
– Вот это да!
– Да ну?
– Известное дело: у девиц оно всегда так, до первого мужчины.
– Первые – они же последние, – говорит торговец.
Он поворачивает рабыню спиной к зрителям и сдергивает с нее покрывало. Гул изумления: спина ее исполосована следами бича.
– Видели такое? – спрашивает торговец и снова укрывает рабыню покрывалом. – Так что не советую пробовать ни первым, ни последним. Будет царапаться и кусаться; может и за нож схватиться. Она не боится, понимаете? Она просто готова к этому.
– Негодный товар у тебя! – раздается в толпе.
– Верно! Отдай в полцены!
– Почему негодный?
– А кому нужна ветвь неплодоносящая?
– Это еще не все, – говорит торговец и снова тонкая, едва уловимая ирония слышна в его словах.
– Да? Что же может быть еще? – откровенно развлекается толпа.
– Она считает, что через нее спасется народ Израиля.
– Савеянка3?!
– Э?
– Вашей веры, вашей, – говорит торговец, размеренно кивая для убедительности головой, – из самого что ни на есть Хамова племени и Хушева колена.
Иошаат подходит еще ближе к помосту и внимательно смотрит на смуглую рабыню, смотрящую поверх толпы.
Какие глаза!
Он взволнован услышанным.
– Правда ли это, о дщерь Евы?
– Правда, – тихим эхом откликается рабыня, и голос ее внезапно крепнет, словно пламя над сухими ветками: – Я верую в Пасху и опресноки, в субботу и пост, Писание и миропомазание. И еще я верую в Господа нашего, неназываемого, и Слово Его спасительное, которое…
Она закрывает лицо руками и еле слышно заканчивает:
– …уже близко.
Иошаат, помедлив, поворачивается к торговцу и встречает его внимательный и строгий взгляд.
– Я… – начинает он и останавливается в смущении. – Я не трону ее!
Торговец склоняет голову, снова указав на свой лоб и сердце.
– Скажи, сколько ты просишь за нее?
Торговец вместо ответа отзывает Иошаата в сторону, за помост.
– Меня зовут Анх-Каати.
Он делает знак, но Иошаат не понимает его.
Уйти? Не уйти? Какие знаки? Назначай цену, торгуйся… Дело есть дело!
Торговец медлит и с видимым усилием продолжает:
– Дочь она мне.
Иошаат изумлен. Он с трудом подбирает слова:
– Как?! И ты… Ты выставил на продажу среди рабынь собственную дочь?
– Она хочет этого сама. Она хочет пройти через страдания, чтобы обрести спасение для своей души..
– И ты ей это позволил?!
– Я благословил ее.
– Как же ты можешь называться отцом после такого?
– Так же, как мог называться отцом Авраам, приносящий в жертву сына своего, Исаака, движимый одной только верой.
– Верой?
– Так называют высшее знание, – улыбается смуглый Анх-Каати
Иошаат разгневан:
– Что тебе Авраам? Что тебе наши святыни?
– Многое я знаю, – просто отвечает Анх-Каати.
– Какой же ты веры?
– Надо ли тебе знать это, о простой человек? – Анх-Каати снова делает знак, но Иошаат снова не понимает.
Уйти? Странно все это. Знаки непонятные, загадки. Какие, однако, глаза у нее! Нет, он не уйдет. Дело есть дело.
От помоста несутся недовольные крики:
– Что за секреты?
– Мы ждем!
– Объяви нам цену, торговец!
Анх-Каати устало улыбается:
– …И зрелищ. Зрелищ! Зрелищ!
Потом он снова становится серьезным и строгим:
– Иди, и пусть все идет своим чередом превращений!
Он возвращается к толпе, улыбаясь; в нем снова просыпается торговец:
– Красавицы, что у меня здесь, идут не меньше чем за полталанта…
Иошаат молчит, пытаясь осмыслить услышанное.
– Послушайте, что он говорит! – это снова вездесущий Ал Аафей решает помочь безмолвному Иошаату. – Что он говорит? Полталанта! Слыханное ли это дело? Царские наложницы меньше стоят!
– Да, – важно кивает толстяк с масляными губами и заплывшими в щелочки глазами сластолюбца, – красная цена хорошей рабыне – четверть таланта, а то и полмины.
– Так сколько ты просишь за нее? – горячится Ал Аафей, отбросив в сторону мешающую веревку, к которой привязан его осел.
Э, сосед, да ты торговаться не умеешь. Это тебе не с деревяшками возиться. Будет что моей Фамари рассказать.
– Совсем немного за такую спокойную да работящую – пятнадцать сиклей, – уступает торговец.
– Полцены от половины мины – это двенадцать сиклей да одна дидрахма, – быстро считает практичный Ал Аафей.
– А мне – одни убытки, – подхватывает торговец. – Разорит она меня! Ладно. Шестьдесят драхм.
Иошаат задумывается.
Шестьдесят драхм – деньги немалые. Он год откладывал по драхме в неделю, чтобы накопить денег на невольницу.
– Нет, – говорит он и качает головой.
Надо уйти. Шестьдесят драхм! И зачем он притащился на этот рынок? Только людей смешить.
– Постой, постой, – голос торговца снова звучит с почтительным уважением. – Все равно я разорен и пущен по миру с протянутой рукой… Так и быть. Пятьдесят драхм – и она твоя.
Он незаметно подмигивает Иошаату.
Иошаат снова задумывается.
Пятьдесят драхм… А подмигивать зачем?
Нет, все-таки торговец, сын не своей матери!
Толпа терпеливо ждет развязки: торг – священное правило рынка. Без него невозможна никакая купля, никакая продажа. Торгуясь, продавец и покупатель выражают друг другу взаимное уважение.
Иошаат снова поворачивается к рабыне, долго глядит на нее.
Глаза. Глаза!
– Так как тебя зовут?
– Мириам.
– Мириам?
– Два младенца, Мириам, – это не один младенец, – говорит Иошаат в сумрачную прель овечьего загона. – Что тебе было дано свыше? Что ты говорила мне? Что мы говорили людям? Что люди находили в Писании? Какие такие два младенца, Мириам?
Молчание.
– Два младенца, Мириам, – это только два младенца, какие бы они хорошенькие ни были. А один младенец, Мириам, – это не один младенец, Мириам, это – Он, обещанный! Ты согласна со мной?
Опять – молчание. Только на этот раз молчание не пугает Иошаата, а воодушевляет.
– Мы оставим одного младенца, Мириам, – говорит Иошаат, – одного, но того, который – Он. Мы будем выбирать и выберем правильно.
– А второго? – спрашивает она еле слышно.
– Второго? – Иошаат
Какая разница? Надо ли пожимает плечами. об этом думать?– Ну… Пристроим куда-нибудь.
Старушечья мумия оживает в углу и подходит поближе.
– Если позволите, – Шелима и тут рада помочь. – Я знаю, да! У одной светловолосой рабыни из каравана, что ночует здесь же, во дворе, недавно родился мертвый младенец. Уж как горюет бедняжка!
– Нет! – неожиданно кричит Мириам.
– Мириам! – строго и внушительно говорит Иошаат и замолкает.
Да и что тут сказать? Что Мириам сама в недавнем прошлом – рабыня, отпущенная Иошаатом при свидетелях на свободу? О таких вещах не говорят вслух. Тем более при посторонних.
– Нет! – еще громче кричит Мириам. – Рабыня? О Адонай, – нет!
Иошаат с досадой смотрит на Шелиму.
Наверное, о некоторых вещах все-таки надо сказать. Тем более при посторонних.
Дверь загона неожиданно скрипит, впуская хозяина постоялого двора вместе с ночным холодом и одним из стражников каравана. Тот ухмыляется и яростно подмигивает Иошаату.
– Что подняло среди ночи почтеннейшего Забтеха? – с легким раздражением в голосе спрашивает Иошаат хозяина постоялого двора.
Порядочные хозяева ночью спят, а не беспокоят постояльцев.
Встревоженный Забтех сообщает, что по постоялому двору его, мирного и законопослушного обывателя, ходят какие-то чужеземцы, странные видом и речами. Они требуют показать им младенца, родившегося именно в эту ночь именно здесь, на именно этом дворе.
– О уважаемый и светлейший в своем роду Забтех! – Иошаат не может сдержать ликования. – Почему же ты не зовешь их сюда? Веди! Веди!
Он царственным жестом обводит овечий загон, очаг и ложе с Мириам.
Как, однако, кровь побежала по жилам от одного сообщения Забтеха! Не одни только неприятности от него, сына не своей матери. Вино стражников, однако, было очень кстати!
Забтех уходит. В Иошаате просыпается кипучая энергия. Он отсылает оставшегося стражника за дополнительным хворостом, старуху Шелиму – за водой для омовения рук и ужином и, наконец, остается наедине с Мириам и младенцами.
– Ну что? – он энергично сжимает и разжимает ладони. – Чужеземцы – чужеземцы! – пришли неизвестно откуда посмотреть на одного, Мириам, – одного! – младенца. Все сбывается, Мириам, все сбывается! Тебе все непонятно? Вот, смотри, два пальца: один, два. Все очень просто: один младенец – и ликуй, Израиль, мы помазаны на царство! Два младенца – и овечий загон на всю жизнь. Ну, давай, Мириам, давай! Выбирай!
Она плачет. Когда нужно просто четко и быстро действовать, она плачет. Когда на одной чаше весов – благополучие и счастье Израиля, а на другой – мокрый, уродливый младенец, что тут думать? А она плачет.
Иошаат подходит ближе и властно берет из-под ее рук оба свертка.
– Ну, кого? – ноздри его раздуваются от сдерживаемого нетерпения и даже гнева.
Времени нет! Времени совсем нет, а она плачет.
– Как знаешь, – отвечает она хрипло, одышливо, как если бы два сухих камня потерли друг о друга.
Иошаат нетерпеливо всматривается в свертки.
Все младенцы – на одно лицо, что бы он в них умел разбираться! Надо спешить, вот-вот придут чужеземцы.
Он подносит свертки к очагу.
Один – точно темненький, в Мириам. А второй – странно светлый, непонятно в кого. Чужаком будет, заклюют. Какой из него Спаситель! Темный удивления не вызовет, сразу видно – наш. Свой! За таким и пойдут. Решено!
Он отдает смуглого младенца Мириам. В это время слышны приближающиеся шаги. Иошаат поспешно прячет светлого младенца в дальнем углу, среди овец и новорожденных ягнят.
Успел, о Адонай!
Снова скрипит дверь загона, и входят один за другим чужеземцы. Их трое, они действительно одеты странно для этих мест, и где-нибудь на рынке их приняли бы за бродячих канатоходцев и глотателей огня, но держатся просто и с достоинством. Они встают полукругом, лицами к Мириам с младенцем, и нараспев произносят:
– О-э-а! И-хоу-у4!
Потом садятся прямо на землю.






