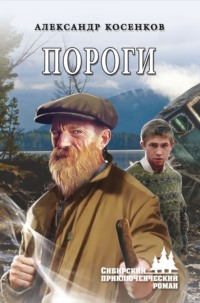Полная версия
Далеко от неба
Прижимая одной рукой к груди банку с молоком, а другой вытирая слезы, Иннокентьевна добралась до баньки, поставила на порог предбанника молоко, сняла с плеча и повесила на гвоздь полотенце – прислушалась. В баньке было тихо, только догорающие в каменке угли потрескивали, да чуть слышно капала вода.
– Вась, а Вась… – позвала она и, не дождавшись ответа, сказала: – Я тут тебе молочка парного принесла… Полотенце еще одно – голову оботрешь. Долго-то не сиди, а то сердце зайдется…
Василий, согнувшись, сидел на полке, весь в крупных каплях пота. Он не отозвался на голос матери ни малейшим движением и, только услышав, что она уходит, еще ниже опустил голову.
* * *Ему отчетливо вспомнилась небольшая неуютная комнатка Красного уголка зоны, где заседала комиссия. Трое офицеров сидели за столом, один на стуле у двери. На столе – груды папок – личные дела заключенных. На стене над головой майора распластал крылья тяжелый чугунный орел. Майор, сидя, зачитывал Указ о награждении:
– За проявленное в ряде оперативных боевых столкновений с противником личное мужество, находчивость, умение качественно ориентироваться в сложной боевой обстановке, выразившиеся в полном уничтожении группы боевиков на территории Усть-Мартановского района, наградить старшего сержанта Боковикова Василия Михайловича высшей наградой России – орденом Герой России.
В связи с Указом об амнистии участников боевых действий вы, Василий Михайлович, освобождаетесь от дальнейшего отбывания наказания. Награда вам будет вручена в военкомате по месту жительства. В решении об освобождении было также учтено заявление пострадавшего и свидетелей, что взаимные враждебные действия с вашей и их стороны были спровоцированы действиями неизвестного, выразившимися в приписываемом вам поджоге зимовья и потоплении двух моторных лодок типа «Кама» и «Обь»…
* * *Василий вышел в предбанник, не вытираясь, натянул штаны и сел на порог. Рядом стояла банка с молоком.
Уже погасла за огородами река, на фоне потухающего неба расплывчато горбились заречные сопки. Высоко над головой колко проклюнулась первая звезда. В домах светились окна, во дворах то и дело взлаивали собаки, неподалеку сонно промычала корова, на поскотине в еще не остывшей траве вовсю стрекотали кузнечики.
Подсвеченного светом, падавшим из полуоткрытой двери остывающей баньки, его хорошо было видно издалека.
Неожиданно Василий улыбнулся. Качнул головой, словно пытался стереть эту неуместную улыбку, и – снова улыбнулся.
Звук выстрела был негромким, Василий его почти не услышал. Банка с молоком разлетелась вдребезги, и молоко залило босые ступни Василия. Броском он исчез из освещенного проема двери, присев за куст, стал вглядываться в сторону двора Бондаря – стрелять могли только оттуда. Потом, пригибаясь, несколькими стремительными прыжками пересек огород, перемахнул заплот, на ходу выдернув из него подпиравший кол, и застыл, прислушиваясь. Показалось – неподалеку скрипнула дверь. Он метнулся в ту сторону и оказался перед глухой стеной бани Бондаря. Прислонившись к ней, он немного переждал и осторожно выглянул – никого. Дверь в баню плотно закрыта, но внутри слышно какое-то движение. По-кошачьи неслышно и гибко он скользнул вдоль стены, стал сбоку от двери и, выждав секунду, рванул её, согнувшись, нырнул во влажную духоту, прижался к боковой стене, выпрямился и замер…
Любаша – жена Бондаря – только что ополоснувшая в тазу длинные густые волосы, выпрямилась и удивленно уставилась на него. Вода стекала с её волос на плечи, на крупную грудь, блестела на животе, бедрах, сверкающими каплями стекала по ногам. На несколько секунд она застыла в растерянности – то ли закричать, то ли метнуться в угол. Но, узнав Василия и успокоившись его неподвижностью и слишком явным замешательством, она, не сводя с него глаз, нащупала за спиной на полке ковшик и, улыбаясь, протянула непрошеному гостю: – Стоишь, как пень. Подкинь. Париться, так париться.
Василий машинально взял ковшик, посмотрел в глаза Любаше. Его судорожно сжавшиеся пальцы смяли ковшик, как бумажный.
– А вы не ждали нас, а мы приперлися, – раздался тенорок Бондаря, и он возник на пороге с полотенцем, веником и тазом.
Василий отшвырнул смятый ковшик и, отодвинув плечом окаменевшего от неожиданности Бондаря, вышел. За спиной он услышал звонкий смех Любаши, оборванный тяжелым ударом и грохотом свалившихся на пол тазов. Потом они закричали друг на друга, щедро сдабривая руганью оправдания и обвинения. Что-то снова загрохотало, разбилось. Пронзительно завизжала Любаша.
Василий стоял посреди огорода, не зная – то ли вернуться и вмешаться, то ли плюнуть на все. Потом посмотрел в сторону своего двора. Отсюда отчетливо был виден яркий квадрат двери баньки, порог, на котором он сидел несколько минут назад. Прямая недавнего выстрела уходила в темноту за забором Бондаря.
* * *Тельминов сидел за накрытым столом и громко рассказывал:
– Требуется тебе, говорит, полное обследование, экспертизу произвести, чтобы никаких сомнений не оставалось. Полагается на это дело дней пять, не меньше. И поверх очков зыркает. В точности, как росомаха.
– У росомахи отколь очки-то взялись? – подала голос возившаяся у плиты Аграфена Иннокентьевна.
– Видишь, тетя Груня, и ты на этот мой тест клюнула.
– Тесто какое-то приплел! – хмуро огрызнулась Иннокентьевна, то и дело поглядывавшая на дверь – ждала Василия.
– Да не тесто, а тест! Проверка такая. Они там сейчас в основном по тестам соображают, как у тебя мозги с окружающей действительностью сопрягаются. Тут смотри, какое дело: вот ты мне сразу вопрос – откуда у росомахи очки? А я имею в виду, что она, паразитка, умная, глядит вроде как исподлобья. И профессор этот такой же. Поместим тебя, говорит, в палату и будем проверять. Дело серьезное, промашки быть не должно. И задает мне вопрос – сколько было вождей пролетариата? Хрен, думаю, не подловишь. – Вождей, говорю, было несколько. Но лично я уважаю только одного – Кампанеллу. Гляжу, дядя обалдел маленько. По-новой – зырк-зырк на меня. – При чем тут, больной Тельминов, Кампанелла? Отвечаю: пока проверка не закончена, я еще не больной. А Кампанеллу уважаю за то, что Город Солнца придумал, великую мечту угнетенного человечества. Он, значит, снова поверх очков на меня глядит, лысиной вертит. У меня даже недоверие появилось – может, не того профессора подсунули? И тогда он врезает мне по этим самым… Сама понимаешь. У меня аж дыхалку прихватило.
– Говорят, они молоточками все стукают. Неужто прям по ним?
– Я, тетя Груня, в переносном смысле обозначил. В том смысле, что он очередной вопрос красиво поставил. Вроде как шах и мат. И правду сказать неудобно, и соврать боязно – догадается, спрашивать больше не будет. А мне, сама понимаешь, без справки в родные края лучше не заявляться.
– Что за вопрос-то? – безразлично спросила Аграфена Иннокентьевна. Михаила она слушала вполуха, снимала со сковороды блин за блином и то и дело оглядывалась на дверь и на звуки за приоткрытым окном.
В избе было прибрано. Травы она убрала, на окна повесила занавески, на стол скатерть накинула, постель застелила, вымытый пол укрыла половиками…
– Вопросик – я тебе дам! – заорал Михаил и в восхищении ударил кулаком по столу. – Мне такой никто в жизни не задавал. Потому что внешностью абсолютно не соответствую. А он, гад, догадался! Догадался и врезал. Стихи, говорит, пишешь?! Сечешь, тетя Груня? Мне, Мишке Тельминову, такой несоответствующий вопрос!
– Послал бы ты его! – в сердцах на безостановочную болтовню Михаила посоветовала Аграфена Иннокентьевна.
– Не имел такого морального права. Мужик, можно сказать, гениально ухватил самую суть моего существования. Подумал я, тетя Груня, подумал и – признался.
– Как это?
– Пишу, говорю.
– А он чего? – уже заинтересованно спросила Аграфена Иннокентьевна и еще раз глянула на дверь.
– Иди, говорит, в восьмую палату. Там у нас два писателя и один народный артист находятся. Ты, говорит, вполне с ними общий язык найдешь.
– Взаправду, что ль, пишешь?
– Пишу!
– А на кой?
– Поэтам такие вопросы не задают. Они пишут, потому что не могут не писать. Это мне там писатель сказал. Исключительно умный мужик.
– Заснул он, что ль? – в сердцах сказала Аграфена Иннокентьевна, посмотрев на ходики. – Блины стынут.
– Знаешь, что он мне объяснил? Если то, что написано, к людям не выпускать, может внутри колоссальный взрыв произойти почти ядерной мощности. Начинает тогда человек на частицы распадаться, не имеющие между собой никакой связи. И эта атомная пыль не дает правильно оценивать окружающую действительность. Ему там, видать, долго еще кантоваться. Боятся, что он такую книгу напишет, после которой придется переоценивать всю прежнюю литературу.
Я, тетя Груня, один стих про Василия написал. Раньше бы у себя зажал, в загашник, а теперь, если хочешь, могу… Не возражаешь? Значит так…
Мальчишкой он любил собак и птиц,И никогда не плакал он от боли, И кто б его по жизни ни неволил, Всегда он вырывался из границ.Поняла, какие границы? Кто-то там решает, а ты должен существовать. Туда или туда. А я, к примеру, туда не желаю. И он не желает. Положили мы на их границы. Поняла?
Жизнь приготовила такие передряги —Хоть волком вой, хоть в омут головой.Другой ушел бы в воры иль бродяги, А он тянулся и во сне домой. Тут все понятно. Во тьме кромешной снилися распадки, Реки таежной гулкий перекат. Там солнце рыжее с сосной играло в прятки И освещало выводок опят. Мне в этой восьмой палате тоже снилось… Седой глухарь ронял перо тугое, Закат кровавый крался по гольцам. Еще приснилось зимовье в Верховье И старенькая тозовка отца.Остальное пока еще не придумал.
Он мне чего писал-то? – тихо сказала Аграфена Иннокентьевна. – Мама, только дом не продавайте. Вернусь, весь переберу по бревнышку. Ворота новые поставлю, забор сменим, огород насадим. Невесту найду. Заживем с тобой, как люди.
– Все правильно. Чего плакать-то?
Но Аграфена Иннокентьевна не плакала. Она с удивлением смотрела мимо Михаила на неслышно раскрывшуюся дверь. Михаил оглянулся – в дверях стоял Виталий.
– Виталию Михайловичу пламенный пионерский привет! Один ноль в мою пользу. Быть, говорю, того не может, чтобы родной братан не объявился по случаю досрочного возвращения. Хотя у некоторых тут были сомнения. Просто сведения до тебя не сразу дошли. Теперь дошли, и ты дошел. Извиняюсь, пришел.
– Кончай выступать! – хмуро буркнул Виталий и спросил у матери: – Где он?
– Ты чего уделал-то? – вместо ответа спросила мать, и её глаза заблестели слезами. – Если свои так-то будут делать, чего про чужих говорить? Где ему притулиться теперь, а?
Виталий молча прошел к столу и выложил большую пачку денег.
– Своих еще столько же приложил, – сказал он, глядя в сторону. – На первое обустройство в любом месте хватит. Еще останется. Здесь ему все равно не жить. Если не хочет, чтобы как с Иваном. Я, например, не хочу.
– Пожалел? – спросил появившийся в дверях Василий.
Виталий резко обернулся.
Василий спокойно прошел к столу, скинул с шеи на спинку стула мокрое полотенце и попросил: – Налей, мать, чайку. Молоко я того… Руки мокрые, не удержал…
– Так, может, это… – дернулся было Михаил, протянув руку к бутылке. Но тут же отдернул. – После баньки… За возвращение.
– Возвращаются, когда есть куда. А тут сходу деньги на обратную дорогу. Немало вроде?
– Не хватит, добавлю, – стараясь казаться спокойным, сказал Виталий.
– Чего стоишь? – не отводил от него глаз Василий. – Садись, старшой, поговорим маленько. Сколько мы с тобой не видались?
– Не считал, – сказал Виталий и сел. – Нормальный вариант предлагаю. Здесь тебя все равно достанут.
– С какого х…ра меня доставать будут? – делано удивился Василий. – Дом вот поправлю, бабенку какую-нибудь найдем, охотиться буду. Ни я никому, ни мне никто. Все чин чинарем. Правильно, мать?
– Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою, – тихо и непонятно к чему сказала Аграфена Иннокентьевна.
– А то у него получится «чин чинарем»! Такое тут нам всем наклепает, рады убежать, да поздно будет, – зло сказал Виталий.
– За себя или за меня труса давишь? – насмешливо спросил Василий.
Михаил, молча переводивший глаза с одного на другого, не выдержал: – Если насчет избу починить, я подмогну – делов-то. Она еще ничего. Крыша разве только…
– Крыша точно, крышу менять надо, – задумчиво сказал Василий и залпом выпил налитый матерью стакан чаю.
Не выдержав нависшего молчания, Виталий сорвался: – Насчет Ивана, поумней нас с тобой разбирались. Нет ничего! И причины никакой. Ваню самый последний гад уважал. Какая-то ошибка произошла.
– Ошибка? – вскинул голову Василий. Скулы его закаменели.
– Где-то что-то не так, а по Ивану хлестануло. Значит, судьба. Что теперь – всех под подозрение?
– Зачем всех-то? – тихо сказал Василий. Было заметно, что он с трудом сохраняет спокойствие. – Тебя со счетов надо скинуть. Или как?
Теперь закаменели скулы и у Виталия. Сразу стало заметно, не смотря на внешнюю непохожесть, их кровное родство. Мать угадала назревающий взрыв, подалась вперед, рот уже раскрыла, чтобы сказать, вмешаться, но старшой опередил её: – Не научили тебя, смотрю.
– Чему? – сквозь зубы спросил Василий.
– Сначала думать, потом рот разевать.
– Меня другому учили. Хоть раз перед паханом пасанешь, потом весь срок сапоги лизать будешь.
– Ты это к чему?
– Как все вы тут, на карачках ползать не буду.
Виталий опустил голову, сломанный силой ненависти, прозвучавшей в словах брата. Тихо и печально сказал: – Нет никаких концов. Нет.
– Я все говорить не хотела… – вмешалась вдруг в разговор братьев мать. Оба одновременно повернулись к ней. – Верхонку одну при нем так и не сыскали.
– Ну? – подался к ней Василий.
– Со старой куртке выкроила и пришила. Хорошо пришила. Так я потом этого просила, что приезжал… Следователя. Сыщи верхонку-то. Слушать не стал. Мне-то сразу в голову запало – как так? Одна пришитая, а другой нету.
– При чем тут верхонка? – с прежней усталостью в голосе сказал Виталий. – Зацепился где-нибудь – и все дела. Я им объясняю: – Да когда он так-то пил, чтобы не соображать ничего? И не слушают. Наследственное, говорят. Ему много не надо было. Объясняю – я же не пью. Смеются гады. Да чего с ними говорить – бесполезное дело. Пьяный был – и все. Так и списали.
– Я к чему вспомнила-то, – продолжала Аграфена Иннокентьевна. – Про верхонку. Они с Васькой, когда малыми были, играли все. Записок понапишут каких-то, планов понарисуют, в рукавицу или варежку сунут и спрячут, чтобы другой отыскивал. Большие уже были, а все друг другу записочки прячут.
– Мать, ты молоток! – сказал Василий. – Я тебя вот как уважаю! Теперь там каждую ветку… Землю рыть буду!
– Почему мне не сказала? – тихо спросил Виталий.
– У тебя семья. Райка давеча жалилась – не спишь по ночам. Чуть задремлет, говорит, стонет или криком кричит. А тебе еще девок своих поднимать.
– Правильно, мать, без него разберемся.
Василий взял бутылку и разлил водку по стаканам.
– Не пропадать добру. Сегодня отмечусь, с завтрашнего дня на прикол. Пока все концы не сыщу.
– Свой отыщешь, это точно, – хмуро сказал Виталий.
– Тьфу на тебя! – вскинулась мать. – Как язык-то повернулся!
– Самое главное – причину сыскать, – вмешался Тельминов. – Будет причина, будет и личина. Нормальная рифмочка. Найдем гада!
– Судьба это! Судьба! – сказал Виталий и одним глотком выпил водку. Поперхнулся, закашлялся. Отдышавшись, сказал: – Не пошла у нашей семьи жизнь. С отца не пошла. Так и идет с тех пор. Я тоже хожу, оглядываюсь. А! … Мать тебе все расскажет. Пойду.
Он тяжело поднялся и пошел к двери.
– Дом кому продал? – спросил Василий.
– Соседу. Юрке Бондарю.
– Сам или даванули?
– Не хочу, чтобы с тобой, как с Иваном. Уезжай! Тебе еще жить да жить.
– Договорились. Ты мне вот еще что скажи. С кем его в тот раз забрасывали? Кто в вертолете кроме него был?
– Никого не было. Вертолет на задание летал. Иван к ним случайно приткнулся.
– Какое задание?
– Аркадию на базу продукты забрасывали.
– А на базе кто был?
– Зарубин. Он говорит, Иван не выходил даже.
– И все?
– На Старый прииск еще вроде залетали.
– Зачем?
– Хрен их знает. Вертолет приисковые нанимали. Иван в последнюю минуту напросился. Даже за собаками не успел сбегать. Нет концов, Васька, нету. Были бы, сам карабин зарядил, не сшел бы со следа.
– Если нет, чего за меня переживаешь? Чего выпиниваешь?
– Потому и выпинываю, что нет концов. Начнешь дергаться туда-сюда, шуму понаделаешь, зацепишь кого не следует. А мужики у нас, сам знаешь, серьезные.
– Я тоже серьезный.
– Вот и получится всерьез, а не понарошку. Ладно, пошел. Сам думай. Я тебе больше не помощник. Даже не заходи. Райка к тебе, сам знаешь… Боится. Говорит, будешь приваживать или помогать, соберу манатки и к своим вместе с пацанками. А мне уже жизнь менять поздно.
Он вышел.
Василий посмотрел на стакан с водкой, который до сих пор держал в руках, и отставил его в сторону.
– Моя Катерина тоже мне ультиматум предъявляет, – сказал Михаил.
– Лично про тебя примерно в том же духе. Я ей дверь открыл, чемодан кинул – чеши, говорю, по холодку на все четыре. Я теперь со своей справкой любую бабу уговорю. Так она…
Дверь открылась. На пороге стоял Виталий.
– С Зарубиным поговори. Был у него с Иваном разговор какой-то, когда на базу залетал. Кричали друг на друга. Зарубин говорит – ничего серьезного, так. А вертолетчик, механик, говорит, кричали. Роман Викентьевич, конечно, мужик хороший. Только чтобы Иван кричал, сам знаешь…
Он пожал плечами и вышел.
* * *Над тайгой опрокинулось переполненное звездами небо. Наконец-то наступила ночь. То на одном, то на другом конце поселка, заводя друг друга, заполошно взлаивали собаки. Протрещал и захлебнулся за околицей мотоцикл. В домах, где еще не спали, телевизоры дружно сотрясались от очередного полицейского сериала: звучали выстрелы, кто-то истошно вопил, что-то взрывалось, выли сирены…
В летнике, во дворе у Зарубина, все еще горел свет. Отец Андрей, стоя в углу, беззвучно читал молитву и изредка крестился на небольшую привезенную с собой икону. Олег сидел за столом и что-то старательно срисовывал из большого альбома по древнерусской иконописи. Дверь летника была широко раскрыта в огород.
Олег то и дело поглядывал на спину молящегося отца Андрея и заметно томился необходимостью молчать. Наконец отец Андрей перекрестился с поклоном в последний раз и устало опустился на стоявшую рядом койку.
– Вы как хотите, Олег, а я на покой. Устал до полного отупения. Вам, я вижу, не терпится разговор наш продолжить, но вы уж простите меня, грешного, – не в состоянии.
– Без проблем, отец Андрей. Одна дорога чего стоит. Я когда сюда добирался, думал – все, не выбраться мне теперь отсюда до конца дней моих.
Вы раздевайтесь, раздевайтесь. Я сейчас закругляюсь и тоже на боковую.
Отец Андрей снял рясу, аккуратно повесил её на спинку кровати. Олег отложил в сторону свой рисунок.
– Буду лежать и размышлять, как вы меня сегодня «приложили». Можно сказать, со всего размаху. Я уже хотел манатки собирать.
Отец Андрей, снявший штаны и собравшийся было нырнуть под одеяло, замер.
– Надеюсь, раздумали?
– Со своей точки зрения, вы, конечно, безусловно и стопроцентно. Только здесь сейчас не доброта нужна.
– Доброта нужна всегда.
– А вот увидите и поймете.
Послышались чьи-то тяжелые шаги. Олег испуганно посмотрел на раскрытую дверь. Сначала в дверях появился Кармак, затем вошел Зарубин. В одной руке он держал бутылку и три стакана, в другой – охотничье ружье и патронташ.
– Что, уже? – тихо спросил Олег и оглянулся на отца Андрея.
– Не уже, а уже, – невразумительно ответил Зарубин, сел за стол и разлил вино по стаканам. – Вино настоящее, не крепленое, друзья из Абхазии с оказией прислали. Ощущаете запах? Хмель никакой, а сны будут сниться веселые и светлые. Так создатели этого вина говорят. Мне, правда, все равно не помогает – ни хмеля, ни светлых снов. Но аромат вкушаю сполна. Запахи, говорят, самый лучший стимулятор воспоминаний. А хорошими воспоминаниями надо дорожить.
Вообще-то, я к вам по делу. Вино – это так, для контраста с реальной действительностью. Ну… Пить не неволю, а пригубить советую.
– Если действительно сны светлые обещаете… – улыбнулся отец Андрей.
Олег с торопливой готовностью передал ему стакан с вином.
– На хорошее не загадываю, о плохом думать не хочу, – сказал Зарубин, поднимая стакан.
Злобное рычание Кармака задержало поднесенные к губам стаканы. Все, как по команде, оглянулись на дверь, открытую в ночь. Пес поднялся, готовый кинуться в темноту, но Зарубин придержал его за ошейник: – Сидеть!
Олег сорвал с гвоздя ружье, переломил, проверяя, на месте ли патроны, снял с предохранителя и поставил рядом под руку, у стены.
Кто-то шел к ним через ночную темноту огорода. Сначала в полосе света обозначилось белое пятно рубахи, через несколько секунд на пороге остановился Василий.
– Здорово, – сказал он, пытаясь улыбнуться.
Был он крепко на взводе, но смотрел с пронзительной пристальностью человека, твердо знающего, что он сделает в следующую минуту.
– Заходи, – не сразу отозвался Зарубин и погладил заворчавшего Кармака.
– Хороший кобель, – сказал Василий. – А у меня Гамма. Была. Такая сучонка умная, по глазам все понимала. Мать говорит, отравили. Выместили сволочи! Собака-то в чем виноватая?
Василий вошел и тяжело сел на кровать рядом с отцом Андреем.
– Угощаете или через одного? – спросил он.
Зарубин протянул свой стакан Василию.
– Перебора не будет?
– Мой перебор до завтрашнего утра. Развязал маленько, чтобы от вольной жизни сразу не задохнуться. Что, другого стакана, что ль, нет?
– А я из горла, – серьезно отозвался Зарубин. – На правах хозяина. Насчет вольной жизни – согласен. Её сейчас лучше мелкими глотками потреблять.
– Осторожно или поменьше? – заинтересовался Василий.
– И осторожно, и поменьше. Чтобы не захлебнуться большими возможностями.
– Точно, возможностей сейчас по горло, – Василий одним глотком выпил вино. – Несерьезный напиток, – сказал он, посмотрев на дно стакана. – Баловство. Церковное? – спросил он у отца Андрея.
– Самое что ни на есть мирское, – улыбнувшись, сказал тот и сделал глоток, пробуя.
– Действительно – аромат.
– Ароматов у них там хватает, – сказал Василий, поглядев на бутылку. – Не знаешь, то ли нюхать, то ли блевать бежать. Особенно, когда фугас метрах в пяти и кишки на деревьях.
– Все у тебя? – тихо спросил Зарубин.
– Начать и кончить, – сказал Василий неожиданно трезвым голосом. – Поговорить надо.
– Надо, – согласился Зарубин. – Даже очень. Только в абсолютно трезвом виде.
– Это у меня камуфляж… – Василий правой рукой очертил свою фигуру. – Для тех, кто меня на халяву взять рассчитывает. Насчет соображать – в полном порядке, не сомневайся. Так, расслабился слегка… Причин много.
– У меня их тоже не меньше. И тоже сейчас не в форме. Поэтому говорить будем поутрянке, без соплей и перегара. На полном серьезе. От этого разговора у нас с тобой вся дальнейшая жизнь обозначится.
Желваки на скулах Василия закаменели. Он долго молчал, сжимая и разжимая кулаки, наконец выдавил: – Не держал бы я тебя, Роман Викентьевич, за настоящего мужика, другой бы разговор у нас получился. За мать большая тебе благодарность. Пойду… – Он встал. – Только один вопросик все равно имеется. Чтобы душа в норму, а то заснуть не смогу… Кричали, говорят, вы с Иваном друг на друга. В последний раз когда… Чтобы Иван закричал на кого, много надо было. Очень много.
– Был у нас разговор, – помолчав, сказал Зарубин. – Можно считать, действительно последний. Только безо всякого крика. Карту он у меня на Дальний участок просил. Вертолет не глушили, слышно плохо, со стороны могло показаться, что кричали. Как я соображаю, тебе такую полуправдивую информацию со смыслом подсунули.
– Дал?
– Карту? Нет.
– Пожалел, что ль?
– Об этом завтра. Разговор долгий.
– До завтра еще дожить надо, – не согласился Василий. – Здесь как? Закон – тайга, прокурор – медведь. А Бог у нас еще не каждому помогает. Видать, на всех силенок не хватает. Или нагрешили на сто лет вперед. Так, гражданин священник? – повернулся он к отцу Андрею. – Вот и приходится теперь самим управляться.
– Как мы о Боге, так и он о нас, – не выдержав, вмешался в разговор Олег.
– Дьякон, что ль? – покосился на него Василий.
– Кому дьякон, кому пономарь, кому Олег Викторович.
– Понятно, – согласился Василий. – Ты, Олег Викторович, знаешь хоть, с какого конца оно заряжается? – Он кивнул в сторону стоявшего под рукой у Олега ружья. – Отодвинь подальше, а то, неровен хрен, пальнешь с перепугу не в ту сторону.