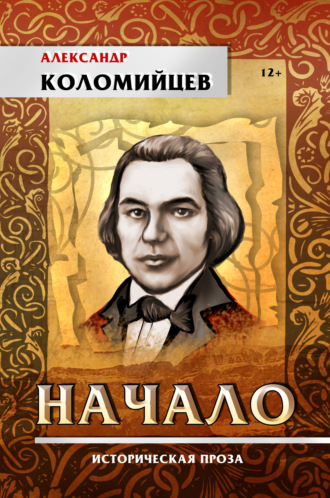
Полная версия
Начало

Александр Коломийцев
Начало
© Коломийцев А. П., текст, 2018
© Издательство «Союз писателей», оформление, 2018
* * *Русским людям, особенно юношам, следует знать историю Отечества. Только ведая об истоках, можно постигнуть смысл дел настоящих и устремлять ясный взгляд в будущее. … Я не против немцев баталии веду, а против тех, кому судьба России безразлична! Среди них русских-то довольно будет, им бы только казённые оклады получать, а где – едино. У них у каждого петелька-то напереди, а крючочек позади, вот они и цепляются друг за друга, не любя и не понимая ни России, ни пути её.
М. В. ЛомоносовГлава 1
Гора скрывала много тайн. Со времён «чуди незнаемой» люди пытались познать их. В недрах её текли реки расплавленного золота и серебра, в пещерах лежали груды слитков драгоценного жёлтого металла. Все эти богатства стерёг со своими свирепыми помощниками обитавший в тёмных запутанных переходах кровожадный Змей полоз о семи головах. Неохватное тулово его тянулось на десятки саженей. Так гласили стародавние предания. Обходили стороной Змеёвую гору люди робкие, несмелые. Рисковые же, алкавшие несметных богатств и сокровищ, проникали в ходы, прорытые «чудью незнаемой», из них в змеиные лазы и исчезали бесследно, ибо лишались живота своего от одного лишь змеиного свиста. Пробирались рисковые люди в недра Горы, уходили и не возвращались. Богатство прельщало, подобно колодцу, пригрезившемуся умирающему путнику в безводной пустыне. На смену сгинувшим искателям счастья являлись новые. Их истлевшие костяки находили горные служители в старых выработках. Имелись и иные тайны. Из Змеиной горы вёл подземный переход в соседнюю, пустую внутри. Там по зеркальной глади неохватного взором озера, застывшего в жутком безмолвии, скользил струг, до краёв наполненный червонным золотом. Искали рисковые люди то озеро, даже находили и струг видели, а взять ничего не могли. Ужас великий охватывал их, не помнили, как наружу выбрались, и путь к озеру забывали. Но то всё не главные тайны. Главная же в том – в недрах горы Змеиной скрывался вход в Беловодье. Беловодье! Блаженная мечта униженных и оскорблённых. Не было в Беловодье жестоких и алчных бояр и дворян, свирепых царей и гонителей веры, жестокосердных и беспощадных горных командиров и их прислужников. Не было в Беловодье ни злата, ни серебра, ни драгоценных каменьев, не знали в Беловодье про воровство, пьянство и блуд, всякие немочи. Но были в Беловодье вечная красота и истина. Жители сего благословенного края были светлы и чисты и ликом, и душой; все мужеского пола крепкого сложения, а женского – статны и миловидны. Все они были добры и справедливы, равны меж собой, никто не унижал и притеснял другого. Мужчины и женщины жили в любви и честном супружестве, и дети на радость родителям рождались здоровенькими. Пашня была плодородна – злаки, всякий овощ, вертограды давали обильные урожаи, а скот плодился и тучнел на вечнозелёных пастбищах. Люди, населявшие Беловодье, жили в достатке и благоденствии, без всякой зависти друг к другу. Не в стылой пустыне у Ледского моря, не в горных дебрях, не в долине Бухтармы, не за горами Богогорши, не в Китайском государстве у неведомого озера Лобнор находилось Беловодье, здесь, в запутанных, сочащихся водой, осыпающихся проходах Змеиной горы прятался вход в землю обетованную. Так рассказывали бывалые люди. Уходили в мрачные подземелья люди, искавшие справедливости в этой жизни, а не в загробной, уходили и не возвращались. Не всякий тот вход находил, и не всякому вход открывался. А и о тех, кто проникал в Беловодье, ничего не слыхали. Кто ж по своей охоте покинет земной Ирий?
Солнце добралось до темянника и вовсю припекало. Над водой резвились стрекозы, садились на поплавок, раскачивая его из стороны в сторону, у берега в небольших заводях скользили плавунцы. Ветерок шевелил вершины сосен, и те издавали глухой гул, порой ветерок льнул к земле, колыхал лозняк, рябил воду. Михайло вытащил и смотал удочку, забрал улов и, обогнув заросли лозняка, вышел на широкую песчаную косу. Опустив в воду кукан с окунями, разделся, забрёл на мелководье, долго плескался, простирал рубаху, порты. Выйдя на берег, улёгся на горячий песок, подставив жарким лучам тело с выпирающими рёбрами, худющими ногами. Благодать! Так бы и лежал и день, и два, и три, отогреваясь после мрачного душного подземелья. И дышал, дышал полной грудью чистым воздухом, пахнущим нагретыми соснами, речкой, травами.
Сегодня воскресенье, прошлую неделю отработали дневную, завтра идти в ночь. Отпросившись у десятника, три друга ушли на Корбалиху порыбалить, погреться на солнышке.
Подошёл Овдоким с куканом и удочкой. Сел рядом, спросил негромко:
– Греешься?
– Греюсь. Так ноги крутило, мочи не было терпеть.
– А ты их в песочек, в песочек зарой. Песок-от горячий, все кости прогреет, полегчает.
Овдоким посидел немного, ероша бороду и морща лоб. Какая-то беспокойная тревожная дума не давала покоя горному служителю. Резко поднявшись, Овдоким наломал сушняка, развёл костёр, устроил очаг, подвесил на перекладине котелок с водой, бросил в него пару горстей пшена. Подобрав плоский голыш, принялся чистить на нём рыбу. Послышался шум шагов по траве, и на косу вышел третий удильщик, парень лет восемнадцати. Третий рыбак был самый добычливый: на кукане среди окуней серебрились три сорожки.
– Ну, ты, Митяй, как лось, ломишься, – проворчал Овдоким.
– Видал?! – радостно воскликнул парень, снимая с кукана рыбу и показывая крупную сорожку. – Фунт потянет! Я уж забоялся, лесу б не оборвала. Я тамочки, – захлёбываясь от удачи, продолжал он, – на заутине место надыбал.
Овдоким взял рыбину, взвесил на ладони.
– Не, не будет фунта, на полфунта с лишком, пожалуй, потянет.
Митяй шмыгнул носом, возразил обидчиво:
– Ну да, не потянет! Никак не меньше фунта.
Парень ещё переживал восторг удачи, голубые глаза его опушённые длинными ресницами, радостно блестели. Михайле, казалось, дела нет до рыбы. Лежал молча, не вступая в спор товарищей своих, глядел в голубую вышину. На большеносом широкоскулом лице его читалась безмерная усталость и отрешённость.
– На ножик, дочисть рыбу.
Овдоким отдал молодому товарищу нож, сел на песок, глядя на играющую солнечными бликами речку.
Это были холостые рабочие с рудника, зрелые мужики лет за тридцать. Долбили шпуры, дружбу водили давно.
Весной к ним приткнулся молодой откатчик Митяй.
Уха закипела, забурлила. Овдоким сдобрил варево солью, бросил в него две луковицы. Хлебали молча, дуя в деревянные обкусанные ложки.
– Эх, лепота-то какая! Как в Беловодье! – воскликнул Овдоким, выплёвывая кости и блаженно растягиваясь на песке. – Солнышко греет, брюхо сыто, ни тебе мастеров, ни шихтмейстеров.
– И батоги не свищут, – ехидно поддакнул Михайло.
– Да, вот найти бы Беловодье… – мечтательно произнёс Митяй.
– Иде ты его найдёшь? – отозвался Михайло. – Сказки то всё.
– В прошлом годе мужик один ушёл искать по штольням из Екатеринки и не вернулся. Видать, нашёл, – возразил Митяй.
Михайло проворчал:
– Хто его знат, кого нашёл, Беловодье или смерть свою.
Овдоким со злым надрывом в голосе поддержал молодого товарища:
– А чо, поискать, дак и нашли бы. Мочи моей уж нет терпеть эдакое мучительство.
– Да кто ж нас пустит в Беловодье? – хохотнул Михайло. – Беловодье людям безгрешным, незлобливым открывается. А ты на прошлой неделе, как батогов всыпали, чегось обещался, запамятовал? Мастера грозился придушить, а уж злобен-то был, а уж злобен. Не, не хочу я в подземелье помирать, лучше здеся, на воле, – Михайло помолчал, добавил: – На воле, в горах надо Беловодье искать.
– А чо! Я б пошёл! – встрепенулся Овдоким. – Куда итить токмо?
– Стражники пымают, запорют батогами, – поёжился Митяй.
– А пускай, пускай словят! Да хоть б годок, месячишко-то волюшки хлебнуть, – воскликнул Овдоким и, задумавшись, повесил голову.
Одна мысль вскружила головы троим друзьям. Они уже сидели кружком на песке, говорили, как о давно решённом.
– На полдень надо идти в горы. Найдём каку деревеньку, наймёмся в работники, там оглядимся: останемся или дальше пойдём, – рядил Овдоким, обмысливая побег.
– Не об том сейчас речь, – высказывал свою задумку Михайло. – Лета самое начало, в тайге ещё голодно. Птахи всякие птенцов вывели, яиц нету, а птенцы – голимый пух. Кого с них возьмёшь? Ни колбы, ни ягод, ни грибов ещё нету. Пропитания в тайге сейчас нету никакого. И зверя нам голыми руками не добыть. С голодным брюхом много не набегаешься. Подготовиться надо. Муку недавно выдали, пуда полтора наскребём поди-ка. Отдадим бабам, чтобы хлебов напекли да сухарей насушили. У мужиков-урочников бредешок выменяем, вот тада и побегим.
Овдоким задумался.
– А сболтнёт кто ежели? Сразу догадаются, зачем сухари сушим. Это чо ж, до осени готовиться будем? Не, я так не согласный.
– Уж прям до осени, – возразил Михайло, – неделю-другую повременим. А как ты хотел, приготовиться надобно. Чо ж так-то бечь?
Овдоким вскочил, топнул ногой по песку, запустил руки в волосы, вскинул лицо кверху:
– Вы как хочете, мужики, а я на рудник не вернусь. Мочи моей нету терпеть страсти эти. Да нешто Вседержитель душу в нас вдохнул, штобы терпели мы всё это. Да лучше было бы родиться тварью бессловесной, штобы не чувствовать ничего. Скотину так не держат, как нас держат. Вы гляньте: солнышко сияет, пташки щебечут, ветерок дует, и нету над имя ни надсмотрщиков, ни командиров. Нешто не про нас вся эта благодать божья? За каки таки грехи мучительства терпим? Опять нам в подземелье проклятое? Да не бывать тому! Пускай меня хотя б насмерть запорют да хоть на плаху голову положат, – вскричал Овдоким, сжимая перед собой кулаки. – А хоть денёк да подышу волюшкой!
Представив себя на миг свободным человеком, Овдоким ощутил прилив оглушающего счастья и не мог насильно заставить себя вернуться в неволю.
Через полчаса ветви раскидистой боярки колыхнулись и скрыли беглецов.
Глава 2
До полуночи было ещё далеко, но всё пространство погрузилось в темноту, разрежённую немощным светом бледного серпика и сиянием перемигивающихся звёзд. После недавних буранов землю придавил жестокий мороз. Казалось, всё живое, сохраняя тающее тепло, притихло, свернувшись комочками, даже буянивший столько времени ветер оцепенел и скукожился. Лишь люди, презрев стужу, занимались своими делами. Бороды у мужиков смерзлись у рта, губы слиплись. Лошади покрылись пушистыми попонами.
По сторонам дороги появились очертания причудливых строений, разбросанных в беспорядке. Пашка отвернул облезлый воротник тулупа, спросил у возницы:
– Дяденька, это Змеиногорск?
Возница обернулся, разлепил губы, ответил хрипло:
– То камни, не избы. К Саушинской станции подъезжаем, до Змеёва ещё…
Он не договорил. Рядом, казалось, в десятке саженей от дороги раздался вой, суливший гибель всякому живому существу, дерзнувшему оказаться ночью посреди степи. Следом ещё и ещё послышались голоса серых степных обитателей. Лошадь, доселе едва переставлявшая ноги, всхрапнула, взбрыкнула и перешла на рысь.
– Ах ты, мать честная! – вскрикнул возница, с которого вмиг слетела вязкая дремота, и, не удовлетворившись бегом своей унылой лошадёнки, несколько раз стегнул её по спине.
Остальные сани обоза тоже прибавили ход. Повизгивали полозья, посвистывал ветер. Озноб от крепкого мороза сменился ледяным оцепенением ужаса.
– Чо, забоялся? – спросил Спирька.
– А ты нет? – огрызнулся Пашка.
Вой смолк и более не повторялся, но звери были рядом. Лошади из последних сил неслись вскачь. Пашка выбрался из худого тулупа, в который кутался вместе с дружком. Кнут свистел в руках возницы, не переставая, но ужас подхлёстывал лошадь и без побоев. Рядом с дорогой послышался рык, которого Пашка не слышал даже у самого свирепого пса. Ермолай – так звали возницу – бросил через плечо:
– Шумите чем-нибудь, кричите!
– Кого кричать-то? – испуганно спросил Пашка.
– Да кого хочете, шуму побольше!
Сам Ермолай громким прерывающимся голосом костерил всё земное и небесное, что только взбредало на ум его. Обоз состоял из десятка саней, и хищники пока не решались наброситься на жертву.
– Вот они! – закричал Пашка.
– Поблазнилось? – с надеждой спросил Спирька.
– Никого не поблазнилось. Волчище, пасть разинута, а зубы, зубы-то!..
Перепуганный Спирька с головой укрылся тулупом. Объятый страхом подросток не сообразил, что зубов в темноте его насмешливый дружок разглядеть не мог. Пошарив в передке саней, возница вытащил палку, обмотанную тряпьём, отвязал от пояса мешочек, обернувшись назад, бросил все предметы в глубь саней.
– Эй, мальцы! В огневице кремень и огниво с трутом. Вздуйте огонь и пламенник запалите.
Пашка высекал огонь, Спирька подсовывал трут. Пару раз кремень ударил по озябшим пальцам, но Пашка не чувствовал боли. Прошла вечность, прежде чем пропитанное дёгтем тряпьё задымило и занялось. Ермолай уж несколько раз оглядывался в нетерпении. На иных санях тоже зажглись спасительные огни. Спирька, зажмурившись, закутался в тулуп, шептал молитву:
– Матушка божья, Царица небесная! Спаси мя, грешного, от дикого зверя, закрой ему зубы, глаза пусть ослепнут, не видят меня. Матушка Божья, избавь от беды! От зверя голодного не дай мне погибнуть, растерзанным быть.
Пашка, стоя на коленях, сжимал в руках горящую палку, готовясь сунуть её в зубастую пасть. По сторонам вспыхивали светлячки – не понять было, снег ли искрится, волчьи глаза ли светятся. Тени хищников мелькали в колеблющемся свете пламени, но нападать они по-прежнему не решались. Горящие пламенники удерживали их от решительного броска. Впереди слева показались слабые, едва различимые огни. Возница радостно закричал:
– Вот она, Саушинская! Ну, слава богу, спаслись!
Лошадям, уже выбивавшимся из сил и замедлившим бег, добавилось сил.
Обоз сгрудился у тесовых ворот, лошади были в мыле, тяжело поводили боками. В толстенные плахи стучали кулаками, пинали ногами. Во дворе голосила собачонка, басовито лаял волкодав. Сквозь лай послышалась недовольная ругань, и ворота распахнулись, сани въехали во двор. Возницы распрягали, кормили лошадей, весело матерились пос ле пережитого.
– Мужики! – вскричал один. – Васьки-то нету, последним ехал.
– Точно, нету! Вот едрит твою в корень! Пропал Васька.
Мужики загалдели.
– Вернуться бы надобно.
– Каво теперя исделаешь? От Васьки одни кости остались.
– Эх-ма!
Пашка со Спирькой юркнули в избу. Не снимая сермяг, прижались к тёплой печке.
– Вот нехристи! Ни лба не перекрестили, не поздоровались!
У загнетка, не замеченная мальчишками, стояла толстая тётка, уперев руки в боки и насмешливо глядевшая на гостей.
– Простите, тётенька, зазябли шибко, – пискнул Спирька.
– Да уж вижу, как вас колотун бьёт. Одёжу скидайте да к столу садитесь. Щец вам налью. Хлеб-то у вас есть? У меня только щи, пустые, зато горячие.
Отогревшись, сняв сермяги, юные путники огляделись. Заезжая освещалась потрескивающей лучиной, вставленной в светец над небольшой кадушкой. Едва ли не треть помещения занимала печь с огромной лежанкой. Посреди стоял тяжеловесный стол, вдоль стен – двухъярусные полати. Пахло овчиной и капустой, но главное (и это покрывало все недостатки) – в избе было тепло. Пашка достал из-за пазухи краюшку хлеба, разломил пополам. Подумал, сунул одну половинку обратно за пазуху, вторую разломил ещё на две части. Один кусок подал Спирьке, второй оставил себе.
– Паш, ну, Паш, – канючил Спирька. – Давай всё съедим. У меня брюхо к хребту прилипло.
Весь немудрёный харч из-за слабости Спирькиного характера хранил Пашка.
– Завтрева чего кусать будем? Потерпишь, ещё когда до Змеиногорска доберёмся.
От горячих щей у мальчишек выступил пот, по телу разлилось блаженное тепло. Мысль об ужасной участи одного из возниц (и другая, ещё более жуткая, что на месте несчастного могли оказаться они сами) бросала в дрожь.
В избу гурьбой ввалились мужики, крестились на икону, здоровались с тёткой.
– Здорова будь, Лукерья! Всё толстеешь, эк тебя разносит.
– Сама не знаю с чего. Беда, ноги пухнут.
Хозяйка ставила на стол мисы с горячими щами, мужики доставали из котомок хлеб, луковицы, сало. Перепало и мальчишкам.
– Это чо за мальцы, ране не видала.
– Горные ученики, – ответил Ермолай. – из Барнаулова посёлка в Змеёв везём.
– Дак в Змеёве своя школа есть.
– Начальству видней, не нашего ума дело. Велено самых башковитых в науку к Митричу свозить.
Лукерья стояла у печи, скрестив руки на необъятной груди.
– Сколько ж вам годков, башковитые?
– Шашнадцать, – ответил Спирька, прожёвывая сало и луковицу.
– Иди ты, я думала годков по четырнадцать, не боле. Дружок твой ишо ничо, ты-то совсем заморыш, – говорила любопытная тётка без смущения.
– С малолетства на заводе – откуда здоровье?! – пояснил Ермолай и спросил: – Вы из каких, мастеровых или приписных?
– Мастеровых, – ответил Пашка и гордо добавил: – Ишо дед на заводе робил.
– Чой-то попутчики ваши дрожат и дрожат, перемёрзли в дороге-то.
– То они с перепугу: Ваську волки задрали.
– Свят, свят, свят! – перекрестилась Лукерья. – Иде ж то приключилось?
– Рядом. До Саушинской десяти вёрст не будет, – пояснил Ермолай и спросил у сидевшего рядом мужика: – Ты, Фёдор, перед Васькой ехал. Нешто не заметил, как беда приключилась, куды глядел?
– Куды, куды, – сердито ответил мужик, утирая бороду. – Куды ты глядел, туды и я. Гнали во всю прыть. Кто по сторонам глядел? У Васьки, однако, и огнива не было, огня он не зажигал.
– От волков огонь первое дело, – проворчал угрюмого вида мужик с заросшим до самых глаз лицом.
– Николе-чудотворцу помолиться надо было, – сокрушалась Лукерья. – В церкву сходить, молебен заказать перед такой-то дорогой.
– Молебен! – передразнил угрюмый мужик. – Нешто поп за так служить станет? Да он без платы и лба не перекрестит! У нас откудова деньги? Говорю: от волков первое дело огонь, и вместях надобно держаться, а молитва от нечистых помогает.
Светловолосый мужик с острым носом и тонкими губами, сидевший напротив Пашки, резко отодвинул мису, едва не расплескав недоеденные щи, ударил ребром ладони по столешнице.
– Неладно с Васькой вышло. Вместях ехали… И-эх! Видать, лошадёнка пристала, он и отстал. Может, и огниво было, да со страху-то и пальцы на морозе задубели, вот и проёшкался. Каво теперя гадать, да и толку-то с того. Сколько наших в прошлом годе волки загрызли? Пятерых, однако.
– Вы б у начальства солдат просили для охраны. У солдат-то ружья, – влезла с советом Лукерья.
Остроносый зыркнул на глупую бабу.
– Солдаты начальству для иного надобны. Кто ж рудники да заводы стеречь будет, штобы мастеровые не разбежались? Начальству – чо? Мороз, буран – ему и делов нету. Урок даден, иди сполняй – как и чо, то твои заботы.
– А не сполнишь, так выдерут, неделю на брюхе лежать будешь, пока очухаешься, – вставил угрюмый.
В избе повисла унылая тишина. Посидев, мужики полезли на полати.
Глава 3
Козьма Дмитрич повесил на вешалку шинель, приложил ладони к горячим изразцам печного зеркала. Зимний день угасал, в кабинет закрадывался полумрак. Согревшись, Фролов зажёг восковые свечи в трёхсвечном шандале, уселся в твёрдое деревянное кресло. Такая была давняя привычка – сесть в кресло или на стул, поставить на стол локти, сцепить пальцы и посидеть с четверть часа, обдумывая в тишине сегодняшние дела. Сегодня после спуска в Вознесенскую шахту к колесу ходил на Корбалихинские похверки, провёл там весь день, даже домой на обед не заскочил. Торопился на вечерний совет: Катерина Афанасьевна опять разворчится. А ещё край надо было в плотницкую заскочить, не получилось. Придя в контору, пошутил, перекинулся парой словечек с караульным солдатом, истопником – это тоже была давняя привычка. В чертёжной раздавались голоса, при звуке шагов управителя рудника смолкли. Узнать, не надо ли чего, в кабинет заглянул секретарь Бергамта вице-маркшейдер Василий Фомич Спицын. Василий Фомич был невысоким толстеньким мужчиной с основательной проплешиной на темени. На круглом лице его с носом «уточкой» и губами-пельменями навсегда застыло выражение «Чего изволите?». Правда, сие выражение относилось не ко всем, да и сам Василь Фомич знал своё место. Чин носил невелик, тринадцатого класса, но всё же чин. Чин сей ему исхлопотал четыре года назад тогдашний управитель Леубе, а до того четырнадцать лет Спицын проходил в унтерах, а до того в подштейгерах. Чин получил благодаря неожиданно открывшемуся таланту. У сына горного служителя нечаянно проявилось изрядное умение к каллиграфии. Талант каллиграфа имелся, а познания в грамматике отсутствовали начисто. Попервах новоявленный писарь за порчу казённой бумаги получал от своего начальника не токмо выговоры, но и затрещины. Постепенно поднатаскался и в грамматике. О производстве в следующий чин Василь Фомич и не мечтал, но лелеял надежду переместиться в Петербург. Надежда была несбыточной, но всё-таки… чем чёрт не шутит! Фортуна – дама капризная и загадочная. Какому провидцу ведомо, как завтрашний день обернётся? В Петербурге он бы и при своём малом чине сумел бы хорошо обернуться. Одно слово – столица, в ней все концы сходятся. Углядел же его управитель рудника, почему министр не приметит. Вот принесут Его Высокопревосходительству документ на прочтение, оне прочтут и изумятся. Кто ж это так превосходно пишет? Велит разыскать. Ему и донесут, есть, дескать, далеко на Алтае, в Змеиногорском Бергамте такой-сякой секретарь, коий изумительно владеет каллиграфией. И прикажет его превосходительство забрать такого-сякого секретаря в свою канцелярию. Не токмо ради тщеславия и корысти лелеял Василь Фомич надежду о Петербурге. (Имелись-таки крупицы и тщеславия, и корысти!) Как водится у чиновников низших классов, едва сводящих концы с концами, был Спицын обременён семейством. (Зачем только женятся да нищету плодят?) Старший сын Пётр был пристроен, служил сержантом в Барнаульском гарнизоне, ожидал производства в прапорщики. Два малолетних сына подрастали, но о них отец мало беспокоился. Сыновья учились в арифметической школе, уж коли отец получил офицерский чин, получат и они. Судьба дочерей, шестнадцатилетней Верочки и осьмнадцатилетней Анюты, терзала отцовское сердце. Приличные женихи в Змеиногорске не водились. Горные и гарнизонные офицеры были частью женаты, частью такие вертопрахи, что спаси бог! Среди купечества приличной партии также не просматривалось. Невзрачный человечишко, готовый ради чина сапоги начальству чистить, мнил, что именно начиная с него его род станет благородным. Тля, вошь ничтожнейшая для превосходительств и сиятельств имел дерзновенную мечту: если не дети, то внуки сравняются с их превосходительствами и сиятельствами. Выдать дочерей за унтеров, тем паче мастеровых или безгильдейских купцов означало крушение чаяний, налагало позорное пятно на благородное имя Спицыных. Хотя и дозволялось унтеру за двенадцать лет беспорочной службы получить чин, Василий Фомич по себе знал, как эти чины раздаются. Чин се дворянство. Жизнь вне дворянства представлялась Василию Фомичу тусклой и неудачной. Он согласился бы и на купца второй гильдии, ибо сих купцов запрещалось сечь розгами. Супруга Домна Ильинична шептала по ночам:
– Ну, и выдадим за унтера, так что с того. Я ж за тебя за унтера вышла. А в девках засидятся… чего хорошего? Кто перестарка возьмёт?
Супруг ни в какую не соглашался.
– Съездить бы вам в Барнаульский посёлок да пожить зиму. Хотя и посёлок, а всё горное начальство в нём обитает.
Домна Ильинична спорила.
– Уж лучше в Бийск. Бийск – город уездный. Тамочки и войско большое стоит, значит, и офицеров много, и купечества поболе.
Ни денег на поездку, ни родичей для жительства в Барнаульском посёлке или Бийске у Спицыных не имелось. Дабы поддержать достаток семьи и насобирать дочерям на приданое, Домна Ильинична с обеими девицами вязала для продажи тёплые вещи, а летом выращивала и солила капусту.
Хлопала входная дверь, слышались голоса офицеров. Мысли Фролова витали не в облаках, а спустились на десятки саженей под землю, в кунстштат Вознесенской шахты. Там они находились почти постоянно, выбираясь на поверхность на непродолжительное время.
В кабинет входили офицеры, почтительно здоровались, рассаживались вдоль стены. Доклад начал гиттенфервальтер Алоис Николаевич Лампрехт. Старший Лампрехт звался немецким именем, но русское отчество от него образовывалось с трудом, потому сына его для удобства величали Николаевичем. За глаза и среди горных чинов и унтеров мастеровых Лампрехта прозывали Гусаром. На «производстве работ» горным чинам дозволялось ходить без эполет и шпаги. Но Алоис Николаевич носил и шпагу, и шпоры, а на зелёном форменном кафтане у него сверкал серебряный значок, присланный Кабинетом в поощрение «за беспорочную службу».





